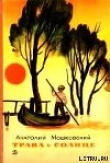Текст книги "Зажечь солнце (СИ)"
Автор книги: Hioshidzuka
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Закончив плести, женщина довольно сухо желает дочери спокойно спать этой ночью, равнодушно и очень быстро целует в лоб и тоном, не терпящим возражений, говорит ложиться спать быстрее, после чего так же спокойно и быстро поднимается с постели и идёт к двери.
Когда леди Ульрика выходит из спальни, Деифилия понимает, что снова дышит спокойно. Она кладёт Сванхильду рядом с собой и сама забирается под одеяло. В комнате тепло, но Дее не страшен даже самый ужасный холод. У Сванхильды тёмные вьющиеся волосы, которые Деифилия расчёсывает каждый вечер и каждое утро, заплетает в косы и укладывает в сеточку для волос – из серебряных бусин и синего и голубого бисера. У куклы есть даже сшитые Деей специально для неё рукавички – белые, обшитые остатками того меха, который ушёл на перчатки самой Деифилии.
Девочка с некоторым удовольствием разглядывает своё маленькое царство.
У Деифилии Ярвинен сто тридцать четыре фарфоровых куклы. Все, как на подбор, очень красивы. Дея играет с ними так аккуратно, что сохранились даже те, что были подарены ей ещё до того, как юной ландграфине исполнилось полтора года. Но ни одна из её фарфоровых кукол не сравнится по красоте с той единственной хрустальной, которой девочка дорожит, пожалуй, почти так же сильно, как и Сванхильдой. С той самой Сванхильдой, которую подарила ей тётя Эйдин на четвёртый день рождения.
Но девочка не знает даже, кто принёс её – прекрасную хрустальную куклу. Она нашла её одной длинной зимней ночью в своей комнате. Не было ни записки, которые всегда пишет дядя Вигге, когда что-то ей дарит – хотя куклу бы он вряд ли ей подарил, – ни гравировке на самой кукле, как делают многие. Правда, тётя Вигдис подарила бы ей скорее книги, а отец преподнёс куклу при личной встрече, а не положил бы её на кровать, не оставив практически ничего, по чему можно было бы вычислить дарителя.
Была лишь прядь чьих-то вьющихся волос – красная, даже багровая на первый взгляд, но, как оказалось, когда Деифилия смыла с них кровь, совсем светлая. Светлее, чем у кого-либо в Нивидии. И маленький букетик из незабудок. Дее нравятся эти цветы. И ей ужасно интересно, кто именно принёс ей этот подарок.
========== I. Глава пятая. То, что случилось близ форта Аэретт. ==========
Если спросить Драхомира Фольмара, почему он ринулся в бой – всеми обходными путями, которые только можно было придумать, – тот, скорее всего, ответить не сможет. Возможно, случилось это потому, что никто лучше него не знал подземелий форта Аэретт. Возможно, потому что несколько дней назад он поспорил с Сонгом о том, что ему будет по плечу сделать одну вещь с Изидорским главнокомандующим, а Гарольд решил не брать его в поход. Возможно, в том, что отец говорил, что будет брать крепость Р’Герт, а Драхомиру тоже хотелось хоть в чём-нибудь поучаствовать. Возможно, в том, что люди умирали и просили о помощи…
Кто поймёт, что к чему, когда огненный вихрь славы уже закружился вокруг тебя? Какой идиот будет сомневаться, медлить, осторожничать? Кто не ринется в самую гущу событий просто потому, что там промелькнёт призрак грядущей победы? Кто останется стоять на месте в тот момент, когда решается судьба всего мира? Возможно, Гарольд и мог стоять в стороне, когда его просили не вмешиваться: спокойно наблюдать за тем, как исчезают в пламени сражений, в смраде войны целые крепости и города. Возможно, Сонг мог подчиняться нелепым приказам, когда мир погружался в пучину ненависти и безразличия, погружался с каждой минутой всё быстрее, всё неизбежнее. Возможно, отец знал лучше – когда можно вмешиваться, а когда лучше выждать, когда стоит остановиться, прекратить борьбу, когда нужно заставить врага сдаться, а когда нужно проявить к нему милосердие. Даже если тот до этого вырезал целые поселения, вымораживал сердца или выжигал дотла души. Даже если тот не заслужил милосердия. Возможно, оставить этого врага в живых было лучше, даже правильнее. Но это было так чертовски несправедливо! Драхомир не мог стоять в стороне, не мог слушаться приказов, не мог слышать тех слов, которые едва ли мог подобрать отец, чтобы объяснить… Его сердце болело, когда речь заходила о людях – живых людях, которые умирали там сейчас… Ему хотелось изменить мир, чтобы не было в нём больше боли. Хотелось помочь – до безумия хотелось помочь! И он не понимал, почему отец ждёт так долго. Почему вообще ждёт! Драхомир не понимал, а, возможно, и не хотел понимать сторону отца – мать всегда говорила ему жить по справедливости, по совести. А совесть говорила Миру, что не вмешаться было нельзя. Не вмешаться… Он сам бы себя не смог уважать, если бы не сделал того, что сделал… Ведь никто бы не помог им! Никто не пришёл бы на зов помощи, никто не ринулся бы через форт Аэретт, наперерез изидорским войскам, никто не вонзил бы меч в грудь полковнику Кайлу. Никто не спас бы ту шестилетнюю девочку с годовалым братом на руках. Никто не спас бы тех храбрых мальчишек, готовых защищать своих младших сестёр и братьев. Никто не остановил бы падение северной башни форта на поселение людей – изгнанных войной из своих домов в других городах. Никто не спас бы их жизни. Никто. Никто и никогда. Каких-то нищих оборванцев бы посчитали никчёмными, ненужными, бесполезными, недостойными жизни. Никто не обратил бы внимания на то, что их жизни оборвались? Их даже не стали бы хоронить – они так и остались бы погребёнными под руинами Аэретта. Разве это было бы справедливо? Что все эти люди умерли бы? И та синеглазая девочка, и женщина, прижимавшая к груди шестерых детей, и мальчишки, готовые идти против изидорской армии с камнями в руках, и хромая старуха с огромным горбом, которая смотрела на Драхомира с такой мольбой, с такой надеждой… Все они погибли бы. И всё из-за паршивой стратегии какого-то там генерала, посчитавшего их ничем?!Так почему же Драхомир обязан чувствовать себя таким виноватым? Ничего не изменишь… Да и, по правде, Мир ничего не хотел менять – разве стоят погоны и почести множества человеческих жизней? Разве стоят они хоть одной человеческой жизни? Даже победа в войне этого не стоит. Что бы ни говорил Драхомиру отец. Мир Астарн просто не мог оставаться в стороне в тот час, когда решалась судьба тех, за кого никто больше не заступится. Разве так его учили поступать? Разве он простил бы себе, если бы все те люди погибли из-за его трусости, нерешительности? Из-за того, что он просто выполнял бы приказ не вмешиваться… В конце концов, он Астарн, а не какой-то вшивый Малитерн. У него есть гордость.
По правде говоря, всё должно было произойти совсем не так, как произошло в итоге.
Если рассуждать логически, всё, что провернул случайно Драхомир, удалось как нельзя лучше. Фларгеттская часть изидорских войск была демобилизована и, пожалуй, демобилизована надолго. Форт Аэретт не был уничтожен и разрушен долгими осадой и последующим штурмом и годился к дальнейшему использованию – пусть и после некоторой реконструкции. И люди – они были живы. И в их глазах появилась надежда, которой не было до этого…
Разве можно было назвать ошибкой и таким уж ужасным проступком то, что спасло столько жизней?
Драхомир Фольмар не понимает, почему всё получилось именно так, почему стало необходимостью – пронзить мечом полковника Кайла. Просто так получилось… Он сам испугался себя, когда кинулся к Кайлу и убил его. Глупость. Да и только. Настолько смешная, настолько невозможная, что только такой идиот, каким был Мир, мог такое допустить. Отец никогда не позволял себе необдуманных действий. И потому он – один из шести генералов Интариофа. И потому Миру никогда таким не стать – потому что все мысли приходят к нему уже тогда, когда дело сделано, когда нельзя ничего изменить, когда уже поздно.
Драхомир стоит перед Гарольдом и ему только теперь думается – как обычно оно и бывает, – что вмешиваться в ситуацию так явно не стоило. Но уже слишком поздно для этого. Остаётся только раскаяние. Только вот и его в Фольмаре так мало, что едва ли Гарольду хватит его. Смерть своего военачальника Сибилла Изидор никогда не простит. Все проблемы от неё – от этой вздорной, самонадеянной бабы, решивший, что может перевернуть вверх дном порядки Интариофа!
Он сжимает кулаки до того момента, как выступит первая кровь, и ждёт. Ждёт, что именно скажет Каратель.
Но Гарольд молчит. Что же… Леди Мария тоже всегда молчит, когда Драхомир виноват. Ждёт, когда Мир осознает свою вину… Вина… Да Фольмар постоянно её осознавал! Перед леди Марией, перед Гарольдом, перед отцом… За то, что поступает жестоко или аморально, за то, что не выполняет приказов и требует объяснений каждого, за то, что ему никогда не стать столь же значимой фигурой… Какой прок был от вины? Лишний груз, не позволяющий двигаться дальше – кажется, так сказал как-то Киндеирн леди Марии.
Будь Драхомир младше – он бы кинулся на колени и стал бы выпрашивать прощение, уверяя, что подобного больше не повторится. Будь Драхомир младше – всё было бы проще. Его поступок кто угодно расценил бы за ребячество, за детскую выходку, шалость, которую Астарну вполне можно было бы простить. Но сейчас всё иначе. И за любой поступок нужно отвечать. Даже если он был бы повторён много сотен раз – и даже больше. Просто потому, что это было бы справедливо…
Гарольд Анкрамине молчит, а Драхомир не в силах себя заставить заговорить первым. И самое страшное – признаться, что ни капельки ему не стыдно за весь ворох проступков. Стыдно бывает тогда, когда совершенно не хочется это повторять. Но Мир понимает, что вряд ли поступил бы иначе и теперь, уже зная последствия. И пусть Гарольд – «владеющий войсками», но он-то – «драгоценный мир»… И должен поступать достойно своего имени и своего рода. Даже если никто не поймёт.
Гарольд Анкрамине – герой. И командующий той военной организацией, к которой привязан Драхомир. Гарольд – брат мужа императрицы и брат её друга. Старший из братьев Анкрамине. Он рыцарь крови императрицы. Конечно, одно его слово стоит больше, чем тысяча слов Драхомира. Конечно, стоит понимать, насколько много он – носящий титул Каратель – сделал для Интариофа. За плечами Драхомира Фольмара нет и половины тех заслуг, которые есть за плечами у Гарольда.
– Мне жаль, что всё так вышло, – пытается оправдаться Мир. – Я, право, не думал, что мой план…
На ум приходит мысль, что его никто не поймёт. Ни Каратель – милый, добрый Гарольд, что воспитывал его с самого детства, не жалея сил и нервов, – ни отец – этот могущественный человек, которому не было равных во всём Интариофе, и который с самого детства восхищал Драхомира своим могуществом, своей силой, – ни мать – эта самоотверженная женщина, чуткая и добрая…
Пощёчина. Каратель бьёт со всей силы. Не жалея. Да и можно ли было жалеть?.. Должно быть, провинность Фольмара на этот раз так велика, что даже у Гарольда сдают нервы – Драхомир никогда не мог понять, как именно его проступки оценивают.
Руки тянутся к лицу непроизвольно, закрывая от новых ударов. Нельзя было этого делать, но Драхомир делает. Это противоречило всему – герцогской выдержке, уважению, всем правилам… Стоять надо было ровно. Не пристало герцогу пытаться скрыться от заслуженного наказания. Не пристало герцогу показывать, что он чего-то боится. Не пристало герцогу чувствовать себя ниже кого-либо – даже эмира, брата мужа императрицы, даже наставника, который во всём был главнее… Не пристало герцогу… Как будто герцог имел право хоть на что-нибудь.
– Предатель! Ублюдок! Ренегат! – зло шипит Гарольд, когда наотмашь бьёт всё снова и снова.
По рукам, закрывающим лицо, по плечам… Довольно больно, но при этом вполне терпимо. С регенерацией Мира даже синяков завтра не останется. Ни на плечах, ни на руках, ни на лице… Это кажется куда более унизительным, чем если бы Гарольд приказал выпороть его на площади. Словно Драхомир не заслуживает даже того, чтобы к нему относились серьёзно, чтобы к его проступкам относились серьёзно.
Каждый новый удар лишь обостряет это чувство стыда. Каратель даже не потребовал снять рубашку перед этой унизительной экзекуцией. Он ничего не потребовал. Ничего. И не стал говорить о проступке, не стал объяснять, как это обыкновенно бывало. Гарольд просто был в ярости.
Каждый новый удар заставляет сжаться. Потеряться под напором это испепеляющей ярости, которая накрыла Анкрамине с головой. Забыть про герцогскую выдержку, про пресловутую астарнскую гордость, про величие Киндеирна. И сжаться, спрятаться, закрыться от ударов и жестоких слов. Забыться… Прокричать Гарольду вслед самые жестокие слова, которые только придут на ум, закрыться от новых тычков и оплеух и высказать всё, что Драхомир думает об этих глупых приказах.
С каждым новым ударом его раскаяние тает всё сильнее, растворяясь в иллюзорной дымке воспоминаний.
Вместо раскаяния приходит лишь самоуверенная гордость от его – Драхомира – проступка.
Каратель выходит из комнаты столь стремительно, что Мир не успевает даже сообразить, что удары прекратились. Осознание этого факта приходит секунд пятнадцать спустя – когда дверь захлопывается. И Фольмар обессиленно опускается на колени, так и не убирая ладони от своего лица.
Завтра не останется даже синяков. На Мире всё заживает, как на собаке. Самые сильные раны исчезают сами собой за несколько суток. А уж синяки… Гарольд не пускал в ход ни проклятий, ни каких-либо заклинаний – а уж просто механические повреждения заживают на Драхомире ещё быстрее.
Останутся лишь слова… Предатель. Ублюдок. Ренегат. И ничего, кроме слов.
Ренегат… Так Каратель однажды уже называл его. Давно. Драхомир толком не помнит свою провинность в тот день – кажется, он был ещё слишком юн, чтобы задумываться о том, что творит. Только слова Гарольда поразили его. Мир до сих пор помнит свой шок от этих слов в тот день. Только вот теперь его ренегатом и предателем считают все. И нельзя забыть об этом, списав всё на вспыльчивость Анкрамине.
Драхомир не может толком понять, чем он в этот раз заслужил подобное оскорбление. В конце концов, Кайл не был ни осведомителем, ни перебежчиком – он был просто очень жестоким командующим вражеской армии. Быть может, он заслуживал суда. Но разве Киндеирну не позволено самому судить? Почему его сын не имеет права вынести приговор самостоятельно? Интариофу станет только легче от того, что такой ужасный человек не будет ходить по нему.
Интариофу станет только лучше. Так почему же Драхомир «предатель», если мир только выигрывает от его авантюр? Так почему же товарищи смотрели на него с таким упрёком, а в глазах Гарольда плескалась ярость? Так почему же все считали своим долгом заставить Мира раскаиваться? Подумаешь – полковник Кайл! Велика важность! Подумаешь – любимец Сибиллы Изидор! Великая княжна далеко не так сильна, как кажется. Она просто женщина – воинственная, непреклонная, но… В общем-то, обыкновенная – в таком случае куда больше следовало бояться царевну Варвару с её научными экспериментами или госпожу Меррон с её теориями, или тётю Равенну, или Ветту Певн… Ту Ветту Певн, что была женой племянника Сибиллы. Ту Ветту, что убила мужа и почти нагая вышла к вражеской армии – навстречу Киндеирну. Драхомир однажды видел Ветту. Крепкая, выносливая, скорая на гнев и на расправу, красотой подобная языческой богине – военными победами Певны обязаны ей столь же сильно, как дипломатическими Милвену. Быть может, она куда больше заслуживала этот ореол страшных легенд, нежели Сибилла?
Если так подумать, бояться стоило слишком многих. Так что страх терял свою силу – когда его слишком много, он перестаёт быть чем-то, что удерживает от глупостей, становится тем, что только разжигает азарт. Пропадает весь смысл страха, если бояться слишком многого.
Сибилла была просто великой княжной. Красивой, обаятельной, упрямой, по-изидорски злопамятной, но в конечном счёте она была обычной. Просто женщиной. Хрупкой, болезненно самолюбивой и гордой… В ней не было того первородного безумия, присущего Варваре, Меррон, Равенне или Ветте. Её глаза не горели тем тёмным огнём смерти и упоения этой смертью, наслаждения страданиями, безудержного любопытства к гибели. Она хотела власти – как многие. И поэтому её можно было понять.
Конечно, Сибилла была опасна, но… А кто нынче не опасен? И всё же, она не была той, кого следовало бояться.
Наверное, единственное, с чем Мир может вполне спокойно согласиться из слов Гарольда, то это то, что он ублюдок. Ублюдком его звали все. Драхомир порой думал – из-за характера или из-за третьей жены отца, что родила его? Елизавета Фольмар – известнейшая проститутка и авантюристка из Города Пороков! А он – её сын. Разве может у такой женщины родиться хороший ребёнок? Пусть отец и обвенчался с Лизкой Фольмар, все считали Мира обыкновенным бастардом. Несмотря на все попытки леди Марии дать пасынку должное воспитание и образование.
Смех разрезает тишину, словно нож, который режет масло. Нелепый смех, что рвётся из неведомых Миру глубин его сердца. Фольмар едва ли может объяснить, почему ему так сильно хочется хохотать – над всем, что произошло в этот день, над своей жизнью, над гневом Гарольда, над неизбежным недовольством отца, над своими страхами…
Потому что в голове пульсирует лишь одна-единственная мысль: самое страшное чудовище здесь он сам.
***
Перенесясь на Еромину в надежде передохнуть некоторое время и собраться с мыслям, первое, что видит Драхомир – фигуру отца. Почувствовав перемещение отпрыска, старший Астарн оборачивается и делает несколько шагов вперёд. Сколько Фольмар себя помнил, у Киндеирна всегда была тяжёлая поступь. Кажется, из-за того, что отец при сражении рядом с рекой Вай-Разе был серьёзно ранен в ногу. Хромоты не возникло, но с тех пор походка Киндеирна сделалась тяжеловесной, словно бы отец весил куда больше, чем это было на самом деле.
То, что Киндеирн решил поговорить с сыном и для этого перенёсся с любимого Сваарда на Еромину – не слишком хороший знак. Сваард был любимым уровнем отца – неприступные цитадели, отвесные скалы, огромные пустыни и степи, лежащие между крепостями, багровое небо и два солнца… Сваард успокаивал, словно убаюкивал… Отец любил там находиться подолгу – в детстве Драхомир не раз пролезал на этот уровень, забирался в цитадели и играл с оружием, золотом и драгоценностями… Особенно его забавляли рубины – они были словно застывшими каплями крови, застывшими на целую вечность, как смола деревьев превращается в янтарь… Можно было пробраться в одну из отцовских сокровищниц и рассматривать красивые камни разной огранки, самым ценным из которых был огромный чёрный рубин, золотые монеты, тяжёлые массивные перстни и острые булатные кинжалы, брать которые в руки запрещалось (впрочем, запреты мало останавливали)… А ещё были фарфоровые вазы, которые было так легко разбить… Сваард был раем. Самым настоящим холодным песчаным раем, где было так хорошо, так спокойно, как нигде больше во всём Интариофе. Среди крепостей, шахт и сокровищниц, среди багровых песков, под багровым небом… Там было очень холодно, но никогда не бывало снега. И реки никогда не замерзали, хотя вода в них была почти столь же холодной, как вода в озёрах императрицы. Лучше бы Драхомира вызвали туда, чем разговаривать здесь, на Еромине – на жаркой Еромине, где хочется лишь добраться до ближайших купален и погрузиться в ледяную воду. Но, видимо, за проступко Мира, его даже не хотели пускать на Сваард. Тот был только отцовским, тогда как Еромина была родовым уровнем.
Киндеирн не выглядит уставшим. Словно эта затяжная война и не измотала его вовсе. Он выглядит всё тем же монолитом, колоссом, которому ничего не страшно, который способен вытерпеть всё, что угодно. Сильным. Безупречно сильным и властным – таким, каким Драхомиру никогда не стать. Киндеирн выглядит даже не столько властным, сколько самим символом этой самой власти. И осознание этого факта заставляет Мира стыдиться себя ещё больше.
У отца каменное здоровье. Да и разве Киндеирн Астарн может быть другим – алый генерал Интариофа? Солнце… Драхомиру никогда не стать для своего мира тем, кем был для него отец – величественным, победоносным генералом, алым и незаходимым солнцем всего Интариофа, непререкаемым авторитетом… Драхомиру никогда не стать столь же великим. Никогда не стать настолько же солнцем. И порой это раздражает до ужаса. Потому что Мир никогда не переплюнет, никогда не сумеет стать лучше – сильнее, легендарнее, бесстрашнее…
Во взгляде отца Драхомир может увидеть злость, раздражение, ярость. Только вот… Их там нет. Даже если Мир старается этого не понимать. Даже если Мира захлёстывает обида – та глухая, болезненная обида, происходящая из самого сердца, застилающая глаза и не позволяющая видеть хоть что-нибудь. И он снова чувствует себя нескладным четырнадцатилетним подростком, не способным возразить, не способным скрыться от кого-либо, не способным контролировать собственные эмоции и порывы. Возможно, он так и выглядит со стороны. Ребёнком, что не может отвечать за собственные поступки в силу их непонимания.
– Ты слишком молод, мальчик мой… – низкий и глухой отцовский голос словно шелестит песками Сваарда.
Это вовсе не те слова, который Фольмар ожидал услышать. Ему казалось, что Киндеирн скажет куда больше, чем Гарольд – словарный запас у отца был куда обширнее, да и пользоваться им тот любил. Драхомир ожидал услышать уничижительную тираду в свой адрес – по поводу своего умственного развития в первую очередь.
Только взгляд у Киндеирна тяжёлый. Слишком тяжёлый – не рассерженный, его глаза не мечут молнии, в них не плещется гнев… Во взгляде Киндеирна сквозит обречённость. Не накрывающее с головой отчаяние, а та тупая боль, с которой справиться труднее всего. В зелёных глазах Киндеирна нет злости. Но это лишь половина правды. Вся правда в том, что и покоя в них нет.
– Ты слишком молод, горяч и самонадеян, мальчик мой, чтобы понять, какую беду сам на себя кличешь, – словно говорит алый генерал.
Но Драхомир не в том состоянии, чтобы хоть что-то услышать. Куда уж там, чтобы услышать так и не произнесённые слова…
Всё, что сказал сейчас отец, кажется ему вызовом. Тем, не принять который недостойно герцога, сына Гранд-генерала Интариофа. Драхомиру слышится в словах Киндеирна презрение, пренебрежение и самое страшное, что он когда-либо боялся услышать от него – разочарование. Разочарование в принципе было самым страшным, что только могло быть. И если в том, что мать никогда не может разочароваться в собственном ребёнке, Драхомир был уверен, то на счёт отца…
У алого генерала Интариофа много детей. И многие из них талантливее Фольмара во всём.
– Ты просто избалованный мальчишка, который считает себя самым умным, не видит опасности в своих словах и поступках и не слышит слова старших, – словно твердит взгляд зелёных глаз Арго Астала.
Возможно, отец чувствует, что Драхомир в данный момент мало расположен к разговору. Потому что он разворачивается и уходит – возможно в Ероминский замок, где, должно быть, его ждал Говард, послушный сыночек Катрины Шайлефен. Говард никогда не делал ничего, о чём его не просили – словом, с самого детства был удивительным занудой. Злость разъедает его душу, привязывается к нему сейчас слишком сильно, чтобы Драхомир хоть сколько-нибудь мог себя контролировать.
– Да делай, что угодно! – кричит он вслед Киндеирну. – Срывай из-за меня голос, лиши наследства, титулов – мне всё равно!
Надо отдать отцу должное – на этот раз обошлось без особенных нравоучений. Он сказал всего пару слов, которые никак нельзя было считать нравоучениями, и ушёл. Сохранив при этом самообладание. Впрочем, он всегда держался с безупречным достоинством, когда дело касалось важных вещей. Лицо Киндеирна в этих случаях становилось похоже на ледяную маску – спокойную и равнодушную. Только взгляд всегда становился особенно тяжёлым.
То, что мать слышала их не слишком хорошо сложившийся разговор, лишь ещё больше осложняло дело. Она всегда была хорошей – слишком хорошей, – но никогда его не понимала. Её тёмно-карие глаза смотрят на него с таким негодованием, что в первый момент Мир пугается, как бы её не хватил удар.
Леди Мария – не отец с его каменным здоровьем, расшатать которое даже Драхомиру Фольмару с его выходками не по силам. У Киндеирна стальные нервы и неиссякаемый запас терпения… И Киндеирн привык к тому, что всё может полететь к чертям в любой момент – и это ни капельки не будет от него зависеть.
Когда она обращается к нему, её голос дрожит – от гнева или волнения. Скорее всего, и от того, и от другого. Она кажется бледнее, чем обычно. И подходит к нему стремительнее, чем делает это всегда. Драхомир не знает, почему он огрызается в ответ на её слова. Должно быть, дело было в том, что за весь этот день он так устал выслушивать то, что ставят ему в укор. Должно быть, она сказала что-то такое, что становится последней каплей в терпении Астарна – леди Мария всегда отличалась вспыльчивым характером. Что-то с треском надламывается в его душе – потому что терпеть Фольмар больше не может.
В себя он приходит только тогда, когда леди Мария даёт ему пощёчину. Сколько их было за сегодняшний день? Хорошо ещё, что отец сдержался – Драхомир видел, как сильно хотелось Киндеирну его ударить за этот проступок. Бывали дни, когда Фольмару доставалось куда сильнее. Но почему-то именно сейчас ему кажется, что больше он просто не в силах выдержать.
Ни одного нового удара.
Ни одного нового упрёка.
Драхомиру порядком надоело уже это чувство навязанной ему вины, которую он не испытывал на самом деле.
Она хочет его ударить снова, но на этот раз Мир перехватывает её руку. Держит крепко за запястье. Возможно – появятся синяки, но ему сейчас плевать на это. И плевать на то, что она – не он и не его отец, которым ничего не будет от этой пары незначительных повреждений. На душе и без того слишком паршиво, чтобы терпеть ещё и это. Леди Мария хочет ударить его второй рукой, но Драхомир перехватывает и её. В груди просыпается глухое раздражение, с которым всегда тяжело справиться, а уж тем более после трудного дня. Мир отталкивает женщину от себя. И отталкивает довольно грубо.
И в его голове в этот момент не появляется и мысли о том, что когда-то в детстве, видя отношение Киндеирна Астарна к своей первой жене, он всегда считал это ужасно несправедливым, что всегда клялся себе, что никогда не повысит на неё голос, никогда не оттолкнёт, никогда не сделает что-либо из того, что делал отец – и что никогда не заставит её плакать. Почему-то в этот момент Драхомиру на это совершенно наплевать.
Должно быть, он похож на своего отца в этот момент. Только вот совсем не в тех вещах, в которых им гордится.
Быть может, дело было в дурных генах Елизаветы Фольмар? Той женщины, что так обожала танцевать в длинных юбках, одна поверх другой, и, смеясь, ела грейпфрут. Леди Мария говорила, что у Елизаветы не было чувства стыда. Леди Мария так же как-то говорила, что и Киндеирн не умеет чего-либо стыдиться. Так откуда же стыд мог взяться у Драхомира? Разве мог он чувствовать что-то подобное?..
– Хватит! – говорит Фольмар матери серьёзно. – Перестань. Я не собираюсь сейчас ни выслушивать твои упрёки, ни терпеть что-либо ещё.
Ему хочется добавить ещё и то, что нормальная мать не будет поднимать руку на своего ребёнка – пусть и на такого, каким он является. Хочется усмехнуться – цинично и холодно, как усмехается отец – и заметить, что, если уж так разбирать, то леди Мария вообще не имела никакого права его бить. Да что там – даже кричать на него. Хочется добавить, что… Хорошо, что он ничего не добавляет.
Потому что потом неизбежно стало бы ещё более стыдно. Достаточно и того, что он наговорил ей до этого. Достаточно и того, что он вышел из себя и сказал куда больше, чем имел право говорить с её-то нервами и больным сердцем.
Он не отец. Для него леди Мария в конечном счёте была женой – всего лишь женой. Отец не так давно женился на седьмой. А уж наложниц у него было, и вовсе, немерено. Но для Драхомира она была матерью. А это совсем другое. И требует, возможно, куда более трепетного отношения.
Но в данный момент Мир совсем не думает об этом. Ему плохо. Он чувствует себя настолько отвратительно, как не чувствовал, должно быть, ещё никогда в жизни. Всё в голове плывёт, не задерживаясь хоть сколько-нибудь долго. Все эмоции, все мысли… И воспоминания о сегодняшнем дне, о форте Аэретт, о гадалке из форта, что, гадая бесплатно ему в благодарность, пророчила ему в невесты – странно даже, что не в жёны, Астарны спокойно женятся, не делая из этого особенного события – девушку-дворянку из северных земель, что покрыты белым снегом…
– Хватит! – впервые за всю свою жизнь Драхомир повышает на мать голос. – Не смей поднимать на меня руку! Не смей отчитывать меня!
Он не говорит, пожалуй, и трети из того, что хотел бы сказать на самом деле. Повысить на неё голос – большее, что он только может сделать. Должно быть, он выкрикнул бы гораздо больше. Если бы не посмотрел случайно в глаза леди Марии.
Первая волна гнева исчезает так внезапно, что Мир едва может сообразить, что такое случилось. В голове на несколько секунд становится так пусто, что Фольмар едва не пугается этого. Просто он больше вовсе не чувствует себя обиженным, оскорблённым или что-то в этом духе. Обида исчезает, оставляя место для хлынувшего вместо не неё чувства вины. В какой-то момент он перестаёт считать себя безвинно пострадавшей стороной.
Остаётся только бледное и испуганное лицо – оно кажется Драхомиру слишком худым, не таким, какое оно обычно – леди Марии, её лихорадочным блеском сверкнувшие глаза… Только сейчас он вновь замечает её хрупкость, её слабость, только сейчас вспоминает об ужасном состоянии её здоровья и о том, что последние несколько месяцев даже отец старался лишний раз не говорить ей ничего резкого или грубого – правда, он старался не заговаривать с ней вовсе.
Она хочет что-то ему сказать, но сейчас Фольмар и вовсе не в состоянии что-либо слушать. Ему хочется уйти. Спрятаться где-нибудь и обо всём забыть. Ему кажется, что если он услышит сейчас звуки её голоса – приглушённого, тихого и слабого из-за болезни, – он просто не выдержит. Не выдержит и сорвётся снова. Потому что чувство вины заклокочет в нём с такой силой, что перерастёт в гнев. Снова.
– Не сейчас, пожалуйста… – уже тише говорит Мир.
В какой-то момент он начинает понимать, почему отец всегда уходит, когда ситуация становится слишком напряжённой, слишком трудной. И почему он старается исчезать до того, как сорвётся и наговорит лишнего. Уйти, сбежать, не допустить – это лучше, чем всю жизнь потом ощущать себя виноватым за одно-единственное неправильное слово.