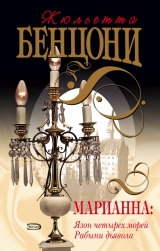
Текст книги "Язон четырех морей"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Вы любили ее? – вздохнула Марианна, чересчур поглощенная желанием узнать побольше, чтобы обидеться на некоторое пренебрежение, с которым Элеонора отозвалась о ее собственной внешности.
Ответ прозвучал словно выстрел.
– Я ненавидела ее! Господи! Как я ее ненавидела! И мне кажется, что и после стольких лет я еще чувствую к ней отвращение! Это из-за нее я в пятнадцать лет бежала из родительского дома с танцором-неаполитанцем из труппы, выступавшей на вилле. Но когда я была маленькой девочкой, я всегда пряталась за кустами в парке, чтобы посмотреть, как она проходит, всегда в ослепительно белом, всегда покрытая жемчугом и алмазами, всегда в сопровождении своего раба Гассана, несущего ее шарф, зонтик или сумку с хлебом, которым она кормила белых павлинов.
– У нее был раб?..
– Да, гигант-гвинеец, привезенный доном из Аккры, на Невольничьем берегу. Люсинда сделала его своим телохранителем, сторожевой собакой и, как я узнала позже, своим… палачом.
Голос миссис Кроуфорд стал слабеть, как пламя лампы, в которой кончается горючее. Затем старая дама пошарила в черной шелковой сумке, всегда висевшей на ее кресле, достала из серебряной бонбоньерки карамельку и долго сосала ее с полузакрытыми глазами, в то время как Марианна удерживала дыхание, чтобы не помешать ее размышлениям.
– Тогда мне казалось, что я люблю ее, ибо она ослепляла меня! Но затем…
– Как она выглядела? – прошептала Марианна, у которой этот вопрос буквально горел на губах. – Я видела только ее статую…
– Ах, знаменитая статуя! Значит, она еще существует? Конечно, она превосходно воспроизводит ее черты и формы тела, но не дает никакого представления о нюансах красок и жизненном огне! Если я скажу, что Люсинда была рыжей, вы разочаруетесь. Ее волосы лились жидким золотом и горели огнем, так же как громадные бархатистые черные глаза, а кожа напоминала слоновую кость и лепестки розы. Ее рот был как кровавая рана, открывавшая сверкающие жемчужины. Нет, никто не мог сравниться с ней в красоте! Так же, впрочем, как и в развращенности и жестокости. Любой не понравившийся ей человек или животное находились в опасности. Я видела, как хладнокровно убила лучшего в конюшне скакуна из-за того, что она упала с него, как по ее приказу Гассан до крови исхлестал кнутом горничную, припалившую при глаженье кружево. Приближаясь к ней, моя мать всегда сжимала пальцами в кармане передника четки. Да и сам ее муж, князь Себастьяно, будучи старше ее на тридцать лет, хотя и любил ее, и любил страстно, только уезжая, обретал душевный покой и отдыхал. Отсюда и его многочисленные путешествия, на три четверти года удерживавшие его вдали от Лукки.
– Тем не менее, – сказала Марианна, – у них был по меньшей мере один ребенок?
– Да, и она согласилась с этим, ибо признала необходимостью продлить род, но, когда она забеременела, ее настроение стало таким мрачным, что князь предпочел совершить еще одно путешествие, оставив ее единственной хозяйкой поместья. Хозяйкой, которую на протяжении семи месяцев никто не видел.
– Никто? Но… почему?
– Потому что она не хотела, чтобы кто-нибудь заметил, что она стала менее прекрасной. Все эти месяцы она провела взаперти, не выходя никуда, допуская к себе только своих горничных: мою мать, Анну Франчи, и Марию, мать Лавинии. И даже с ними она почти не разговаривала! И я вспоминаю еще, как случайно подслушала, когда мать, понизив голос, рассказывала отцу, что минувшей ночью донна Люсинда приказала тщательно закрыть окна и двери после того, как были зажжены свечи во всех канделябрах. Эта непонятная ночная иллюминация продолжалась, пока свечи не сгорели до конца… Однажды вечером любопытство оказалось сильнее меня. В десять лет я была проворной и гибкой, как кошка… Убедившись, что родители заснули, я вылезла через окно моей комнаты и побежала босиком к дому. Без особых трудностей я взобралась по плющу на балкон донны Люсинды. Сердце прыгало в груди, как козленок, ибо я была уверена, что родители никогда не увидят меня живой, если я попадусь. Но я хотела знать, и я узнала!
– Что же она делала?
– Ничего! В щелку между занавесями я увидела ее. На полу канделябры образовывали круг, и она стояла посередине перед статуей, которую вы видели, абсолютно голая. Зеркала отражали до бесконечности обе фигуры, белую и розовую, и Люсинда с разметавшимися волосами и струящимися по щекам слезами оставалась так часами, выискивая вызванные беременностью малейшие изменения в своем теле, сравнивая себя с мраморным двойником. И в этом зрелище, поверьте мне, было что-то такое устрашающе-притягивающее, что я больше никогда не решилась повторить эту вылазку! Впрочем, когда подошли последние недели, и речи не было о зажигании свечей. По ее распоряжению зеркала завесили, и у княгини царил мрак…
Задыхаясь от волнения, с расширенными глазами, Марианна следила за удивительным рассказом ее хозяйки.
– Она была безумна, да? – спросила она.
– Безумна от самой себя, да, несомненно! Но вне этого, вне безумной страсти, которую она питала к своей красоте, она вела себя довольно нормально. Так, например, рождение ее сына, дона Уголино, было отмечено бесконечными празднествами. Настоящий поток золота и вина хлынул на слуг и окрестных крестьян. Очевидно, донна Люсинда сияла от радости больше от того, что сохранила прежнюю фигуру, чем от рождения наследника! Какое-то время мы все верили, что для нашего дома наступила наконец эра подлинного счастья. Но три месяца спустя князь Себастьяно снова уехал в уже не знаю какие отдаленные земли, где его настигла смерть. Строительство маленького храма началось сразу же после его отъезда. Тогда прошло немногим больше года, как Маттео Дамиани принесли на виллу.
– Донна Люсинда терпела его присутствие?
– Не только терпела, но, когда родился ее ребенок, она практически с ним не занималась, а начала проявлять странную привязанность к маленькому бастарду… Она, как со щенком, игралась с ним, следила за тем, как с ним обращаются, как одевают, но особенно она находила своего рода извращенное удовольствие развивать низменные инстинкты в ребенке, которого поочередно то ласкала, то мучила, стараясь пробудить в нем вкус к жестокости и крови. Впрочем, сделать это было нетрудно: зерна падали на готовую почву. Когда я покинула виллу, Маттео к пяти годам уже превратился в маленького демона, соединявшего в себе хитрость и зверство… Судя по тому, что мне потом удалось узнать, он в дальнейшем развивал только эти две черты своего характера. Однако, будьте добры позвонить, малютка, чтобы нам принесли чай! Мое горло сухое, как пергамент, и, если вы хотите, чтобы я продолжала…
– Да, да! Вы недавно упомянули, что донна Люсинда стала причиной вашего отъезда.
– Я не особенно люблю вспоминать эту историю, но отныне вы занимаете ее место и имеете право знать! Тем не менее сначала чай, пожалуйста!
В полном молчании обе женщины занялись китайским чаем, который безукоризненный слуга сервировал очень быстро и без малейшего шума. Марианна, как и ее хозяйка, пила его с удовольствием, ибо в этой изящной и уютной комнате ароматный напиток навевал воспоминания о былом. Она вновь увидела себя маленькой девочкой, затем девушкой, сидящей на табурете у ног тетушки Эллис, чтобы отдаваться вместе с ней священному ритуалу, которым леди Селтон ни за что в мире не пренебрегла бы. Эта женщина в старинном чепце, эта мебель прошлого века и даже запах роз, вливавшийся в открытое окно, все напоминало Марианне счастливые часы ее детства, и она впервые за столько дней испытала ощущение разрядки и покоя, как она испытывала их давным-давно, когда после какого-нибудь огорчения или вспышки гнева тетушка Эллис гладила ее по голове и говорила ворчливым голосом:
«Полноте, Марианна! Ты должна понять, что все в этом мире можно достигнуть главным образом только собственным мужеством и настойчивостью!»
Эффект всегда был магический, и оказалось странным и утешительным вновь ощутить его с чашкой чая, поданного в чужом доме! Ставя на серебряный поднос цветастый фарфор, Марианна встретилась взглядом с внимательно смотревшей на нее миссис Кроуфорд.
– Чему вы улыбаетесь, дорогая? Я считала, однако, что рассказывала вам о таких мрачных вещах!
– Не из-за этого, сударыня… Просто, когда я начала пить чай, здесь, вместе с вами, мне вдруг показалось, что я вернулась в дом моего детства, в Англию! Но, умоляю вас, продолжайте, пожалуйста!
Печальный взгляд старой дамы задержался на лице молодой женщины, и ей показалось, что в нем появляется симпатия и нежность, ранее не замечавшиеся. Но Элеонора Кроуфорд ничего не сказала и повернула лицо к окну, являя Марианне свой профиль, полуприкрытый муслиновыми оборками чепца. Она продолжала свой рассказ, но таким глухим голосом, что Марианна сначала едва разбирала слова.
– Просто удивительно, сколько воспоминаний о первой любви могут оставаться живыми и мучительными, несмотря на бесконечную череду ушедших лет! Вы и сами это узнаете, когда постареете! Мне кажется, когда я думаю о Пьетро, что только вчера я бежала на встречу с ним у часовни Сан Кристофоро в сиреневых сумерках, среди аромата свежескошенного сена… Мне было пятнадцать лет, и я любила его. Ему исполнилось семнадцать. Он был красивый и сильный. Жил он в деревне Капанори, один, после смерти отца, медника. Он хотел жениться на мне, и каждый вечер мы встречались… до того вечера, когда он не пришел. Один вечер, второй… и никто в деревне не мог сказать, где он, но я сразу же почувствовала страх, сама не зная почему. Может быть, потому, что он никогда ничего от меня не скрывал! На третью ночь, не в силах найти покоя, я бродила по парку с единственной целью – приглушить мою тоску. Стояла невыносимая жара. Даже вода в бассейнах была теплой, а лошади в конюшнях стояли не шелохнувшись. И тогда, проходя возле павильона с нимфой, я услышала пение, если это могло называться пением! Это были скорей монотонные сетования, сопровождавшиеся глухим, отрывистым барабанным боем, иногда прерывавшиеся странными возгласами. Я никогда не слышала ничего подобного, но, чтобы осмелиться прогуливаться так близко около дома и особенно около павильона, что строжайше запрещалось слугам, я, очевидно, была не в себе. Какой инстинкт толкал меня тогда на запретную дорогу к поляне и маленькому храму? Я не знаю этого и теперь. Тем не менее я пошла туда, наугад, крадучись, хватаясь руками за скалы и так распластываясь на них, что мне казалось, я сама превращаюсь в камень. И когда огни храма ударили мне в лицо, я невольно попятилась, затем, очень осторожно, снова высунула голову наружу и… тогда увидела!
Снова молчание. Вся в напряжении, Марианна едва дышала из боязни нарушить то зачарованное состояние, в котором пребывала Элеонора. Она слишком хорошо помнила свой панический ужас, когда обнаружила руины и обнимающего статую Маттео Дамиани. Но она догадывалась, что испытание, которому подверглась эта женщина, было страшней ее собственного, и совсем тихо спросила:
– Вы увидели?..
– Прежде всего Гассана! Это он так пел. Он сидел на корточках на мраморных ступенях, зажав между коленями небольшой барабан в форме тыквенной бутылки. Громадными черными руками он бил по барабану, аккомпанируя своему вытью. Подняв голову вверх, он, казалось, стремился туда, к звездам, и в пламени освещавших внутренность храма факелов его черная кожа отливала бронзой, а золоченая набедренная повязка и варварские драгоценности горели огнем. Он сидел спиной к храму, за колоннами которого я могла разглядеть позолоченную кровать, обтянутую черным бархатом. А на кровати два тела, сплетенные в одно, предавались любви… Женщиной была Люсинда, мужчиной – Пьетро!.. Мой Пьетро! Я и теперь еще не понимаю, как не умерла тогда на месте… Как я смогла найти силы убежать! Больше никогда я не увидела Пьетро живым! На другой день обнаружили его тело, висящее на ветке дерева на холме. А через три дня я уехала со скоморохами!..
На этот раз Марианна несколько минут не могла произнести ни слова. Она так хорошо знала поместье, имя которого она носила, что этот драматический рассказ восприняла если не как пережитый ею, то, по крайней мере, как увиденный собственными глазами во всех его перипетиях. И она не удивилась, увидев, как старая дама кончиком пальца смахнула непрошеную слезу. Просто когда она почувствовала, что ее собеседница пришла в себя, она приготовила новую чашку чая и подала ей, прежде чем спросить:
– И вы никогда не возвращались туда?
– Да, в 1788 году, чтобы присутствовать при смерти моей матери, которая так и прожила всю жизнь безвыездно в поместье. Она очень давно простила мое бегство. В сущности, она была даже счастлива, что я вырвалась из этого проклятого дома, где она была свидетельницей стольких драм. Это она воспитала князя Уголино. При ней также случился пожар в храме, в котором Люсинда нашла ужасную, хотя и добровольную смерть. После пожара она надеялась на лучшее будущее, раз семейный демон в образе этой женщины наконец исчез. И некоторое время события, казалось, подтверждали это. Через год после ее смерти Уголино, ее сын, женился на очаровательной Адриане Маласпина. Ему было девятнадцать лет, ей – шестнадцать, и давно уже в округе не встречали более подходящей и влюбленной пары. Ради Адрианы, которую он обожал, Уголино укротил свою естественную необузданность и тяжелый характер. Он во многом походил на свою мать, увы, но волк превращается в ягненка ради молодой жены. Конечно, моя мать твердо верила, что время несчастий закончилось. Когда по прошествии чуть больше года после свадьбы Адриана оказалась беременной, Уголино окружил ее всеми вообразимыми заботами, не отходил от нее ни днем ни ночью, простер свое внимание даже до того, что приказал обматывать тряпками лошадиные копыта, чтобы их стук не возмутил ее отдых. А затем родился ребенок… И горе вернулось. Перед смертью моя мать хотела немного облегчить свою душу от давившего на нее груза, и, прежде чем исповедаться и получить отпущение грехов, она открыла мне тайну двойной драмы, случившейся весной 1782 года.
– Двойной… драмы?
– Да. В момент рождения князя Коррадо только две женщины находились рядом с донной Адрианой: моя мать и Лавиния. Но не думайте, – добавила она, увидев вспыхнувший в глазах Марианны огонь, – что моя мать открыла мне тайну этого рождения. Это не была ее тайна, и ей пришлось на распятии поклясться никогда ее не раскрывать, даже на исповеди. Она рассказала только, что в следующую после родов ночь Уголино задушил свою жену. Но он не смог даже прикоснуться к ребенку: опасаясь за его жизнь, Лавиния унесла его и спрятала. А через два дня князя Уголино нашли лежащим в конюшне с размозженным черепом. Смерть, конечно, приписали несчастному случаю, но на самом деле это было убийство.
– Кто же убил?
– Маттео! С тех пор как она стала женой Уголино, донна Адриана зажгла в Маттео страстную любовь. Он жил только ради нее, и он убил своего хозяина, чтобы отомстить за ту, которую любил. И с этого дня он с завидным вниманием заботился о ребенке вместе с донной Лавинией.
Внезапная мысль промелькнула в голове Марианны. Несмотря на то что Элеонора рассказала о ее любви к мужу, не могла ли донна Адриана ответить на страсть Маттео? Может быть, ребенок был его и именно сходство с ним вызвало ярость мужа? Но в таком случае почему он прежде не убил Маттео?
Она не успела задать вслух последний вопрос. Дверь салона отворилась, пропуская сопровождаемого Кроуфордом Талейрана, и трагические призраки Сант’Анна мгновенно исчезли перед заботами настоящего… Ибо, если опирающийся из-за приступа подагры на две трости шотландец с тщательно забинтованной ногой представлял зрелище скорей забавное, мрачная мина князя Беневентского ясно говорила, что новости снова были плохими.
Он молча поклонился женщинам, затем протянул Марианне распечатанное письмо, под которым угрожающе растянулась зигзагообразная подпись Наполеона.
«Г-н князь Беневентский, – писал Император, – я получил ваше письмо. Чтение его было для меня тягостным. Пока вы возглавляли внешние сношения, я закрывал глаза на многое. Я нахожу досадным, что вы предприняли демарш, о котором я желал бы и желаю забыть…»
Письмо послано из Сен-Клу накануне, 29 августа 1810 года. Не говоря ни слова, Марианна вернула его адресату.
– Вы видите, – с горечью сказал тот, складывая бумагу, – я в такой немилости при дворе, что мне вменяют в преступление попытку защитить друга… иностранца! Я огорчен, Марианна, искренне огорчен…
– Он желает забыть! – взорвалась молодая женщина. – Он, без сомнения, желает забыть также и меня! Но это ему так легко не удастся. Я не позволю ему погубить Язона. Хочет он этого или нет, а я увижу его, я сломаю все двери, даже если меня за это посадят в тюрьму, но клянусь памятью матери, что Его Величество Император и Король выслушает меня! И не позже чем…
– Нет, Марианна! – вмешался Талейран, удерживая на ходу молодую женщину, готовую броситься из комнаты. – Нет! Не сейчас!.. Судя по теперешнему настроению Императора, вы только усугубите положение Бофора!
– А вы предпочитаете, чтобы я ожидала, спокойно попивая чай, пока его убьют?
– Я предпочту, чтобы вы подождали хотя бы до суда. После вынесения присяжными вердикта времени будет достаточно, чтобы действовать. Поверьте мне! Вы хорошо знаете, что я так же, как и вы, хочу освободить нашего друга. Тогда умоляю вас: успокойтесь и ждите!
– А он? О чем он может думать в тюрьме? Кто приободрит его? Он должен знать, что я никогда не покину его! Хорошо, но я хочу увидеть Язона, я хочу проникнуть в Лафорс!
– Марианна! – воскликнул Талейран. – Как вы представляете себе это?..
– Очень просто, – вмешался Кроуфорд, – у меня знакомые во всех тюрьмах Парижа!
– У вас? – откровенно удивился Талейран.
Кроуфорд пожал плечами и со вздохом облегчения опустился в кресло.
– Полезная предосторожность, – хохотнул он, – когда кто-нибудь из друзей попадает за решетку. Я занимаюсь такой политикой уже давненько. Моими первыми… клиентами стали два тюремщика из Темпля, затем из Консьержери! С тех пор я продолжаю поддерживать подобные отношения и расширяю их. Это так легко с помощью золота! Вы хотите повидать вашего друга, маленькая княгиня? Хорошо, я, Кроуфорд, обещаю, что вы его увидите!
Дрожа от радости, Марианна не могла полностью поверить во внезапно обещанное ей чудо: увидеть открывающуюся перед ней дверь тюрьмы, вновь встретиться с Язоном, заговорить с ним, коснуться его, сказать… О, ей есть так много сказать ему!
– Вы сделаете это для меня? – охрипшим от волнения голосом спросила она, словно стараясь убедить самое себя.
Кроуфорд поднял на нее свои голубые фарфоровые глазки и улыбнулся:
– Вы так терпеливо слушали все мои истории, дитя мое, что заслужили награду! И затем: я не забыл, чем моя королева обязана вашим! Этот способ не хуже других, чтобы хоть частично оплатить ее долг!.. Я все устрою!.. Скоро вы войдете в Лафорс!..
Глава V
Странный заключенный
Фиакр покинул улицу Сент-Антуан и свернул за углом направо, в узкую часть улицы, – шагов тридцать длины, десять ширины, – возле зловещего низкого строения, за которым виднелось значительно более высокое здание. Ночь окутывала мраком несколько облупившихся домов, образовывавших этот ухабистый узкий проход, именуемый Балетной улицей. Тусклый фонарь, висевший над круглой каменной тумбой почти против входа в тюрьму, бросал отблески света на большие камни мостовой, грязные и скользкие от нечистот, которые согнал сюда прошедший перед вечером дождь. Забитый отбросами и грязью глубокий водосточный желоб посередине улочки делал ее неровную поверхность еще более опасной. Карету бросало из стороны в сторону. Кучер остановился возле тумбы с фонарем и ленивым жестом открыл дверцу со стороны Марианны.
Но Кроуфорд живо протянул трость и ручкой захлопнул дверцу.
– Нет! – проворчал он. – Вы сойдете с моей стороны! Позвольте мне выйти первому.
– Почему? Эта тумба такая удобная…
– Эта тумба, – холодно оборвал ее старик, – та самая, на которой убийцы разрубили на части тело госпожи Ламбаль!
С дрожью ужаса Марианна отвернулась от выщербленного камня и взяла предложенную спутником руку, стараясь не нажимать на нее. Приступ подагры у Кроуфорда прошел, но он ходил еще с трудом.
Увидев вышедших из фиакра людей, дремавший в грязной будке у входа часовой с ружьем встал.
– Чего вам надо? Проваливайте отсюда!
– Послушай, солдатик, – пробормотал Кроуфорд, к величайшему удивлению Марианны, с сильным нормандским акцентом, – не кричи так громко! Консьерж Дюкатель – мой земляк, и он пригласил к себе на ужин меня и мою дочку Мадлен.
Блеснувшая в свете фонаря большая серебряная монета сразу вызвала ответный блеск в глазах часового, который громко рассмеялся и сунул монету в карман.
– Так бы сразу и сказал, старина! Папаша Дюкатель славный малый, и, с тех пор как он тут, он со всеми ладит. И со мной. Сейчас откроет.
Мощным кулаком он постучал в обитую железом дверь над стертыми ступенями.
– Эй! Папаша Дюкатель! До вас пришли…
В то время как кучер разворачивал фиакр на узкой улочке, чтобы отъехать к Святому Петру и там ждать, дверь открылась перед человеком в коричневом колпаке с шандалом в руке. Он поднес свечу чуть ли не к носу визитеров и воскликнул:
– Ах, свояк Грувиль! Ты опаздываешь! Без тебя собрались садиться за стол! Входи же, моя маленькая Мадлен! Как ты выросла и похорошела!
– Здравствуйте, дядюшка! – промямлила Марианна с видом робкой провинциалки. Продолжая выражать свои родственные чувства, Дюкатель заверил часового, что принесет «добрую пинту кальвадоса» в благодарность за его любезность, затем закрыл дверь. Марианна увидела, что находится в тесной прихожей с несколькими выходами. Слева помещалась кордегардия, где четверо солдат играли в карты. Не понижая голоса, Дюкатель провел «земляков» в соседнюю комнату, совсем темную, и остановился у порога.
– Мое помещение выходит на улицу Короля Сицилии, – прошептал он. – Я проведу вас туда, сударь, и попрошу немного пошуметь, чтобы часовые не сомневались в нашем ужине. Я мог бы провести вас через этот ход, но всегда лучше, когда действуешь открыто, у всех на глазах.
– Я это сделаю и сам, милый Дюкатель, – пробурчал Кроуфорд, кивнув головой. – Отведите поскорей госпожу к известному вам заключенному.
Дюкатель сделал знак, что понял.
– Тогда сюда… Поскольку этот заключенный особый, его не пустили в новое здание. Он в комнате Конде… почти один…
Говоря это, Дюкатель открыл дверь, выходящую во двор, по которому он повел Марианну, в то время как Кроуфорд свернул влево, к так называемому кухонному двору, что подтверждалось сильным запахом пригорелого сала, куда выходило и обиталище консьержа.
Следуя за провожатым, Марианна с отвращением оглядывала приземистые строения, окружавшие этот двор, с разбитыми плитками и без единого дерева, за которыми открывалась собственно тюрьма: высокие, облупившиеся, мрачные стены, прорезанные узкими зарешеченными окнами. Из-за них доносилось какое-то ворчанье, кошмарные стоны, ужасный смех, хрип и храп – все эти звуки опасного и гнусного человеческого сообщества, сведенного здесь преступлениями и страхом. Четыре этажа жуликов, воров, несостоятельных должников, беглых и пойманных каторжников, убийц, все, что собрано агентами полиции среди парижского сброда. Это не была феодальная темница, подобно относительно благородному Венсенну, это не была государственная тюрьма, куда сажали за политические преступления. Это был грязный застенок, где заключенные томились в невероятной тесноте.
– Трудновато было найти ему более-менее спокойный уголок, – сообщил Дюкатель Марианне, проводя ее по лестнице, чьи кованые перила говорили, что во времена герцога Лафорса она была удобной и красивой, но сейчас ее скользкие, побитые ступеньки делали проход опасным. – Надо вам сказать, что тюрьма забита! Впрочем, она никогда не опустеет. Стойте, это здесь, – добавил он, показывая на дверь в глубокой нише.
Через открытое консьержем окошечко проникло немного света.
– К вам пришли, сеньор Бофор! – крикнул он в отверстие, прежде чем отодвинуть засов.
Затем, понизив голос, обратился к Марианне:
– Как оно ни хочется м’дам, но я могу оставить вас тут чуть меньше часа. Больше никак. Я приду за вами перед обходом.
– Благодарю вас, этого вполне достаточно.
Дверь открылась почти без шума, и Марианна, пробравшись внутрь, удивилась открывшемуся ее глазам зрелищу. Сидя по обе стороны грубо сбитого стола, двое мужчин при свете свечи играли в карты. В углу, свернувшись калачиком на одной из трех лежанок, в беспокойном сне стонал третий. Одним из игроков был Язон… Другим – высокий брюнет лет около тридцати пяти, мощного телосложения, с правильными чертами довольно красивого лица, насмешливым ртом и черными глазами, живыми и проницательными. Увидев вошедшую женщину, он сейчас же встал, в то время как пораженный ее появлением моряк продолжал сидеть с картами в руке.
– Марианна! – воскликнул он. – Вы? Но ведь я думал…
– А я думаю, что тебе не помешало бы встать, дружище! – насмешливо проговорил его товарищ. – Тебя никогда не учили, что перед женщиной надо вставать?
Молодой человек едва успел машинально подняться, как получил в свои объятия Марианну, бросившуюся ему на грудь, смеясь и плача одновременно.
– Любовь моя! Я не могла больше вытерпеть! Мне необходимо было приехать!..
– Что за безрассудство! Ты же выслана, может быть, тебя уже ищут…
Он возмущался, но руки его уже обхватили молодую женщину и прижали к себе. На его лице, слишком продубленном всеми ветрами океана, чтобы несколько недель заключения могли заставить его побледнеть, голубые глаза сияли радостью, которую его рот, похоже, отказывался признать. Его выражение, слишком душераздирающее для такого сильного мужчины, напоминало обиженного ребенка, который ничего не ждал и которому Санта-Клаус принес груду самых красивых игрушек… Он смотрел на Марианну, не в силах выговорить ни слова, и внезапно осыпал ее пылкими поцелуями. Что касается молодой женщины, то она не противилась, закрыв глаза, умирая от счастья. Она не замечала, что держащий ее в объятиях человек очень грязный, плохо выбрит, ибо брадобрей появлялся редко в этой ужасной гостинице, и в камере стоит неприятный запах. Для нее, видимо, даже рай не мог предложить ничего лучшего.
Стоя, один в дверях, другой у стола, Дюкатель и заключенный, затаив дыхание, в каком-то оцепенении смотрели на эту неожиданную любовную сцену. Но поскольку казалось, что у нее не будет конца, второй пожал плечами, бросил карты на стол и заявил:
– Ясно! Я здесь лишний! Дюкатель, ты приглашаешь меня на ужин?
– Будь уверен, парень! Прибор для тебя уже стоит!
Этот обмен словами заставил влюбленных немедленно отпустить друг друга, и они с таким сконфуженным видом посмотрели на присутствующих, что заключенный рассмеялся.
– Пошли! Не делайте таких рож! Любовь – это главное, а на остальное наплевать!
Но задетая Марианна испепелила шутника взглядом и с возмущением обратилась к консьержу:
– Неужели было необходимо заставить господина Бофора находиться в обществе людей…
– Таких, как я? Что делать, сударыня, тюрьма набита, и выбирать не приходится! Но мы не такие уж плохие парни, не правда ли, дружище?
– Нет, – сказал Язон, который не мог удержаться от улыбки при виде негодующей мины Марианны, – могло быть гораздо хуже! Позволь представить тебе…
– Брось! – оборвал его заключенный. – Я и сам это сделаю. Перед вами, милая дама, подлинный галерник, как нас называют в ваших салонах, Франсуа Видок из Арраса, уже трижды приговоренный к каторге и на пути к возвращению туда! Примите уверения в совершенном почтении, как пишут в письмах! Пошли, Дюкатель! Я подыхаю с голода.
– А этот? – бросила разъяренная Марианна, показывая на темную массу, по-прежнему шевелившуюся на своем ложе и испускавшую невнятное ворчание. – Вы не берете его с собой?
– Кого? Аббата? Он вообще чокнутый, а говорит только по-испански. Он вас не стеснит! Да его и будить жалко: у него такие красивые кошмары! До скорого!
И, сопровождаемый почти с уважением консьержем, странный заключенный, который, казалось, чувствовал себя как дома, покинул камеру, чтобы идти ужинать к своему тюремщику, словно это была самая естественная вещь в мире.
– Вот это да! – воскликнула Марианна, с изумлением глядя, как он выходил. – Но кто этот человек?
– Он же тебе сказал, – начал Язон, снова обнимая ее, – завсегдатай каторги, постоянно убегающий и снова попадающийся, один из тех, кого здесь называют рецидивистами.
– Он… убийца?
– Нет, просто вор. Убийцей здесь считают меня! – печально сказал Язон. – Что касается его, то это забавный малый, но я ему обязан жизнью.
– Ты?
– Увы, да… Ты не знаешь, что это за тюрьма! Это преисподняя, населенная демонами! Все, что есть подлого, жестокого, отвратительного, заключено здесь и подчиняется единственному закону: праву сильного. Я иностранец, хорошо одет, этого достаточно, чтобы меня сразу же возненавидели! Без Франсуа меня исподтишка убили бы. Он взял меня под свое покровительство, а здесь его репутация ценится высоко. Он умеет укрощать любых хищников. Кстати, этот бедняга, что спит там, тоже обязан ему своим существованием! Можно сказать, что он великий мастер по организации побегов! Даже тюремщики уважают его, ты, впрочем, сама видела.
Марианна понимала гораздо лучше, чем Язон это мог себе представить, какой опасности он избежал после прибытия в Лафорс. Единственная ночь, проведенная ею в тюрьме Сен-Лазар, оставила в памяти неизгладимый след, и иногда, в дурных снах, она снова видела ужасное лицо Вязальщицы, девки, которая хотела убить ее просто потому, что она было молода и красива. Ей представились ее желтые глаза, зловещая улыбка и самодельный нож, которым она так хорошо владела.
Вдруг лежавший на убогом ложе бывший аббат с криком подпрыгнул и сел. Марианна увидела истощенное, бледное лицо с большой бородой и горящие безумием глаза, с ужасом смотревшие на нее.
– Tranquilo! – очень быстро шепнул Язон. – Es un’amiga![2]2
Спокойно… это друг (исп.).
[Закрыть]
Аббат покачал головой, вздохнул и покорно вновь улегся, повернувшись спиной к молодым людям.
– Вот, – сказал Язон весело, – он больше не шевельнется! Это человек благовоспитанный, он… но оставим все это, идем, сядь рядом со мной! Позволь насмотреться на тебя! Ты такая красивая!.. Помолчим.
Он увлек ее к сбитой из досок лежанке, аккуратно покрытой изъеденным молью одеялом, и усадил, не отрывая от нее жадного взгляда. По правде говоря, скромное платье из цветного коленкора, наглухо закрытое и типично провинциальное, не соответствовало его восторгу, но никогда, даже когда она носила волшебный наряд и сказочные драгоценности, Язон не смотрел на нее так. Это было одновременно и восхитительно, и невероятно волнующе, так волнующе, что Марианна не смогла сдержаться. Она прижалась губами к колючей щеке.








