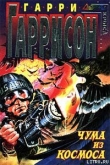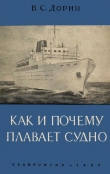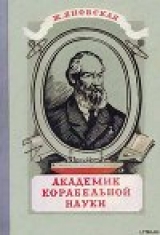
Текст книги "Академик корабельной науки"
Автор книги: Жозефина Яновская
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)

АКАДЕМИК КОРАБЕЛЬНОЙ НАУКИ
«Наука знает в своем развитии немало мужественных людей, которые умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки всему».
И. В. Сталин
В ГОРОДЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

– В этот вечер мы все собрались у адмирала Корнилова. Враг был близко. Соединенные силы англичан, французов и турок подошли к Севастополю и высадили десант. Штурмом с суши и с моря они хотели взять наш город. У них было вдвое больше кораблей, орудий и людей. И вот, чтобы закрыть доступ вражеским судам к городу, командование решило часть севастопольского флота затопить у входа в бухту.
Тяжело было нам, морякам, услышать такой приказ. Русские корабли, в которые мы вложили столько сил, энергии и знаний, мы сами, своими руками должны были уничтожить.
Но это нужно было сделать.
На другой день корабли, назначенные к затоплению, были выстроены в одну линию у входа в бухту, между Константиновской и Александровской батареями. Это были линейные корабли «Уриил», «Селафаил», «Варна», «Силистрия», «Три святителя» и фрегаты «Флора» и «Сизополь».
Ровно в 6 часов вечера 10 сентября 1854 года на вышке Морской библиотеки взвился трехцветный флаг. По этому сигналу с кораблей на берег стали свозить орудия, снаряды, продовольствие.
Так прошел весь вечер и ночь. А на рассвете матросы прорубили на кораблях ниже ватерлинии большие отверстия. В отверстия потоком хлынула вода, и корабли стали погружаться в море. Первой исчезла «Варна», за ней – «Силистрия» и «Сизополь», потом – «Уриил» и «Селафаил». «Флора» долго держалась на воде, но затем и она медленно пошла ко дну. Только корабль «Три святителя», несмотря на пробоины, не тонул. Тогда был отдан приказ кораблю «Громоносец» подойти к «Трем святителям» и расстрелять его из орудий. Лишь после третьего попадания скрылся под водой корабль «Три святителя». И только концы мачт виднелись на том месте, где недавно стояли семь кораблей.
Больно было смотреть на эту картину. Многие люди плакали.
Зато когда был бой 5 октября с союзной эскадрой, мы отплатили им сполна.
Бой начался в 7 часов утра. Вражеский флот подошел к входу в бухту и открыл огонь по нашим батареям. У них было 1340 орудий с одного борта, а у нас на береговых фортах всего 115. Но моряки стояли насмерть. Каждый бастион был для нас тот же корабль, только крепко стоящий на якоре.
Вскоре от частой стрельбы орудия нагрелись так, что их беспрестанно приходилось поливать водой. Все заволокло пороховым дымом, и только по вспышкам огня орудий неприятеля можно было судить о месте нахождения вражеских кораблей. Падали убитые и раненые, но их заменяли новые люди. Жители Севастополя, старики, женщины и дети, бесстрашно шли на бастионы. Они подносили снаряды, воду, здесь же под огнем помогали отстраивать разрушенные укрепления.
Двенадцать часов длился бой. Многие корабли противника вышли из строя. Некоторые получили до ста пробоин, на других возникли пожары, иные потеряли управление и сели на мель. А у флагманского корабля «Париж» была разворочена вся палуба и корма.
Так, несмотря на то, что у врагов было в одиннадцать раз больше орудий, чем у нас, они потерпели поражение. И больше ни разу за всю севастопольскую кампанию не осмеливались нападать на нас с моря. Мы показали им, как умеют русские драться за свою землю!
Так рассказывал отставной моряк, участник героической обороны Севастополя. В комнате уютно. Потрескивают дрова в камине. Мягко падает свет на круглый стол, за которым, кроме моряка, сидят коренастый, широкоплечий мужчина, женщина с крупными чертами лица и резко очерченным ртом и мальчик лет одиннадцати. Темные живые глаза мальчика устремлены на моряка. Он боится пропустить из рассказа моряка хотя бы одно слово. Он забыл даже про чай, который стоит перед ним и стынет в стакане.
– Алеша, пора идти спать, – напоминает мать.
Но сын умоляюще смотрит на нее, на отца.
– Оставь его, – говорит отец, – пусть дослушает.
И когда, наконец, моряк, распрощавшись, уходит, Алеша еще долго ворочается в своей кровати и не может заснуть. Он еще раз переживает все слышанное сегодня. Однако это не мешает ему, как обычно, встать рано и прийти в класс самым первым. Он всегда приходит в класс первый. Об этом знают ребята, и те, кто плохо понял или не выучил урок, стараются тоже прийти пораньше, чтобы лучший ученик Алеша Крылов объяснил им непонятное.
– Это были первые опыты моей, впоследствии столь долгой преподавательской деятельности, – вспоминал Крылов много лет спустя.
В Севастополь Крыловы приехали недавно.
Был 1874 год. Почти двадцать лет прошло со времени осады Севастополя. Но все в этом городе еще напоминало героическую одиннадцатимесячную оборону. Многие дома были разрушены, целые кварталы нежилые. Везде рытвины и ямы, груды щебня и мусора, поросшего травой. На Малаховом кургане вся земля была изрыта траншеями. Валялись покрытые ржавчиной, изуродованные орудия, осколки снарядов, куски ружейных стволов, ядра, круглые пули. На месте, где был смертельно ранен адмирал Корнилов, выложен из ядер крест. Светло-серая гранитная плита с надписью указывала место, где был сражен вражеской пулей адмирал Нахимов. Это он, любимец матросов и всего народа, еще тогда, в век крепостничества, сказал:
– Пора нам перестать считать себя помещиками, а матросов крепостными людьми. Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют.
Он знал о привязанности к себе матросов и дорожил ею.
«Я этой привязанностью дорожу больше, чем отзывами каких-нибудь чванных дворянчиков», – писал Нахимов.
Здесь, на Малаховом кургане, он был ранен в голову 28 июня 1855 года. Отсюда его отнесли в госпиталь, где 30 июня, не приходя в сознание, он скончался. Нахимова похоронили в могиле адмиралов – склепе, где уже лежали останки, строителя Черноморского флота адмирала Лазарева и убитых раньше героических защитников Севастополя – адмиралов Корнилова и Истомина.

Адмирал Павел Степанович Нахимов.
Часто Алеша вместе с мальчиками после школы шел на Малахов курган. Здесь они лазали по траншеям, собирали осколки снарядов, играли в войну. Алеше нравились всякие воинственные игры. Но больше всего он любил ходить на море.
То синее-синее, все залитое лучами солнца, оно тихо плескалось о берег, то, темное до черноты, бурное, яростно обрушивалось седыми гребнями и обдавало брызгами пены. В спокойные дни вода была так прозрачна, что на дне недалеко от берега можно было видеть каждый камешек и ядра, и осколки снарядов.
На берегу сохранились остатки батарей, из которых севастопольцы обстреливали вражеские корабли.
Алеша мог часами бродить по берегу или стоять у моря и не отрываясь смотреть в его синеющую даль. Он вспоминал все, что слышал от старых моряков, часто по вечерам собиравшихся у его отца.
Вот здесь, по этому направлению, были затоплены русские корабли, чтобы преградить неприятелю вход в Севастопольскую бухту. На этом месте, наверное, стоял корабль «Три святителя», который пришлось расстрелять из пушек. Тогда было затоплено семь кораблей. А потом, после героической одиннадцатимесячной обороны, когда наши покинули Севастополь, они оставили врагам на месте города груду развалин. И ни одного корабля. Весь севастопольский флот был затоплен, чтобы он не достался врагам.
Пустынно теперь море. Не видно мачт на нем, не белеют паруса. Лишь иногда придет пассажирский пароход, да проплывают лодки, перевозя людей с одной стороны бухты на другую.
Часто Алеша приходил на берег с отцом. Тогда они садились на большой круглый камень и вместе смотрели на море. Отец так же, как и сын, любил море. В далекие дни молодости, когда он был военным, ему приходилось служить на побережье Кавказа, на берегу Финского залива, в устье Днепра. Вот тогда он, наверное, и полюбил море. Правда, недолго Крылов пробыл в армии. Он заболел лихорадкой и вынужден был уйти в отставку.
Крылов поселился в родных краях, в Симбирской губернии. Завел хозяйство в деревне Висяга, около города Алатырь, женился на Софье Викторовне Ляпуновой и зажил некрупным помещиком. Но он никогда не был барином-белоручкой. Человек физически сильный, высокий и широкоплечий, он выходил пахать наравне с крестьянами. И когда нужно было ехать на ярмарку за продуктами, он сам запрягал в тяжелый, но крепкий, на «неизносимом ходу», прадедовский рыдван тройку рослых лошадей. Надевал кожух, подпоясывался широким сыромятным ремнем, усаживался на облучок вместо кучера, – гикнет на лошадей, и был таков.
Недаром по всей округе рассказывали случай, как однажды Николай Александрович Крылов явился в институт благородных девиц, находившийся в Нижнем Новгороде. Ему нужно было забрать из института сестру жены, только что окончившую этот институт.
Был день выпуска. К парадному крыльцу института то и дело подъезжали богатые кареты, коляски, из которых выходили разодетые церемонные родители – знать Нижнего Новгорода. Подобострастно кланявшийся швейцар открывал дверь, и они проходили по устланной коврами лестнице в парадный зал, где должен был состояться выпускной вечер. Вдруг к подъезду подкатывает огромный рыдван с рослым мужчиной на облучке. Черная окладистая борода, живые смеющиеся карие глаза, папаха, казацкий бешмет, подпоясанный широким ремнем, сбоку огромный револьвер в кобуре. Мужчина вручил удивленному швейцару письмо для начальницы института, вызвал девицу Ляпунову, сказал ей:
– Поедемте, вас в Алатыре давно ждут. – Затем, подставив ей ловко левое колено, вскинул, как перышко, на верх рыдвана, вскочил сам и умчался.
– Да кто он? Потомок Стеньки Разина или внук Пугачева? – с удивлением и испугом заговорили вокруг.
А он, привезя домой выпускницу, сказал:
– Если Александра Викторовна будет жить с нами, то ее институтские замашки и привычки надо из нее вырвать так, как вырывают больной зуб – с корнем, единым махом.
Окружающие любили и уважали Николая Александровича. Его выбирали то председателем земской управы,[1]1
Земская управа – ограниченный в правах орган местного самоуправления в сельских местностях дореволюционной России, с преобладанием дворянства в его составе.
[Закрыть] то мировым посредником,[2]2
Мировой посредник – должностное лицо из дворян, ведавшее в основном разрешением различных дел между помещиками и крестьянами.
[Закрыть] то судьей. Крестьяне видели в Николае Александровиче своего защитника. Он был противником крепостных порядков. Не раз он избавлял крестьян от несправедливых наказаний. Недаром в конце концов Николай Александрович оказался не по вкусу высшей администрации, и его отстранили от дел по причине «вредного образа мыслей и потворства крестьянам при делах против них, полицией возбужденных».
Николай Александрович любил в жизни все ладное, крепкое и людей любил физически сильных, смелых, жизнерадостных. И в своем единственном сыне он старался воспитывать самостоятельность и смелость. Когда Алеше было всего пять лет, отец подарил ему маленький топор, сталью наваренный и остро отточенный. Этот топор был самой любимой игрушкой Алеши в ту пору. Им он рубил всласть березовую плаху, тоже принесенную отцом. А позже отец стал брать сына с собой на охоту. Он учил его любить и познавать окружающую природу – различать птиц по полету, зверей по следу, возраст деревьев по годичным кольцам. Он развивал в нем наблюдательность и практическую сметку. Когда Алеше исполнилось одиннадцать лет, отец подарил ему настоящее ружье.
В 1872 году Крыловы уехали из деревни. Николай Александрович не мог избавиться от болезни, – лихорадка по-прежнему мучила его. Врачи посоветовали ему поехать на юг Франции. Крылов продал имение в деревне Висяга, по дешевой цене с рассрочкой платежа отдал землю крестьянам и вместе с семьей переехал в Марсель. Здесь он занялся коммерческими делами – организовал франко-русскую торговую фирму, которая просуществовала около трех лет.
Вскоре Крыловы вернулись на родину. Они поселились сначала в Таганроге, но для лучшего ведения дел фирмы Крыловым приходилось переезжать из города в город.
Николаю Александровичу не были в тягость эти переезды. Он любил путешествовать, изучать окружающую жизнь. Крылов не раз бывал за границей. Но он был патриотом своего отечества и никогда не преклонялся перед иностранным, а умел различить в нем хорошее и плохое. Человек просвещенный, он много читал, писал статьи в журналах, интересовался историей России, был знаком со многими передовыми людьми. Часто, разговаривая с сыном, отец рассказывал ему о прошлом России, о ее боевых победах, о том, что видел в других странах, о царе Петре, о русском флоте…
Вот и сегодня, сидя с сыном на большом камне у моря, Николай Александрович рассказывает ему об одной морской победе русских.
В 1703 году Петр захватил шведскую крепость Ниеншанц. Позднее около этой крепости и был заложен Петербург. Так вот, два шведских корабля, не зная о том, что крепость находится в руках русских, вошли в Неву, дали опознавательные выстрелы и стали на якорь. Петр и Меншиков с солдатами на лодках атаковали шведские корабли и после боя взяли их в плен. Петр так был доволен этой морской победой, да еще над шведами, которые считали себя «непобедимыми», что в честь ее повелел выбить медаль с надписью «Небываемое бывает». А потом русские не раз били шведов – и при Полтаве, и при Выборге, и при Гангуте.
– Смелость, отвага и сметливость всегда отличала русского человека, – закончил отец и, помолчав, вдруг неожиданно добавил: – Уезжать будем из Севастополя. Дела у меня складываются так, что мы в конце лета уедем в Ригу.
Сын знал непоседливый нрав отца. Из Алатыря – в Марсель, из Марселя – в Таганрог, из Таганрога – в Севастополь, теперь – в Ригу. Жаль было расставаться с Севастополем, с Черным морем, но раз отец сказал, – так оно и будет.
И вот наступил конец лета. В последний раз Алеша спустился к морю. Он пришел с ним проститься.
День сегодня безветренный. Тихое и ласковое, но как всегда пустынное, лежало перед ним море. Алеша стоял и думал о том, как весело было бы на море, если бы здесь было много кораблей. Он представлял себе, как поднимают со дна морского затопленные корабли и спускают на воду новые.
Но пока это только игра воображения. По-прежнему пустынно море. Лишь чайки одни носятся над безбрежным морским простором.
МЕЧТЫ ИСПОЛНИЛИСЬ

Пустынно Черное море. Почти нет на нем русского флота. По мирному договору, заключенному после Крымской кампании, Россия не имела права строить на Черном море военный флот. И хотя ограничения, наложенные договором, были сняты в 1871 году, флот возрождался медленно. К концу семидесятых годов Россия имела на Черном море лишь две «поповки»,[3]3
«Поповка» – круглое по форме тихоходное военное судно, названное так по фамилии его конструктора – адмирала Попова.
[Закрыть] несколько тихоходных корветов[4]4
Корвет – небольшой военный корабль, служивший для разведки и посыльной службы.
[Закрыть] и шхун[5]5
Шхуна – небольшое парусное судно.
[Закрыть] и пассажирские пароходы. Беззащитными казались русские берега. Этим решила воспользоваться Турция.
12 марта 1877 года Турция напала на Россию. Она имела довольно сильный флот: броненосцы, фрегаты, корветы, канонерки, много парусных судов. Казалось, совсем просто такому флоту разгромить русские города на побережье, потопить пароходы. Но это только казалось. Не была и никогда не будет беззащитной русская земля! Не построен еще черноморский флот, но есть во флоте талантливые люди, смелые и самоотверженные, которые не позволят врагам ступить на русскую землю.
Как только Турция объявила войну России, многие моряки предложили свои проекты, как коммерческие пароходы превратить в военные. Наиболее удачным был проект лейтенанта Степана Осиповича Макарова.
Он предложил повести с турками минную войну.
В свое распоряжение Макаров просил быстроходный пароход. На этот пароход он хотел поместить несколько легких катеров, снабженных минами. Под покровом ночи, незаметно пароход должен был подходить к вражеским кораблям и останавливаться на некотором расстоянии. С парохода спускались катера, которые должны были приблизиться к турецким кораблям и подорвать их минами. Затем катера отходили обратно к пароходу, который поднимал их на палубу и уходил в ближайший русский порт.
Вся операция должна была проводиться быстро и точно. Она требовала беззаветного мужества и самообладания. Ведь мины тогда были совсем примитивные. Они прикреплялись на шестах длиной в 6–9 метров. Нужно было подойти к вражескому кораблю почти вплотную, на расстояние длины шеста, и ударить этой миной в корпус корабля. Одно неверное движение или шум – и можно было самому подорваться или быть расстрелянным врагом.
Сама идея парохода с минными катерами на борту была совершенно новой. Это была идея плавучих баз для катеров, которая впоследствии получила распространение во всех флотах мира.
Макарову был предоставлен самый быстроходный торговый пароход «Константин». В это время турецкий флот уже обстреливал русские города на Кавказском побережье. Макаров оснастил свой пароход необходимым оборудованием, погрузил на палубу четыре катера с минами и вышел в море на борьбу с турецкой эскадрой.
Ночь. Тишина. На рейде у русских берегов стоят турецкие корабли. Непрошенные гости расположились в русском порту, как у себя дома. Они ниоткуда не ждут нападения. Ведь они знают, что у русских флота нет.
Ярко горят огни маяков. На кораблях слышен разговор, перекличка часовых. Вдруг совсем неожиданно раздается оглушительный взрыв. Огромный столб воды поднимается около одного из турецких кораблей. Корабль начинает тонуть.
Среди врагов смятение. Они не понимают, что происходит. Кто тот неведомый противник, что подошел так незаметно и подорвал их корабль?
Открыв беспорядочный ружейный и артиллерийский огонь, турецкие корабли снимаются с якорей и бегут в панике. А через некоторое время тот же противник атакует турок уже на другом рейде.
Долго турки не могли обнаружить «Константина». Но однажды они его увидели и устроили за ним бешеную погоню. «Константин» развил максимальную скорость и скрылся. Борьба продолжалась. «Константин» наводил страх на врагов. Они перестали появляться у русских берегов. Но «Константин» отваживался наносить удар врагу у самого Константинополя.
Русская общественность с волнением и тревогой следила за подвигами русских моряков. Газеты были полны сообщениями о боевых походах «Константина».
Крыловы в это время жили в Риге. Алеша занимался в немецкой гимназии.
– Языки нужно учить в детстве, – говорил отец.
И как когда-то раньше Алеша учился французскому языку, так теперь он изучал немецкий. Все преподавание в гимназии велось на немецком языке. Вначале было трудно, но потом Алеша так изучил немецкий язык, что мог свободно говорить на нем. Кроме того, он учил в гимназии латынь и греческий. И так же, как и взрослые, Алеша с напряженным вниманием следил за газетами. Подвиги лейтенанта Макарова, русских моряков вызывали в нем чувство восхищения и гордости. Они будили в нем желание самому стать моряком, управлять кораблем, бороться с врагами и побеждать. Часто Алеша вспоминал Севастополь, Черное море.
Он стал узнавать, какие существуют морские учебные заведения, и выяснил, что в Петербурге есть Морское училище, куда принимают мальчиков его возраста. Алеша достал программу вступительных экзаменов в Морское училище. И когда он услышал о подвиге русских моряков, которые применили тактику минной войны Макарова и потопили на реке Дунай турецкий броненосец «Сейфи», взволнованный Алеша пришел к отцу и сказал:
– Отец, ты сам любишь море. Отдай меня в Морское училище.
– Что ж, – ответил Николай Александрович, – иди. Родине нужны моряки. Надо возродить русский флот, да построить его таким, чтобы был он сильным и могущественным. Если б я был молодым, я поступил бы так же.
Так была решена судьба Алексея Крылова. С этих пор и до самой смерти вся его кипучая, многогранная жизнь неразрывно связывается с флотом.
МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Широко раскинулась Русь. Необъятны ее просторы. Но было время, когда эта великая держава не имела выхода к морю. За владение морем боролся Иван Грозный. «России нужна вода», – говорил Петр I. И он поставил целью своей жизни отвоевать для России воду и открыть ей широкий путь для общения с другими странами.
На Черном море хозяйничала Турция. Балтийским морем владела Швеция. Для того, чтобы отвоевать моря, необходимо было построить военный флот. «Сие дело необходимо нужное есть государству… который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет», – пишет Петр I и всю свою кипучую энергию направляет на создание русского флота. В Архангельске, в Воронеже, в Олонце застучали топоры на корабельных верфях. Сам царь едет за границу и, работая там на верфях плотником, изучает корабельное мастерство. Он старается успеть повсюду. Он мореплаватель и токарь, государственный деятель и корабельный инженер. Но он отлично понимает, что не один и не два, а много знающих людей нужны России, чтобы вытянуть ее из отсталости. И вот в Москве, в Сухаревой башне, открывается по указу Петра I в 1701 году школа «Математических и Навигацких наук».
Это было первое в России светское высшее учебное заведение. В нем готовили моряков, инженеров, артиллеристов.
Математические науки в школе преподавал знаменитый Леонтий Магницкий. Его настоящая фамилия осталась неизвестной. Это Петр приказал ему писаться Магницким, потому что он притягивал к себе знания, как магнит. Магницкий написал свою знаменитую «Арифметику» – первый русский учебник по математике, который стал пособием для многих русских людей.
Петр любил школу. Он часто посещал ее, проверял знания учеников, сам показывал на токарном станке искусное мастерство. А после славных побед, когда Россия отвоевала Балтийское море, заставив «непобедимых шведов показать хребет», в новой столице, Санкт-Петербурге, было открыто несколько учебных заведений – Морская академия, Артиллерийское, Инженерное и Медико-хирургическое училища. Позднее, уже в царствование дочери Петра, Елизаветы, и Навигацкая школа была переведена из Москвы в Петербург и слита с Морской академией в единый Морской корпус.
Морскому корпусу отвели дом на набережной Невы на Васильевском острове, одно из лучших зданий города. Несколько десятилетий Морской корпус был единственным морским учебным заведением страны. Из стен его вышли многие ученые, исследователи, путешественники, флотоводцы, чьи имена и дела прославлены в веках. Адмиралы Ушаков и Сенявин, Лазарев, Нахимов и Корнилов кончали Морской корпус. Композитор Римский-Корсаков, составитель знаменитого «Толкового словаря» Даль, писатель Станюкович, художник Верещагин, изобретатель самолета Можайский, декабристы Бестужев, Кюхельбекер и многие другие замечательные люди были воспитанниками Морского корпуса. Однако доступ для детей из народа в Морской корпус был закрыт. Это было привилегированное дворянское учебное заведение.
Одно время Морской корпус назывался Морским училищем.[6]6
Теперь Высшее Военно-Морское Краснознаменное орденов Ленина и Ушакова училище имени Фрунзе.
[Закрыть]
Осенью 1878 года пятнадцатилетний Крылов держал экзамен в Морское училище. В том году на сорок мест было подано двести сорок заявлений. Предстоял строгий отбор. Тогда существовала двенадцатибалльная система оценок. Высшей оценкой считалось, «двенадцать».
Из двухсот сорока мальчиков выдержало экзамен всего сорок три. Лучшие оценки были у Алексея Крылова. На всех экзаменах он получил «12». Первым по списку он был зачислен в Морское училище. Мечта исполнилась – теперь он станет моряком. Начиналась новая жизнь.
* * *
В просторном здании на берегу Невы день начинался рано. В половине седьмого громкие звуки горна поднимали воспитанников с постели. В семь делали гимнастику. Затем шли в столовую завтракать. В восемь начинался первый урок. Заканчивались занятия в половине третьего. Дальше отводилось время на приготовление уроков и на самостоятельную работу. Домой отпускали только на воскресенье. В училище было шесть классов – два приготовительных, один общий и три специальных.
С первых же дней Алексей Крылов с рвением взялся за занятия. На уроках он внимательно слушал и записывал. Тщательно готовил заданное. Непонятные места выяснял у преподавателя или в книгах.
Ко времени поступления Алексея в училище родители его переехали в Петербург. Отец очень интересовался занятиями сына.
– Не запускай уроков и отнюдь не оставляй ничего непонятного для тебя, – советовал Николай Александрович.
Некоторые вопросы Алексей изучал не только по учебникам, но и по дополнительной литературе, которую брал в библиотеке училища. Это помогало ему глубже усваивать предмет.
Однажды, уже в старшем классе, преподаватель вызвал к доске товарища Алексея Крылова – Глотова, и задал ему трудный вопрос. Вопрос этот был изложен в учебнике путано и местами даже неверно.
К удивлению преподавателя, Глотов доказал все быстро и ясно, однако совершенно другим путем, чем было дано в учебнике.
– Откуда вы это взяли? – спросил преподаватель.
– Мне объяснил Крылов, – ответил Глотов.
Преподаватель подсел к Крылову и попросил его рассказать подробней все доказательство.
Крылов объяснил.
– Вам у меня делать нечего, – сказал преподаватель. – Я вижу, что вы мой предмет знаете отлично. Можете заниматься на моих уроках, чем хотите. Ставлю вам заранее «12».
В те часы, которые отводились на самостоятельную работу, каждый занимался, чем хотел. Одни читали книги, другие решали шахматные задачи, третьи строили модели кораблей. Алеша тоже любил читать книги, особенно по истории флота. Он с интересом рассматривал портреты знаменитых флотоводцев, собранные в музее училища, и картины, изображающие битвы русского флота с врагами. Там же в музее он видел весь изорванный неприятельскими снарядами флаг с корабля «Императрица Мария», на котором находился адмирал Нахимов во время Синопского боя. Этим флагом было покрыто тело севастопольского героя, когда его провожали в последний путь. Рядом с нахимовским флагом в музее хранился флаг с турецкого броненосца «Сейфи», потопленного в турецкую войну доблестными русскими моряками, подвиг которых в свое время так поразил воображение Алеши.
Все это было очень интересно. Алексей с удовольствием изучал историю русского флота. Но, кроме того, в свободное от уроков время он стал усиленно заниматься математикой.
Математика привлекала его строгостью своих выводов и тем, что с ее помощью можно было решить самые разнообразные задачи из практики. Кроме того, математикой увлекался родственник и друг Алексея Крылова – Александр Ляпунов. И это тоже оказало большое влияние на Крылова.
Александр Михайлович Ляпунов, впоследствии известный ученый, был двоюродным братом матери Крылова. В это время он учился на математическом факультете Петербургского университета. Часто по субботам Алеша, прежде чем идти домой, забегал к Ляпунову. Здесь он переписывал лекции знаменитого математика, профессора Петербургского университета Пафнутия Львовича Чебышева, у которого учился Александр, и слушал объяснения Ляпунова. Александр объяснял горячо и страстно. Этот двадцатилетний юноша, с большим открытым лбом и откинутыми назад каштановыми волосами, знал и любил математику.
– Математика – замечательное орудие исследования, – говорил он. – Она дает возможность до тонкостей изучить явление и даже предугадать его.
Он считал, что математику нужно всемерно использовать для разрешения различных практических задач. В этом вопросе он был последователем своего учителя Пафнутия Львовича Чебышева. Недаром Чебышев отличал Ляпунова среди других студентов.

Известный русский математик Александр Михайлович Ляпунов.
Алексей внимательно слушал Ляпунова. Потом занимался самостоятельно. И так, шаг за шагом, он изучал университетский курс математики.
Часто Алексей забегал к Ляпунову в воскресенье или Александр заходил к Крыловым. Тогда двое друзей, позанимавшись, отправлялись бродить по городу. Алексей рос весь в отца – высокий, плечистый, и потому мало была заметна разница в годах между юношами. Иногда вместе с ними бывал и отец Алеши.
Больше всего они любили бродить по набережным Невы. Нередко заходили в порт смотреть русские и иностранные пароходы. Отец, который в это время участвовал в работе Общества содействия мореходству и сотрудничал в различных журналах, рассказывал о последних новинках в судостроении у нас и за границей, о талантливых русских кораблестроителях.
– В прошлом году на Галерном островке в Петербурге был закончен постройкой, по проекту адмирала Попова, замечательный броненосец «Петр Великий», – говорил отец. – Он является самым мощным кораблем в мире. Англичане решили было присвоить себе честь создания этого броненосца. Они заявили, что проект броненосца заимствован у главного кораблестроителя Англии Рида. Но Рид оказался честным человеком. Он выступил в газете «Таймс» с опровержением, в котором писал, что «было бы весьма лестно считаться составителем проекта этого поразительного судна, самого могущественного во всем свете», но что проект этот создан адмиралом Поповым.
Алеша с жадностью слушал рассказы отца. Он сам хотел скорее плавать на корабле и жалел, что ни в этом, ни в будущем году ему не придется быть на море, – практика на судах начиналась только с третьего класса.
Отец утешал его тем, что они, как только кончатся занятия у Алеши, поедут на родину, в Алатырь. Позже туда обещал приехать и Александр Ляпунов с братом Борисом.