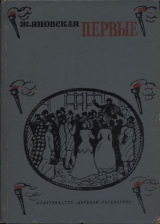
Текст книги "Первые"
Автор книги: Жозефина Яновская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА XIX
В лесочке на границе между Россией и Германией шагает часовой. Уже глубокая осень. Льет дождь. Под ногами хлюпает вода, скользят мокрые, слежавшиеся листья.
Смеркается. Хмурые тяжелые тучи ползут по небу. Налетает порывами холодный ветер, забирается под шинель, пронизывает до костей.
Солдат поеживается, заходит за толстый ствол дерева. Здесь как будто не так дует.
– Эх, щец горяченьких бы, – мечтает он.
Мысли уносят его в родную деревню.
– Как-то там Паранька с ребятами? – вздыхает он. – Небось и у них дожди, а крыша худая…
Тихо. Изредка пискнет синица да дятел постучит клювом. И опять все смолкнет.
Вдруг где-то неподалеку слышится шорох. Что это? Заяц? Контрабандист?
Шорох усиливается. Как будто кто-то крадется по лесу. Часовой вскидывает ружье, вглядываясь в темноту.
– Стой! Кто идет?
Теперь уже ясно слышно, как кто-то бежит к границе. Часовой выстрелил. Еще раз. По лесу прокатилось эхо – и все смолкло.
В этот день Софья Ковалевская пришла раньше всех. Аудитория еще закрыта. Она подходит в коридоре к окну, смотрит на улицу. Черепичные крыши домов блестят, омытые дождем. По стеклу окна стекают крупные капли.
– Добрый день, – раздается сзади голос. Софья оборачивается. Это Ганс.
– Здравствуйте, – говорит она холодно.
– Я решал одну задачу. Не получается. Может быть, вы поможете?
– Нет, где уж нам, женщинам. Раз вы не сумели.
– Прошу вас, попробуйте. Я так хотел бы убедиться…
– Убедиться в чем? Что женщины тоже люди?
– Нет, убедиться в том, что эта задача имеет решение. Я очень прошу вас, – смущенно говорит он.
Софья смеется. У нее такой ясный, звонкий смех, словно прозвенели серебряные колокольчики. Когда она смеется, лицо ее преображается, становится по-детски милым. На щеках образуются ямочки.
Она берет протянутый листок. В это время гурьбой входят студенты.
– Ба, Ганс! Вот пройдоха! Успевает раньше всех! – говорит один из них.
Ганс мрачнеет. Подходит к товарищу и говорит вполголоса:
– Вот что! Если ты еще хоть словом обмолвишься… – Он сжимает кулаки. – В общем, пеняй тогда сам на себя!
После занятий Софа, как всегда, заходит в лабораторию за Юлией. Недалеко от университета их уже ждут Анюта и Владимир.
Все вместе они идут по набережной реки Неккара. Только здесь чувствуется приволье и простор.
Софа вдруг толкнула Юлию, и они бегут вперегонки. Потом все спускаются к воде, побродить у самого берега.
– Как я хочу есть, – заявляет Софья.
– Этому легко помочь, – говорит Владимир.
Они все столуются у квартирной хозяйки. Но сегодня суббота, и в этот вечер они разрешают себе немного покутить.
Они заходят в лавку и накупают разных вкусных вещей. Владимир берет бутылку вина, конфеты – он знает, Софа сладкоежка, да и Анюта и Юлия тоже.
Нагруженные покупками, они возвращаются домой. Открывают калитку палисадника. На скамейке возле дома сидит какая-то девушка.
– Боже мой, да ведь это Жанна! – восклицает Анюта.
– Жанна, Жанночка!
– Во сне это или наяву?
Жанна, о которой они столько раз говорили, их умная, строгая Жанна, которая никак не могла вырваться на волю, теперь с ними!
Они ведут ее в дом.
– Как ты к нам попала? Отпустили наконец родители?
– Тсс! – Жанна прикладывает палец к губам, с опаской оглядывается на дверь. – Я убежала из дому, – говорит она вполголоса. – Перебежала через границу. Мне вдогонку часовой кричит: «Стой! Стой!» А я думаю – нет, будь что будет, обратно не вернусь. И побежала быстрее. А он стрелять…
– Какой ужас! – говорит Юля. – Ты не ранена?
– Нет. Здорова и невредима. Но ужасно устала и есть хочу.
Тут только они замечают, что Жанна бледна, что с ней нет никаких вещей и костюм несколько измят.
– Скорей за стол!
Они ставят вино, вынимают закуски.
– Выпьем за нашу отважную Жанну д’Арк! – говорит Анюта.
Все чокаются.
– А я поднимаю тост за всех вас, дорогие девушки, наши подруги, за вашу храбрость, за вашу преданность идее, за ваш боевой дух! – говорит Ковалевский. – На вашем пути еще много препятствий, но, я верю, вы их преодолеете. Выпьем же за будущего математика Софью, за юриста Жанну, за химика Юлию и за писательницу Анюту! За то, чтобы каждая из вас стала в жизни тем, кем задумала быть! За всех первых женщин, вставших рядом с мужчинами!
Все взволнованы. Поднимают бокалы. Зеленовато-синие глаза Анюты горят вдохновением. Софа раскраснелась, каштановые кудри рассыпались по плечам. На лице Жанны написана радость и гордость собой, что, наконец, исполнила то, о чем мечтала многие годы. И даже некрасивое лицо Юленьки кажется сейчас прекрасным.
– Да сбудется! – говорит Софа проникновенным голосом.
– Ура! Ура! Ура!
Наша жизнь коротка,
Все уносит с собой.
Юность наша, друзья,
Пронесется стрелой, —
с чувством запевает Жанна. Все подхватывают.
Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселей!
Пусть студентов семья
Соберется тесней!
Через несколько дней Жанна и Анюта уехали. Жанна – в Лейпциг: еще в Петербурге она узнала, что именно там в университете высоко поставлено преподавание юридических наук. Путь Анюты лежал в Париж.
ГЛАВА XX
Город жил напряженно. Обычно тихая, благополучная Женева была как осадный лагерь. По улицам ходили рабочие патрули. У ворот мастерских и фабрик предприниматели выставили охрану. Люди толпились возле расклеенных всюду афиш, читали: «… Будем твердыми шагами продолжать наш путь, уверенные в справедливости и в неизбежном успехе нашего дела: всемирного освобождения труда из-под гнета капитала».
Это воззвание Международного товарищества рабочих.
В Женеве объявлена стачка. Строительные рабочие, кирпичники, штукатуры, маляры живут в невыносимых условиях. Они работают по двенадцать часов и влачат жалкое, полуголодное существование.
Международное товарищество рабочих пыталось вести переговоры с хозяевами, посылало письма. Но хозяева хранили презрительное молчание.
Тогда вопрос о положении рабочих был вынесен на всенародное обсуждение. Афиши со статьями, написанными умно и ярко, имели огромный успех у населения. Теперь-то хозяева не посмеют отмалчиваться!
И действительно, через несколько дней рядом с афишами рабочих появились афиши предпринимателей. Нет! Хозяева не хотели идти на уступки. Они не желали вести переговоры с Интернационалом и грозили локаутом!
На другой день огромные афиши призывали всех женевских рабочих на собрание.
Вечером на улице появились синие блузы. Со всех сторон рабочий люд стекался в Тампль Юник.
Лавочники испуганно запирали свои магазины. Из-за занавесок окон боязливо выглядывали обыватели.
На шпиле Тампль Юник реет красное знамя Интернационала. Огромный зал не может вместить всех желающих. Люди заполнили коридор, стоят у окон, у дверей, вокруг здания. Каждый чувствует, что не когда-то, а сейчас, в эти дни, предстоит жестокая схватка с капиталом. Все, что они не раз слышали на собраниях, теперь стало делом жизни. Только сплочение, железная выдержка могут принести им победу.
Один за другим выступают ораторы.
– Нам предстоит борьба. Но мы не одиноки. Через океаны и горы, несмотря на все препятствия, нам помогут братья по труду. В этом великая сила нашего союза, нашего Интернационала.
– Хозяева думают нас задушить. Не выйдет. Нужно только крепко держаться друг за друга. Всем строителям, как один, бросить свою работу. А часовщикам и ювелирам, тем, кто не участвует в стачке, помочь бастующим.
– На вокзале и пристанях выставим пикеты. Чтобы не пропустить рабочих, которых хозяева попытаются нанять в других городах. Объясним товарищам положение и убедим их вернуться домой.
– Мы – не рабы. Почему на кирпичном заводе силой заставляют работать? Рабочих не выпускают с завода. Там и ночуют. А когда мы подошли к воротам, стража наставила на нас ружья. В нас полетели камни.
Лиза Томановская вместе с Наташей Утиной и еще несколькими русскими сидит недалеко от трибуны. Она уже полгода как в Женеве, не раз бывала на рабочих собраниях, но еще никогда не видала такого многолюдного, бурного и целеустремленного.
Лиза горит желанием помочь стачечникам.
– Нам нужно побывать в семьях, поговорить с женщинами, – шепчет она Наташе.
– Непременно. И в организации общественной столовой для стачечников мы тоже примем участие.
Собрание кончилось поздно. Для руководства стачкой был избран комитет, куда вошел и Утин.
– Не забудь завтра в десять часов в кафе, – напоминает Наташа Лизе, прощаясь.
Лиза идет домой, в свою небольшую комнату, которую она занимает в Северном отеле, на берегу Женевского озера.
В комнате чисто, уютно. Кровать застлана белоснежным покрывалом. Стол, диван, этажерка с книгами. На стене, против кровати, висит портрет Натальи Егоровны, написанный маслом. Лиза привезла его с собой из Петербурга, из большой гостиной дома на Васильевском острове.
Лиза подходит к портрету. Как-то там живется матери одной в Волоке? Конечно, тоскует. Лиза всматривается в родное лицо, и ей видится в глазах Натальи Егоровны печаль и упрек.
«Я не могла иначе, пойми», – мысленно говорит она матери.
Лиза вспоминает усадьбу в Волоке, старинный парк вокруг и тихую речку.
Как хорошо там бывает ранней весной, когда в воздухе пахнет терпким запахом набухающих почек и талой водой! Кругом бегут ручьи, и по утрам река окутана белым легким туманом. Но вот туман понемногу рассеивается, блеснуло солнце и загорелось все вокруг, заиграли капельки росы на траве и кустах, бронзовые блики легли на высокие сосны. Ранней весной в лесу просторно, как в храме с колоннами.
Потом весна вступает в свои права. Начинается буйное цветение. Березы покрываются нежной листвой, и сад стоит в бело-розовой кипени. А ветки сирени стучатся прямо в окно.
Лиза любила рано утром по росе тихонько убегать на луг за ромашками. Слушать свирель пастуха, мычание коров и негромкое позванивание колокольчиков. Притаившись в лесу, смотреть, как прыгает с ветки на ветку рыжая белка. Следить за полетом стрекоз.
Хорошо в Волоке и летом, в ясные погожие дни, когда в речке вода, как парное молоко. И осенью, когда лес стоит в радужном разноцветье. Хорошо и привольно…
Но счастлива Лиза только здесь, в Женеве. Здесь она нашла свою дорогу, своих единомышленников и дорогих сердцу друзей.
Они часто собирались вместе, то в кафе, то в Тампль Юник, то на квартире у Утиных.
Говорили о революции, о делах Интернационала, о событиях на родине, читали и разбирали книги.
Они все сходились на том, что революцию надо подготавливать, поднимая политическое сознание трудящихся. Что в России тоже необходимо создавать рабочие союзы и крепить единство с пролетариями Запада.
Они были ярыми противниками Бакунина, который не придавал значения политической пропаганде и считал, что революцию можно сделать сразу, взбунтовав народ. Нет, это опасный путь. Он поведет ко многим бессмысленным жертвам и только отдалит желанную цель.
Расстелив постель, Лиза берет с этажерки книгу. Здесь, рядом со стихами Пушкина, Лермонтова, Некрасова, стоят «Энциклопедия философских наук» Гегеля, «К критике политической экономии» Маркса.
Лиза снимает с полки томик стихов Гейне. Она любит стихи великого немецкого поэта.
Будь не флейтою безвредной,
Не мещанский славь уют —
Будь народу барабаном,
Будь и пушкой и тараном,
Бей, рази, греми победно! —
писал Гейне. Поэзия должна быть воинственной. Именно такой она была у Генриха Гейне.
Лиза находит свое любимое стихотворение «Силезские ткачи».
Угрюмые взоры слезой не заблещут!
Сидят у станков и зубами скрежещут:
«Германия, саван тебе мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем!
Мы ткем тебе саван.
Будь проклят бог! Нас мучает холод,
Нас губят нищета и голод,
Мы ждали, чтоб нам этот идол помог,
Но лгал, издевался, дурачил нас бог.
Мы ткем тебе саван.
Будь проклят король и его законы!
Король богачей, он презрел наши стоны,
Он последний кусок у нас вырвать готов
И нас перестрелять, как псов!
Мы ткем тебе саван.
Будь проклята родина, лживое царство
Насилья, злобы и коварства,
Где гибнут цветы, где падаль и смрад
Червей прожорливых плодят!
Мы ткем тебе саван.
Мы вечно ткем, скрипит станок,
Летает нить, снует челнок,
Германия, саван тебе мы ткем!
Вовеки проклятье тройное на нем!
Мы ткем тебе саван».
Какие смелые, разящие как кинжал слова. И как глубоко должен был мыслить поэт, чтобы написать такие строки. Как он должен был страдать за свою родину.
Уже засыпая, Лиза думает о жизни Гейне, о том, что поэту не простили его воинственной лиры и он вынужден был всю жизнь провести в изгнании так же, как наш Герцен, как другие великие люди, которые осмеливаются поднять голос против деспотизма и произвола.
На другой день, как было условлено, они собрались в кафе, в боковой комнате, где бывали обычно. Их немного, всего восемь. Но они очень осторожно подбирают людей из среды русских эмигрантов.
– Друзья! – говорит Николай Утин. – Настало время. Нам нужно поговорить серьезно. Все мы участвуем в революционной борьбе. Но, чтобы быть полезными своему народу, надо самим ясно видеть свои цели. Нам нужно объединиться, организовать русскую секцию Интернационала, которая имела бы свою программу, устав, свой печатный орган.
– Это очень правильно и давно назрело, – откликается Екатерина Григорьевна Бартенева, смуглая кареглазая женщина. С мужем и двумя детьми она тоже полгода, как приехала из России.
– Обязательно нужно объединиться и четко выразить свои взгляды, – поддерживает Лиза Томановская. – Я была в России в революционном кружке. Там идут споры – что делать молодежи: учиться или бросать ученье и идти в народ?
– И вести ли пропаганду только среди студентов или также среди рабочих и крестьян? – добавляет Виктор Иванович Бартенев.
– Ясно, что нам нужно иметь программу. И иметь свою газету или журнал, чтобы через него оказывать воздействие на русскую молодежь. Таким органом может быть наш журнал «Народное дело». Но его надо отвести из-под влияния Бакунина, – говорит Александр Данилович Трусов.
В прошлом студент медицинского факультета Московского университета, Трусов во время польского восстания перешел на сторону поляков и командовал повстанческим отрядом. За это царское правительство его так же, как Утина, заочно приговорило к смертной казни.
После подавления восстания Трусов бежал в Париж. Там он работал наборщиком и основательно знал типографское дело.
– Одним словом, нам нужна своя типография. Я мог бы помочь в организации, в печатании. Но где взять деньги? – спрашивает Александр Данилович.
На какой-то момент в комнате наступает молчание.
– А для чего же мое приданое? – раздается звонкий голос Лизы.
– Приданое? Но ведь вам самой нужны деньги. И потом – что скажет муж? – замечает Александр Яковлевич Щербаков.
– О, муж не будет возражать. Мы с ним хорошие друзья, – смутившись и чуть покраснев, отвечает Лиза.
– Я тоже могу помочь в финансовых делах, – говорит Ольга Степановна Левашева.
– Ура нашим женщинам! – восклицает Утин. – Кто сказал, что женщины не могут участвовать в общественных делах? Чушь и вздор! Женщины могут быть самыми лучшими организаторами и самоотверженными борцами. Мы в своей программе специально сделаем пункт, где будет оговорено участие женщин. Да здравствуют первые женщины – бойцы Интернационала!
– Ты не думаешь, что мы чересчур возгордимся и организуем свое товарищество? Тогда вам будет несдобровать. Без нас пропадете, – засмеялась Наташа Утина.
– Нет, я не боюсь. Ничего нет крепче истинной дружбы, основанной на общности интересов.
– Все это было бы как нельзя лучше. Мы могли бы отсюда помогать русскому революционному движению. Свой журнал мы бы стали рассылать и в провинцию, где так нуждаются в разумном слове, – говорит Щербаков. Он вспоминает, сколько было разногласий среди студентов Казанского университета, где он учился. Они четко не видели пути. Их заговор был раскрыт. Начались аресты, ссылки. Ему и еще нескольким студентам удалось бежать из тюрьмы сюда, за границу.
– Итак, друзья, мы решили, – снова говорит Утин. – Объединимся во имя светлой цели, во имя нашей многострадальной родины, во имя революции в России. Немедля приступим к составлению программы и устава и пошлем письмо в Генеральный совет в Лондон с просьбой принять нас в Международное товарищество рабочих.
– Ура! – все вскакивают, пожимают друг другу руки, окружают Утина.
Уславливаются о новой встрече.
– А теперь пойдемте гулять. Погода такая чудесная, – предлагает Наташа.
– В горы! – говорит Лиза. – Я ведь еще далеко и не ходила.
Щербакова и Трусова ждали неотложные дела. У Левашевой был болен ребенок, она спешила домой.
На прогулку пошли Лиза, Утины и Бартеневы.
Миновав окрестности Женевы, они стали подниматься на гору Салев. Внизу блестело голубое озеро и маленькие пароходики скользили, словно какие-то водяные жуки. Дома Женевы казались игрушечными.
Наверху был снег. Солнце, закрытое вершиной горы, бросало вокруг рассеянный свет.
По крутой тропинке они взбирались все выше и выше. И вот они вступили на перевал и остановились, пораженные невиданным зрелищем. В глаза блеснуло яркое солнце. Они словно окунулись в море света и воздуха. Склон Салева, весь покрытый белой пеленой снега, полого спускался вниз и, изогнувшись, снова поднимался. И там, вдали, на фоне голубого неба, сияла под лучами солнца могучая вершина, отбрасывая синие зубчатые тени.
– Монблан! – негромко сказал Утин.
Они долго стояли молча. Эти огромные чистые просторы и величавая, с вечными снегами вершина звали к великим делам, к подвигам.
– Всю жизнь отдать на служение народу! – порывисто сказала Лиза.
Катя Бартенева обняла ее за плечи. Она была старше Лизы на восемь лет, более опытная и в жизни, и в революционной борьбе.
– Предстоит большая работа. Надо, чтобы люди поняли. Здесь нужна не только храбрость, но и выдержка, – задумчиво промолвила она.
– Когда мы составим программу и устав, мы напишем письмо Марксу, – сказал Николай Утин. – Маркс – великий человек, который сумел раскрыть внутренние пружины жизни общества. Он так же, как мы, ненавидит царский строй и ждет пробуждения русского народа. Он изучил наш язык, чтобы в подлиннике читать русскую литературу, нашего Чернышевского. Мы попросим Маркса быть нашим представителем в Генеральном совете. Я верю, он согласится. И это будет днем нашего рождения.
ГЛАВА XXI
В марте 1869 года в Петербурге, снова вспыхнули студенческие волнения.
На этот раз беспорядки начались в Медико-хирургической академии. Из академии был незаконно исключен студент. Товарищи заступились. На сходке, где присутствовало более полутора тысяч студентов, выступали горячо и страстно. Требовали возвращения уволенного студента. Уничтожения полицейской опеки. Свободы собраний, свободы слова. Вспомнили о другом студенте, который незадолго до этого также был исключен из академии. За то, что недостаточно почтительно разговаривал с инспектором. Тогда тоже студенты бунтовали. Начальство обещало исключенного вернуть, но не сделало этого.
На сходке студенты требовали к ответу инспектора.
– Пусть скажет, почему не сдержал слово. Почему в академии процветают доносы и подслушивания.
На другой день появился приказ о запрещении сходок. Зал, где обычно происходили студенческие собрания, как тогда в университете, оказался закрытым.
И так же, как тогда, студенты сломали двери. Сходки продолжались и в этот, и на другой, и на третий день. Были выбраны делегаты, которых собрание послало за инспектором. Инспектор без шинели и шапки убежал в клинику к Боткину.
Студенты всей массой вышли на улицу и осадили клинику. Они решили здесь быть до вечера и даже провести ночь, но добиться объяснения с инспектором.
Около девяти часов вечера к студентам вышел Сергей Петрович Боткин. Это был любимый профессор студенчества. Он пользовался большой популярностью за свои исключительные знания и свободолюбивые мысли.
Боткин обратился к студентам. Он просил их успокоиться и пропустить домой инспектора.
– А почему он от нас прячется? Согласитесь, это неблагородно!
– Пусть выйдет к нам и скажет, почему до сих пор не восстановлен Василевский!
– И за что исключили Надуткина. Все знают, что экзамены он сдал. Просто затеряли его экзаменационный лист, – раздались возгласы.
– Все эти вопросы будут разобраны. Но я прошу вас сейчас не задерживать инспектора. Тем более, что сегодня он мой гость, и вы, надеюсь, хотя бы поэтому не захотите причинить ему неприятности, – мягко сказал Боткин.
Наступила тишина. Сергей Петрович вернулся обратно в клинику, вышел вместе с инспектором и провел его сквозь толпу.
Медики молчали. Из уважения к Боткину они решили сейчас не вступать в конфликт с инспектором. Но выразить письменный протест против его поведения и продолжать сходки в академии до тех пор, пока не будут удовлетворены все требования.
В эту ночь полиция арестовала многих студентов. Когда на другой день медики пришли к академии, она оказалась закрытой. На территорию академии никого не впускали.
Сотни студентов собрались перед зданием академии. Они запрудили все прилегающие улицы. К ним присоединился еще народ. Виднелись пестрые платки и шляпки женщин, серые крестьянские зипуны и кое-где – картузы мастеровых.
Толпа шумела. То здесь, то там раздавались возмущенные крики:
– Долой полицейский режим!
– Долой инспектора Смирнова!
– Наше дело правое!
Какой-то светловолосый юноша в клетчатом пледе забрался на ограду и говорил оттуда:
– Господа! Мы не одиноки. Поднимать народ надо. Смелее! Поклянемся же, что мы не побоимся ни тюрем, ни ссылок, ни даже смертной казни.
– Клянемся! – как из одной груди, вырвался крик. Сотни рук поднялись, сжатые в кулаки.
В это время из боковой улицы показались конные жандармы. Они ехали неторопливо, прямо на народ.
– Рразойдись! – закричал офицер, помахивая ременной плетью.
– Почему закрыли академию?
– Мы требуем инспектора!
– По приказу его превосходительства генерала Трепова сходки запрещены! Прошу немедленно разойтись по домам! – еще раз выкрикнул офицер.
Лошади жандармов стали теснить студентов. Кто-то упал. Его едва успели оттащить из-под копыт лошади. Рассеченное лицо заливала кровь.

– Отвести надо в амбулаторию.
– Нет, там его арестуют.
– Тогда домой.
– Давайте отведем его на квартиру к Сусловой. Там его не посмеют взять. Она здесь недалеко живет.
Суслову все знали. Ее имя среди молодежи произносилось с уважением и теплотой.
Боковыми улицами раненого повели на Сергиевскую к Надежде Прокофьевне.
Под напором жандармов толпа отходила к берегу Невы. И вдруг кто-то бросил клич:
– На лед, друзья! На лед! Здесь они нас не возьмут!
Студенты побежали на лед Невы.
Жандармы подскакали к берегу и остановились. Так они стояли друг против друга – вооруженные до зубов конные жандармы и безоружные студенты.
Спуститься на лед жандармы не решились, и студентам удалось уйти.
В тот же день на стене в коридоре университета появился клочок бумаги. На нем было всего несколько торопливо написанных слов. Студенты-медики призывали студентов университета принять участие в общем деле.
Клочок бумаги висел недолго. Его заметил кто-то из администрации и сорвал. Но искра была брошена. Пламя побежало как по бикфордову шнуру. От одного к другому передавались слова воззвания.
Как тогда, восемь лет назад, зашумел длинный университетский коридор. По нему толпились группами, бежали студенты, о чем-то возмущенно толкуя, размахивая руками.
– На сходку, господа! На сходку!
В университет была вызвана полиция. Во дворе, в вестибюле появились синие мундиры. Жандармский офицер уговаривал и просил. Но сходка все же была проведена.
На другой день у дверей залов и аудиторий была выставлена охрана.
Тогда студенты стали устраивать свои собрания в разных концах города, на Петербургской и Выборгской стороне, в Измайловском полку, на Васильевском острове.
Третье отделение доносило царю о «постоянно возрастающем брожении», о «таком настроении умов», при котором требовался «только случай, чтобы дать повод к явным беспорядкам». Царь был напуган. У всех еще были живы в памяти волнения начала шестидесятых годов, прокламация «К молодому поколению».
Снова правительство закрыло университет. Усилились полицейские облавы, аресты.
Но движение ширилось, росло. Волнением охвачены другие учебные заведения, Технологический институт, Земельный. Появились воззвания, рукописные листки. Вышла печатная прокламация «К обществу». В ней студенты излагали свои требования и призывали к солидарности.
«Общество должно поддержать нас, потому что наше дело – его дело. Относясь равнодушно к нашему протесту, оно кует цепи рабства на собственную шею», – говорилось в прокламации.
Борьба разгоралась. Началось брожение среди рабочих. Кое-где рабочие открыто выражали свое недовольство. Это были еще слабые, стихийные выступления. Русский пролетариат, вчерашние крестьяне, был еще немногочислен. Ему не хватало организованности и политической направленности.
_____
Вот уже год, как Суслова в Петербурге. Сразу же по приезде она хотела начать работать врачом. Однако для этого надо было получить разрешение особой комиссии, существовавшей при Медико-хирургической академии. Выдавать женщинам такое разрешение было запрещено. Правительство не собиралось делать для Сусловой исключения.
Как быть? Неужели все усилия, все мечты пропали даром? Перед Сусловой встала стена равнодушия, стена из чиновников, из министров толсты́х, из жандармов долгору́ковых. Об эту стену разбивались все ее помыслы.
Но ученые России не могли этого допустить. Они подняли голос в защиту первой женщины-врача. Это был, по существу, голос за женское равноправие, за женскую эмансипацию, против векового рабства.
«…В настоящее время в цюрихском университете выдержала экзамен на степень доктора медицины глубоко уважаемая всеми знающими ее соотечественница наша Н. П. Суслова. Теперь, когда задача всей ее жизни наполовину закончена, дай бог, чтобы ей была дана возможность приложить свои знания к делу в нашем отечестве. Грустно было бы думать в самом деле, что даже подобные усилия, столь явно искренние по отношению к цели, могут быть потрачены даром, а это возможно, если она встретит равнодушие в нашем обществе…» – писал Иван Михайлович Сеченов в одной из газет.
В журнале «Дело» появилась статья, где рассказывалось о защите Сусловой диссертации и о ее приезде в Россию. Дальше редакция писала:
«…До сих пор, как мы видели, г-жа Суслова, хотя и была окружена всевозможными препятствиями, но достигла своей цели, к которой так долго и так упорно стремилась. Дальнейшая ее деятельность – применять свои знания на пользу русского общества, зависит уже не от ее воли… Возможность подобного применения своих знаний зависит не от нее, а от правительства…
…Г-жа Суслова сделала для достижения своей цели все, что могла, и на что, конечно, способны только необыкновенно энергичные натуры. Она геройски вынесла на своих плечах разрешение вопроса, способна ли русская женщина быть медиком-ученым. Если будет ей дана возможность, то она докажет также, способна ли женщина быть медиком-практиком…»
Такую возможность ученые нашли.
В уставе, которым руководствовалась комиссия, была статья, согласно которой тот, кто имел иностранный диплом, пользовался правом, после испытания, получить диплом в России. Эту статью применили к Сусловой, преднамеренно забыв, к какому полу она принадлежит.
Надежду Прокофьевну допустили к экзамену. По существу это была вторая защита диссертации, но она блестяще с ней справилась. По поводу всего этого Герцен иронизировал:
«…госпожа Суслова, которая блестящим образом закончила в Цюрихе изучение медицины и получила диплом доктора, только что сдала экзамен в Петербурге. Успех был вне сомнения, опасность угрожала с другой стороны, со стороны пола Сусловой. Факультет прибегнул к довольно остроумному выходу. Он взглянул на Суслову как на доктора, дипломированного иностранным университетом. И, так как лица, владеющие иностранным дипломом, пользуются в России правом после испытания получить звание доктора, профессора признали Суслову доктором медицины».
Сергей Петрович Боткин, председатель комиссии, поздравил Суслову. Теперь она могла, наконец, заняться любимым делом.
Ее можно было видеть в богатых районах и на окраинах города. С врачебной сумкой в руках, на которой был пришит кумачовый красный крест, она спешила по первому вызову к больному. Ее не останавливали ни непогода, ни расстояние, ни даже ночь. Сама выросшая в крестьянстве, она не боялась нищеты и грязи петербургских трущоб. Она заглядывала в такие углы, где никогда еще не ступала нога врача.
На рецепты она теперь ставила свою печать, на которой было выгравировано: «Женщина-врач Н. П. Суслова». В бедных семьях она не брала платы. Но часто в своей сумке сама приносила лекарства. И вместе с лекарствами – масло, сахар, булку.
Ее пациентами были главным образом женщины. Они шли к ней домой, приводили детей. Некоторые были действительно больны, другие шли просто за советом. К ней приходили полуслепые, шамкающие старухи и молодые девушки.
Она получала пачками письма. Женщины писали ей со всех концов России: научите, куда ехать, как пробиться, чтобы стать полезной в жизни, чтобы стать врачом.
Писали и из-за границы. Вот она держит в руках письмо известного английского ученого-экономиста Джона Стюарта Милля:
«С чувством удовлетворения, смешанным с удивлением, узнал я, что в России нашлись просвещенные и мужественные женщины, возбудившие вопрос об участии своего пола в разнообразных отраслях высшего образования, в том числе и занятиях практической медициной. То, чего с постоянно возрастающей настойчивостью требовали для себя образованнейшие нации других стран Европы, благодаря Вам, милостивая государыня, Россия может получить раньше других…»
Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев, обращаясь к русским женщинам, стремившимся получить медицинское образование, опубликовал письмо в газете «Голос»:
«…Сколько мне известно, русское общество не только не ответит Вам отказом, но уже отозвалось, горячо и деятельно отозвалось на ваши столь справедливые стремления. Оно доказало, что… одинаково убеждено в чистоте ваших намерений, и в той великой пользе, которую вы призваны принести нашей родине.
Можно утвердительно сказать, что и при настоящем ее положении Родина эта нуждается еще более в женщинах-врачах, чем во врачах вообще, хотя количество даже этих врачей несоразмерно мало в сравнении с настоящей в них потребностью. Исторические судьбы России налагают на русскую женщину особые и высокие обязанности, при исполнении которых она уже заявила столько самопожертвования, столько способности к честному и стойкому труду, что было бы неразумно, было бы грешно (не говорю уже – ставить ей преграды на указанном выше пути) не способствовать ей всеми мерами к осуществлению ее призвания.








