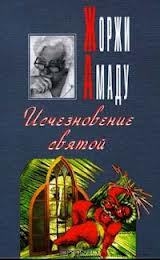
Текст книги "Исчезновение святой"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Вот вам только два деяния, два поступка, два примера из десятков подобных – и этого достаточно, чтобы благосклонный мой читатель смог увидеть в полный рост и во всем блеске нового персонажа, который появляется в моей хронике затем лишь, чтобы исповедовать дона Максимилиана.
РАССУЖДЕНИЕ О ЧУДЕ– Разумеется, никто не узнает ни словечка из того, что было сказано и выслушано на исповеди: тайна ее будет соблюдена неукоснительно, как предписывает нам святая наша матерь-церковь.
Скажу только, что дон Тимотео отнесся к дону Максимиалиану с уважением, восхищением и пониманием, которые вполне заслуживал наш высокоученый монах, украшение ордена бенедиктинцев, и что, отпустив ему грехи и наложив не слишком суровую епитимью, он обещал помочь ему и добиться перевода в один из монастырей Рио, куда тот собирался переехать немедленно по сдаче дел.
Увидев, что дон Максимилиан исполнен решимости, но напрочь лишен душевного спокойствия, аббат завел с ним дружескую беседу. Он спросил, почему директор сомневается в милосердии и всемогуществе божьем и не уповает на чудо:
– Ведь чудеса существуют, они происходят ежеминутно, и одна лишь гордыня не дает нам заметить их.
Разве то, что привело Эдимилсона на причале в такой трепет, не было чудом? Почему же дон Максимилиан сомневается в нормальности своего помощника и не верит в существование других чудес? Чудо – это тот самый хлеб насущный, что дает нам господь. А уж здесь в Баии, где такое множество богов и столько сверхъестественных явлений, чудесам можно и вовсе счет потерять: на них уж внимания не обращают, они входят в обиход, становятся обыденностью.
– А разве не чудо – жить в таких условиях, как наш народ живет? Величайшее чудо.
Аббат не стал развивать тему нищеты, поскольку собеседнику его, мучившемуся непритворно, было явно не до этого: тоска грозила обернуться раздражением и неприязнью. Аббат окинул взглядом – а глаза у него были цвета пронизанной солнцем воды – устало опущенные плечи, измученное лицо дона Максимилиана и пожалел его. Какой же бальзам излечит эту разверстую рану? Притча об учителе и ученике, застывших на пустынном причале.
И дон Тимотео сказал тогда, что знания иногда становятся шорами на глазах, что наука порой превращает нас в нетерпимых, спесивых, недоверчивых дурней. А вот Эдимилсон, недоделанный ангел господень, не пожелал превратиться в самодовольного догматика, носящего свое самолюбие, как беременная – живот, не захотел, чтобы наука убила в нем веру в чудо. Сын мой, брат мой во Христе, милый дон Максимилиан, последуйте его примеру: отриньте границы и рамки, не обуздывайте свое воображение, не унимайте фантазию, ибо превыше науки, которой владеем мы, – божья благодать и поэзия.
МУЧЕНИЧЕСКИЙ ВЕНЕЦ– В приходе Пиасавы падре Абелардо Галван кое в чем убедился на собственном опыте, а кое о чем знал только понаслышке. Со времен семинарского отрочества и по сию пору слышал он предписания, ограничения, запреты, правила и каноны. Рамки были узки, запреты – многообразны.
Отец его, преуспевающий врач, мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, стал помощником и преемником. Мать, всю жизнь жадно глотавшая романы, видела его ученым, профессором университета. Однако бабушка, женщина богатая и властная, произнесла свой приговор: «Хочу, чтобы внука моего возвели в сан епископа, хочу поцеловать перстень у него на пальце, но при этом не он чтобы меня благословил, а чтобы я – его». Звали ее Эделвайс дос Рейс-Ризерио, овдовела она рано, лет в тридцать, высока была ростом, дородна телом и непреклонна нравом.
Ни в какой бинокль не разглядишь вожделенных регалий епископства – очень они далеки. Не знаю, может, в ту подзорную трубу, через которую бабушка Эделвайс с веранды своего дома оглядывала бескрайние пастбища, и можно их заметить. В редких письмах она сетовала: «Что за блажь такая – добиваться епископской митры в Баии?»
Ах, бабушка, подвела тебя твоя труба. И перстень, и митра так и останутся недосягаемыми. Какое там епископство! Пастырю крошечного нищего прихода в Пиасаве и то грозит опасность: монсеньор Рудольф Клюк предъявил ему ультиматум: или прекратите свою подрывную деятельность, или мы вас из Пиасавы уберем. Вот, бабушка, какое у меня епископство – я бедный попик, которому грозят большие неприятности. За спиной дона Рудольфа – гигантская тень Жоазиньо Косты, обрекающего на смерть безземельных крестьян. Добра не жди.
Зато совсем рядом, только руку протянуть – мученический венец: сеньор Пауло Лоурейро привез из Ресифе кое-какие известия. Рассказывая монахам про убийство падре, давая анализ политической ситуации в стране, он назвал бенедиктинцев «товарищи» и сказал: «Мы возвращаемся к временам мучеников».
Абелардо Галван был с ним согласен: да, воскрешаются героические эпохи, когда христианские мученики жизнью расплачивались за то, что несли в мир истину Священного писания. Вновь наступает опасное, волнующее время «Церкви бедняков» в расколотом надвое мире, и римская католическая апостольская церковь, мечась между богатыми и обездоленными, тоже оказалась разделенной надвое. Горсточка прогрессивно настроенных священников – против легиона попов-мракобесов... Падре Абелардо смотрел на узкий круг монахов и мирян – слово «товарищи» приблизило их друг к другу в этот тревожный час, породнило, сгладило разницу. Ему вспомнились бабушкины слова: «Я требую, чтобы ты стал настоящим священником, а не одним из тех надушенных, надутых спесью щеголей, которые разгуливают у нас в Порто-Алегре. Я хочу, чтоб ты стал истинным служителем господа, а не божьей потаскухой мужского пола». Дона Эделвайс не любила обуздывать свой нрав – и в верховой езде, и в жизни предпочтительней казались ей шпоры.
«Настоящим священником...»? Но уж тогда точно не придется тебе, бабушка, целовать мой епископский перстень, ибо требование твое несовместимо с твоей мечтой. По велению свыше стал Абелардо в ряды армии бедняков, плечом к плечу с самыми неимущими – с безземельными батраками. Он исполнил клятву, которую дал при рукоположении, когда простерся на полу в церкви, принимая святое причастие. Дона Эделвайс, чье поместье находилось в штате Рио-Гранде-до-Сул, знала, как бедно живут ее пеоны, но даже и представить себе не могла нищенское положение крестьян Северо-Востока.
Падре Абелардо выполнил обет – невзирая на угрозы, на газетную клевету, на неодобрение церковных иерархов, на зловещие предупреждения. А сколько тех, кто действовал против несправедливости открыто и бесстрашно, пал жертвой наемных убийц, подосланных латифундистами. Список их длинен и пополняется все время: не проходит недели, чтобы не находили труп падре в каатинге [71]71
Каатинга – равнина, поросшая кустарниками и редколесьем, на северо-востоке Бразилии.
[Закрыть]или в зарослях на плантации, или на пустынных берегах реки Сан-Франциско – всюду, где бесправные батраки осмеливаются предъявлять права на землю, которую обрабатывают.
Пастырь Пиасавы был настоящим священником, ибо требовал от своих прихожан, живущих хуже скота, не смирения, но сопротивления. Но довольно ли вести себя мужественно, чтобы иметь право называться настоящим католическим священником? Готовясь принять мученический венец, падре Галван решил вырвать из своей объятой пламенем груди даже намек на малейшее неповиновение обету. Надо угасить это пламя, надо затоптать его раз и навсегда, чтобы во веки веков от искры греха не вспыхнул, сжигая сердце, пожар. А ведь искра эта уже проскальзывала: не далее как вчера в машине, и потом, на обеде в честь французов, и когда прощались – «пока, завтра увидимся в театре», – когда губы Патрисии, влажные и горячие губы, коснулись его иссушенных и жаждущих уст. Можно ли считать настоящим священником того, кто свершил смертный грех? Ах, бабушка, это трудней, чем ты думаешь.
Но если говорить начистоту, он не знал, какой смысл вкладывала дона Эделвайс в понятие «настоящий священник». Кстати, о ней самой и о местном падре много чего поговаривали в округе. Каноник Жезуино Санто Доминго командовал гаучо в приснопамятных войнах конца века, скакал на коне в своей сутане с карабином поперек седла. Он точно сошел со страниц романа Эрико Вериссимо [72]72
Эрико Вериссимо (1905–1975) – бразильский писатель.
[Закрыть]. «Спит он с доной Эделвайс», – шушукались и пересмеивались пеоны и горничные-китаянки. Однако не осуждали ни хозяйку, ни своего пастыря – дело житейское, природа свое возьмет. Так что же все-таки понимала бабушка под этими словами?
ИЗБРАННИК– «Все тебе объясню, – сказал падре Абелардо Патрисии, когда та позвонила узнать, почему не явился он в театр, – я был на мессе по мученику, а потом пытался понять причины и следствия его мученичества». Патрисия удивилась. «Да, вновь настают времена апостолов и самопожертвования: теперь исполнение Христова завета означает беспощадное преследование, подлую клевету, а может стоить и жизни», – отвечал он возбужденно и даже весело. Абелардо чуть было не сказал Патрисии «товарищ», но вовремя прикусил язык.
Патрисия слушала эту торжественную речь с явным нетерпением. Сегодня, в пятницу, группа «Большой шахматной доски» должна была работать на Пелоуриньо, снимая то, что в сценарии называлось «баиянский карнавал» с участием африканских групп, афоше «Дети Ганди» и «Интернасьонаис» и школ самбы, среди которых блистала руководимая композитором Валтиньо Кейрозом и его пламенной и неугомонной матушкой доной Луз да Серра. Накануне по радио и по телевизору всех желающих приглашали собраться к пятнадцати часам на Пелоуриньо, где электротрио Додо и Осмара начнут этот импровизированный карнавал. Нилда Спенсер твердо пообещала Шанселю, что придет от двух до трех тысяч человек самое малое, и француз задрожал от восторга.
– Потом расскажешь... – перебила падре Патрисия. – Нет-нет, мне это очень интересно, говорить сейчас не могу, просто зашиваюсь... Я жду тебя в два у Школы, ровно в два часа – дня, разумеется... Да! Знаешь, я даже перекусить не успею, принеси, если сможешь, сандвич. Да, с ветчиной. А лучше с колбасой. Я колбасу больше люблю. А тебя – еще больше. Разве ты не знал? Ну так знай, мой милый мученик, мой Святой Себастьян. И пожалуйста, вымой шею: тебя же будут снимать, – дерзко добавила она.
Вот ведь человек: ничего у нее толком не поймешь, ничего прямо не говорит, обольстительница! А что это она несла про шею? Неужели опять телевидение? Неужели ей мало было обеда на рынке? Даже представить себе трудно, что скажет викарный епископ, если увидит своего священника за одним столом с комедиантами и полуголыми танцовщицами – исполнительницами самбы. Абелардо вспомнил вкус ее горячих губ. И еще смеется над его мученичеством: «...мой Святой Себастьян, я люблю колбасу, а тебя – еще больше, так и знай!» Ах, бабушка, какое это беспокойное и рискованное дело – быть настоящим священником!
Не в силах отделаться от упорно одолевавших его мыслей, он сказал бы Патрисии, что исполнение Христова долга – дело избранных, а он этой чести не заслуживает, не достоин ее, но если господь предназначил его для мученического венца, если поместил среди избранных, – он готов, он не отступит. Однако Патрисия положила трубку, прежде чем пастырь Пиасавы успел поклясться ей, что опасность его не страшит, что он никогда не бросит бедняков и что никто никогда не заставит его отказаться от общины, не замкнет его уста, несущие господне слово. Падре Абелардо Галван пылал, горел, был исполнен страсти – в общем, хоть сейчас на крест или на колесо.
НАЕМНЫЙ УБИЙЦА– Вот только не знал наш божий избранник, готовый принести себя в жертву, что на Ларго-де-Сан-Бенто, на площади перед бенедиктинским монастырем, стоит, пожевывая спичку, Зе Ландыш в дождевике, в шляпе с опущенными полями, в темных очках, поджидая его, чтобы сопроводить в какое-нибудь укромное место и там активно споспешествовать приятию мученического венца: в данном случае пули в лоб. Револьвер у Ландыша был шестизарядный, но больше одной пули он в таких случаях до сей поры еще не тратил.
Зе Ландыш был человек верующий и богобоязненный. Глубоко почитал господа бога и падре Сисеро, небесного покровителя и заступника разбойников, бандитов и в особенности наемных убийц. Разумеется, полицейским, палачам, солдатам летучих кавалерийских отрядов и другим преступникам уповать на небесную защиту не приходилось. Зе Ландыш слушал мессу в монастырской церкви, размышляя о царствии небесном: славное, наверно, место: целый день играет музыка и все кушают манну – неземного вкуса лакомство. При этом он не сводил глаз с падре Абелардо.
Надо было накрепко запечатлеть в памяти его физиономию, чтобы не повторить ошибку, совершенную однажды на ярмарке в Каруару. Он тогда застрелил не того, кого следовало, – выпил рюмочку кашасы, закусил ломтиком вяленого мяса, подобрался почти вплотную: похож, похож на обреченного, а по правде говоря, ничего общего – только усики как у Чарли Чаплина, вот они-то и сбили Ландыша с толку... Здесь, в церкви Сан-Бенто, снова повинился он перед господом в своей ошибке. По его собственным подсчетам, на тот свет отправлено им было никак не меньше двадцати мерзавцев, Ландыш о них и не вспоминал никогда, и угрызений совести не испытывал, справедливо полагая, что без веских оснований человек заказывать убийство не станет – кто ж будет выбрасывать деньги на ветер?.. Но этот, из Каруару, остался у него на совести тяжким бременем: он даже мессу отслужил за упокой души по ошибке застреленного.
Но уж морда этого попика врезалась ему в память, уж тут-то он не обмишулится. Гад, наверно, без чести, без совести, один из тех, кто не признает господних заветов и хочет отобрать землю у законных ее владельцев, кто знать не желает ни границ, ни документов, ни законов... А может быть, он залез под юбку кому-нибудь из дочерей полковника Жоаозиньо: они обе на загляденье, особенно старшая, замужняя. Эти нынешние падре даром времени не тратят, долго вздыхать не станут: раз – и под кустик, ну, кроме тех, конечно, недоделанных, что предпочитают не брать, а давать. Ландыш не слишком строго порицал первых: кто отказывается от того, что само в руки идет, недостоин царствия небесного, а вот извращенцев, сброд поганый, презирал всей душою.
Полковник Жоаозиньо Коста уплатил вперед, потому что в эту пятницу должен был раненько утром куда-то улетать по срочному и внезапно возникшему делу. Зе Ландыш дело это понимал – не маленький: заказчик предпочитал быть подальше в час «Ч», в момент истины, в миг исполнения правосудия. Божьего правосудия, сказал полковник Ландышу, ибо на этих хмырей с дипломами юристов надежда плоха, они до скончания века ковыряться будут, а падре-безбожники вконец обнаглели, сколачивают оравы оборванцев и захватывают чужие земли.
И, обвеваемый утренней прохладой, чистый сердцем и помыслами, безгрешный и праведный, стоял Зе Ландыш на Ларго-де-Сан-Бенто, готовясь исполнить поручение, поджидал приговоренного падре, у которого шансов уцелеть не было никаких. Приговор вынесен тем, у кого есть на это право, за работу уплачено – и хорошо уплачено, физиономию жертвы Ландыш узнал бы из тысячи других, так что его преподобие мог уже считаться покойником и заказывать по себе панихиду.
НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА– А викарий Санто-Амаро, несносный падре Тео, тем временем во главе лучших людей города свершал последние приготовления к отправке Непобедимой Армады в Баию. Цель – отбить Святую Варвару, привезти ее назад, вернуть на прежнее место в алтаре церкви. Прежде всего, конечно, найти ее, где бы она ни таилась.
А где же ей таиться и кто ее таит? Для викария тут сомнений не было: статуя спрятана в каком-нибудь укромном месте, и это дело рук директора Музея, которому оказывает содействие сам кардинал. Но припертый к стене разгневанным народом, негодный монах признается в своем злодеянии, вернет святую. Тут ему никакой кардинал не поможет.
Городу же Санто-Амаро грозила опасность остаться без горожан: все хотели принять личное участие в вызволении святой, и для этих тысяч добровольцев не хватало уже места на кораблях и судах, хоть было их, видит бог, немало. Главное было не сколотить ополчение, а не допустить, чтобы участники экспедиции передрались из-за места, из-за плаката, из-за пальмовых ветвей. Кончилось тем, что дона Кано, привыкшая разбирать ссоры и улаживать тяжбы, поднаторевшая в принятии единственно верных решений, вынесла вердикт: каждая семья выделяет по одному представителю. Но даже и после этого галеоны и каравеллы остались перегруженными: Санто-Амаро рвался в бой.
Погрузка началась после полудня. Многие суда, прибывшие к месту отправки, были уже до отказа забиты развеселым воинством. В дорогу запаслись разнообразной и обильной снедью – были тут и бутерброды, и фрукты, и крутые яйца, и жареные цыплята, и рыба, и мясо – вяленое, копченое, жареное, – и свиные отбивные, и пирожки с креветками, и паштеты из крабов... Перечислять можно до утра, но, боюсь, аппетит разыграется, слюнки потекут. А я еще не упомянул о целых батареях пива и прохладительных напитков и о тайно пронесенных, вопреки запрету, бутылках кашасы. На яхтах – было их всего четыре, и принадлежали они богачам – рекой лилось виски.
Старушки из Общины Пречистой Девы Блаженного Успения составляли экипаж одного из лихтеров, и на палубе его царило непритворное оживление. Вырядились они как на праздник: белые юбки с кружевами и оборками на накрахмаленных чехлах, баиянские кофты, и на груди у каждой сияла и горела червонным неподдельным золотом ладанка – чудо ювелирного искусства. Из этих чернокожих веселых старушек кому было под восемьдесят, а кому – за, а кому и больше девяноста. Семидесятишестилетняя Баду считалась между ними девчонкой, а старейшина их, Мария Пиа, родилась еще во времена рабовладения. Беззубыми своими деснами жевала она ломтики сахарного тростника.
Комиссару Риполето, со вчерашнего дня находившемуся под присмотром юных атлетов, развязали руки, дали куриную ножку, два банана, пастилы, хлеба. Нет, в плену он с голоду не помрет. Потом опять связали ему руки за спиной, потому что, попросившись в лесок по малой нужде, он попытался удрать. Комиссар, преодолевая понятную тревогу – «не придушат ли меня по дороге?» – даже и в столь стесненных обстоятельствах помнил о служебном долге и фиксировал в памяти – жалко, что память дырявая! – приказы мятежных главарей и начертанные на картоне лозунги: «Требуем возвращения Святой Варвары!», «Святая – наша!», «Долой музейный империализм!», «Да здравствует Святая Варвара!», «Да здравствует падре Тео!»
Непобедимая Армада, поставив все паруса, к трем часам пополудни была уже готова и ждала только приказа выступать, чтобы доплыть до Баии, выгрузиться, дойти до монастыря Святой Терезы, где размещался музей, осадить его и воспрепятствовать назначенному на девять вечера вернисажу. Да, паруса были поставлены, экипажи набраны и подготовлены, десантные команды рвались в бой, воины и маркитанты размахивали пальмовыми ветвями, транспарантами и плакатами, флагами и хоругвями – неисчислимая сила баркасов, ботов, шхун, яхт готовилась отчалить, проплыть по реке Парагуасу, стать на якорь у Рампы-до-Меркадо. Подобных флотов не видано было со времен войны с голландцами.
Викарий, вооруженный боцманской дудкой, окруженный детьми и паствой, взяв себе в вестовые репортера Гидо Герру и фотографа Батисту, распрощался с кумой и экономкой Мариной и ступил на палубу флагманского корабля, объявив, что командует флотом.
РЕШЕНИЕ– После беседы с настоятелем дон Максимилиан фон Груден довольно долго ломал голову над тем, как бы ему пробраться из обители Сан-Бенто в Музей и остаться незамеченным журналистами: они продолжали нести караул во дворике – кто, убивая время, перебрасывался в картишки, кто слушал транзистор, а Жозе Берберт де Кастро, у которого всюду были связи, нашел пристанище в мастерской Роке, помещавшейся прямо напротив церкви Святой Терезы, и развалился в кресле, любезно предоставленном ему «популярнейшим мастером резьбы по дереву» – так он аттестовал его в одной из статей, посвященных исчезновению святой.
Итак, всласть поразмышляв и окинув мысленным взором те передряги, которые выпали на его долю за эти чудовищные двое суток, а также те, которые еще маячили впереди, дон Максимилиан принял окончательное решение. Раз уж он все равно пропал – спасти его могло бы только чудо, но вопреки упованиям дона Тимотео он по-прежнему в чудеса не верил, – то надо встретить беду с гордо поднятой головой, а не убегать от нее, не прятаться. И раз уж он решил, как ему вести себя, когда грянет час крестной муки, зачем же поступать так жалко и трусливо? Изготовившись к худшему, он слегка воспрял духом. Точно побежденный и обесчещенный самурай в порыве самоубийственного героизма, достал он оружие, которым перед лицом неумолимых судей свершит харакири, – вынул из кармана прошение об отставке. Раз уж он решил уйти с должности и покинуть Баию, чего ему теперь бояться?
В предсмертном приступе кокетства он оправил помятую сутану. Жаль, что нет зеркала, чтобы придать лицу выражение надменности с легкой примесью светлой печали. Бледность ему идет. Скрывая глубочайшую растерянность и полный упадок, вышел он из ворот аббатства, смешался с толпой прохожих и в их утомительной толчее поднялся по Сан-Педро, сделал вид, что не заметил, как показала на него мужу какая-то женщина: «Смотри, смотри, это тот, чья фотография была в газете!» – свернул за угол, двинулся по улице Байшо, увидев вдалеке доктора Одорико Тавареса – он шел к себе в редакцию, таща за руку профессора Эдвалдо Боавентуру. Они о чем-то разговаривали и смеялись. Конечно, над ним.
Дон Максимилиан с вызывающим видом прошел мимо редакции, но никто его вызова не принял да и не заметил. Ему захотелось войти, но зачем? Что ему там делать? С лестницы, связывающей улицу Байшо с улицей Содре, дон Максимилиан долго смотрел на церковь и монастырь Святой Терезы, на патио и сад, на весь этот ансамбль – один из красивейших в городе, – врезанный в ни с чем не сравнимый пейзаж: море и горы. Это – его музей, его дом, его жизнь. Крестьянин в куртке из грубой кожи шел навстречу, таща за недоуздок малорослого медлительного ослика с гигантским вьючным седлом на спине. Дон Максимилиан проводил взглядом их обоих, задержал взгляд на седле, зажмурился, чтобы картинка эта покрепче врезалась в память. Потом стал спускаться по лестнице, на каждой ступеньке раскланиваясь с соседями.
Он замедлил шаги у мастерской Зу Кампоса, резчика по дереву, занятого своим ремеслом. Заметив монаха, тот отложил стамеску, улыбнулся приветливо:
– Доброго здоровьица, дон Максимилиан.
– Что ты делаешь, Зу? Что это будет за святая?
– Как же вы не признали Святую Варвару? Вот и колчан. Если Громоносица из Санто-Амаро так и не объявится, можете взять на выставку мою.
На маленькой картине, висевшей у входа, летел по небу ангелок: вокруг него цвели синие цветы, порхали розовые птицы.
– Сколько хочешь за этого ангелочка, Зу?
– За «Мулатика»-то? Нравится?
– Очень.
– Вы себе хотите или подарить кому?
– Себе.
– Тогда нисколько. Все, что здесь есть, ваше.
Дон Максимилиан знал, что, если он будет настаивать, резчик обидится.
– Ну, спасибо, большое тебе спасибо. Отложи ее, я кого-нибудь пришлю. А у меня тоже есть для тебя подарок на память: я сочинил книжку про Святую Варвару Громоносицу из Санто-Амаро. Твоя почти так же хороша, как и та.
Он хотел рассказать резчику, что в планах Музея на следующий год значится выставка современного баиянского религиозного искусства – от Пресилиано до него, Зу, Ванды-Нада и Осмундо – в дополнение к той, что откроется сегодня в девять вечера и где не будет представлена никакая Святая Варвара – ни та, ни другая. Однако проект этот так и останется в голове и бумагах экс-директора и никогда не осуществится, так что толку говорить о нем?! Всего через несколько часов он станет бывшим.
Он одолел последние ступени и только лишь ступил на мостовую, как его облепили репортеры и посыпались вопросы. Из дверей Роке ринулся к нему на удивление проворный при своей тучности Берберт: «Мы уж думали, вы в Рио или по дороге в Германию!»
Дон Максимилиан, невозмутимый и бестрепетный – печально-надменное выражение мраморно-бледного чела – нет, лучше так: «на челе, словно выточенном из слоновой кости», – даже не остановился, продолжая размеренно шагать по направлению к монастырю, не отвечая журналистам и не отбиваясь от них. Зе Берберт крепко держал его за рукав сутаны.
У входа в Музей директор, по-прежнему не теряя самообладания, обернулся и с расстановкой проговорил:
– Минуту внимания, друзья мои. Выслушайте меня и не перебивайте. Вы ведь со вчерашнего дня только и добиваетесь? Ну, так вот, – он взглянул на часы, – сейчас без четверти три, четырнадцать сорок пять. Ровно в половине девятого, в двадцать тридцать – через пять часов, точнее, через пять часов и сорок одну минуту, – состоится торжественное открытие Выставки Религиозного Искусства, куда я всех вас приглашаю. Вот тогда я и выскажусь. Потерпите. Пять часов – это не так уж страшно.
Он улыбнулся Берберту, высвободил рукав, шагнул через порог и запер дверь изнутри.
СВЯЩЕННАЯ ПОДПИСЬ... – Ему пришлось на мгновение прислониться к косяку: дурно, перед глазами пелена, под ложечкой сосет, во рту горько – он не обедал сегодня и не испытывал голода. Дон Максимилиан вытащил платок, вытер холодный предобморочный пот. Нацепил маску небрежного безразличия – никто не засмеется ему в лицо. Поднялся на первый пролет лестницы.
По залам, отведенным для выставки, молча сновали сотрудники, Жамисон Педра, художник и архитектор, устремился навстречу:
– Пришел навести последний глянец.
– Очень любезно с вашей стороны, Жамисон.
Тотчас директора окружили и остальные.
– Заканчиваем, – сообщил Жилберт Шавес, – не хватает лишь экспонатов из собрания Мирабо Сампайо. Я хотел привезти их, а он отказался: сам, говорит, доставлю. Места мы уже наметили.
При упоминании осторожного коллекционера дон Максимилиан не смог сдержать улыбку: Мирабо Сампайо, увенчанный многими премиями скульптор, график и живописец, работы которого пользовались огромным спросом, обладал самым большим и изысканным собранием деревянной скульптуры.
– Странно, что он вообще согласился участвовать в нашей выставке: не испугался, что я не верну ему его сокровища.
В эту самую минуту вошел упомянутый Мирабо, словно младенца, бережно прижимая к груди статую Святой Екатерины Александрийской. О ней мечтали антиквары и коллекционеры, о ней вздыхали директора музеев, ибо на подоле ее одеяния вырезана была подпись брата Агостиньо да Пьедаде. «Один из четырех уникумов, подписанных великим мастером, который уступает только Алейжадиньо», – тешил свое тщеславие Мирабо. Дон Максимилиан поспешил к нему:
– Позвольте смертному прикоснуться к этой святыне!
– Осторожно, она тяжелая.
Да, святая была тяжела и велика. Тонкие руки дона Максимилиана – тонкие руки с длинными пальцами – бережно приняли изваяние; восхищенная улыбка осветила его лицо, потемнело в глазах от алчности, когда в стотысячный раз он вгляделся в подпись, удостоверявшую подлинность и уникальность. Озабоченный Мирабо следил за этим ритуалом и вздохнул с облегчением, когда Святую Екатерину подхватил неискушенный Силвио Робато: опасность миновала, монах ничего не заметил. Не заметил и заметить не мог. Только он, Мирабо Сампайо, он один знал, где поставил он свою метку, – свидетелей этого не было. Не то чтобы он верил всем слухам о директоре, но накрепко затвердил одну заповедь: «Береженого бог бережет...»
– Сейчас отведем ей самое видное, самое почетное место, – сказал дон Максимилиан. – Как знать, может быть, в один прекрасный день удастся убедить нашего милого Мирабо, что Святая Екатерина Александрийская должна стоять не в частном собрании, а здесь, в Музее. Мы его убедим, и он нам ее подарит. Он ведь такой великодушный...
Насчет великодушия Мирабо существовали разные мнения, а сам он терпеть не мог шуточек такого рода. Директору доверять нельзя, особенно теперь, когда всплыла, эта история со Святой Варварой Громоносицей. Он ответил ударом на удар:
– Смотрите, как бы я не передумал и не забрал ее назад!.. Не подарю, не продам и – самое главное! – на обмен, дон Максимилиан, я тоже не согласен. Не согласен! – Мгновенно вскипев, Мирабо повысил голос.
Директор понял, что коллекционер имеет в виду не обмен, а подмену. Чтобы утихомирить бестактного Мирабо, он уже во второй раз за сегодняшний день подумал, что надо бы устроить Выставку Современного Искусства: картины и скульптура Сампайо займут на ней достойное место – Пьета, например, да и Христос... И во второй раз оборвал он свою мысль: завтра он уже будет в отставке, какие там выставки?! Снова похолодело у него в груди: «Завтра я уже буду в отставке». Он взял Мирабо под руку:
– Пойдемте выберем ей место.
В сопровождении свиты сотрудников и служителей два сообщника, два подельщика, провернувшие немало замысловатых махинаций, пошли по залам выставки. Она была уже почти полностью развернута и охватывала период от колониальных времен до конца прошлого века, собрав воедино раритеты немыслимой красоты и ценности. В самой середине главного зала ожидал Святую Варвару пустой постамент. Дон Максимилиан велел унести его и заменить маленьким столиком времен голландского владычества, на столик поставили святую из Александрии, воссозданную в Баии Агостиньо да Пьедаде: скульптор, видно, был так доволен этим творением, что на видном месте вырезал свое имя.
Потом привратнику Алмерио было приказано принести прочие экспонаты, оставленные в машине Мирабо под присмотром Эдгарда: он – каждой бочке затычка. Мирабо, еще в ту пору, когда был бесшабашным вертопрахом, кумиром аргентинок из заведения «Батаклан», взял его в шоферы и телохранители: так они вместе и состарились.
Мирабо, хотя положительно помирал от любопытства и жаждал как можно скорее узнать о судьбе Святой Варвары, никак не показал, что знает из газет о ее исчезновении, ни словом не обмолвился о нагрянувшей к нему в мастерскую полиции: язык держал за зубами, а ушки – топориком. Но под конец все же не выдержал и у самых дверей, прощаясь, спросил вроде бы невзначай:
– А куда же вы решили поставить Громоносицу?
Дон Максимилиан, застигнутый врасплох, не ждал вопроса, но отвечать что-то было надо. И он сказал первое, что пришло ему в голову:
– А вот здесь, у входа, где я стою. Как по-вашему, удачно?
И, не дожидаясь одобрения, быстро пожал Мирабо руку, провожать его до лестницы предоставил своим подчиненным, тем более что влетел запыхавшийся караульный ангелок:
– Кардинал просит вас к телефону!
Кардинал со всей сердечностью приветствовал дона Максимилиана и не спешил расспрашивать его о святой. Он только что получил исчерпывающий доклад от викарного епископа и хотел теперь выслушать мнение директора. Дон Максимилиан выложил ему не тая все, что знал. В этот день он не получил никаких известий – газетные статьи не в счет, – не вспыхнула ни одна искра надежды. Из монастыря Сан-Бенто он звонил в управление общественной безопасности: не высказывая своего личного мнения, которое его высокопреосвященство мог бы счесть пристрастным, он сообщил, что доктор Калишто Пассос продолжает настаивать на виновности падре Тео... Подозрения его сменились уверенностью.








