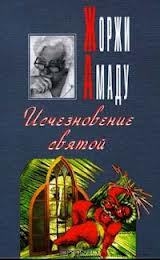
Текст книги "Исчезновение святой"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
В четверг вечером
ССОРА– Данило удивился тому, что Манела не пришла ужинать. Наказана? Нет, дверь в ее комнату открыта. Куда же Адалжиза отпустила ее? В последнее время тетушка была свирепа и племянницу держала на строгом ошейнике, на коротком поводке. Никаких подруг, особенно под вечер, – сделать уроки, помолиться и спать. На ночь ее запирали, а ключ Адалжиза носила при себе, уверена была, что Манела замышляет побег. Данило знал, что жене его хоть кол на голове теши – она от своего не отступится: запирать Манелу – необходимая мера предосторожности, наименьшее из зол. Данило огорчался, но от комментариев воздерживался, ибо слишком дорого они бы ему обошлись.
– А Манела где? – спросил он сейчас, накладывая себе на тарелку дымящийся ямс и тоном своим показывая, что спрашивает так просто, из любопытства, без всякой задней мысли.
Адалжиза на мгновение замерла, обратила на мужа пристальный взор, а потом рассказала обо всех сегодняшних перипетиях – и про найденный обрывок записки, и про бегство назначенное на эту ночь, и про вмешательство падре Хосе Антонио, и про судью по делам несовершеннолетних, и про то, как Манелу определили в монастырь Лапа. Много нервов ей это стоило, но кончилось все с божьей помощью очень хорошо.
– Что? Ты посадила Манелу к «кающимся»? – Данило не верил своим ушам, у него даже голос охрип. Он помотал головой, силясь понять ошеломившую его новость.
– Да. С божьей помощью мне это удалось.
– Ты что, с ума сошла? Ты соображаешь, что делаешь?
– Я исполняю свой долг. Неужели надо было позволить ей удрать из дому к этому мерзавцу? Господь меня вразумил, дал мне силы вовремя вмешаться. Ему одному ведомо, чего мне это стоило. Теперь все уже решилось, и Манела под его святым покровом.
– Да что же ты натворила? Ты, видно, и впрямь спятила!! Или у тебя сердца нет?! Откуда такая жестокость? – Он оттолкнул тарелку. – Пошли! Вставай! Надо сейчас же забрать ее оттуда. Не хватало, чтоб она там оставалась на ночь!
– Это мне решать, когда ее оттуда забирать. Выйдет, как только позабудет эту макаку. И не ори, соседи услышат. Лучше вообще помалкивать об этом. Если спросят, отвечай, что уехала погостить в Оливенсу – двоюродная сестра Данило, бывшая замужем за богатым владельцем какаовых плантаций, часто приглашала их к себе.
Данило слушал эти рацеи вне себя от изумления. Адалжиза была, как всегда, строга и непреклонна, но голос ее звучал спокойно: Манела в безопасности. Миро остался с носом, целомудрие племянницы под надежной защитой. Ничего дурного с девочкой в монастыре произойти не может, а польза несомненная. Окруженная благочестивыми сестрами, с пробудившейся в душе любовью к господу, в постоянном восторге религиозности – утренние мессы, вечерние службы, ни шагу без молитвы, ежедневные исповеди, духовное обновление, – Манела как бы смоет с запятнанной и уже обреченной на погибель души всю грязь, освободится от дурных мыслей, одолеет соблазны, скинет тяжкое бремя грехов и потом, просветленная и благодарная, покорная и кроткая, вернется в лоно семьи – то самое лоно, которое она попыталась осквернить. На лице Адалжизы сияло удовольствие – «я исполнила свой долг, господь свидетель». Она подняла молочник, стала наливать в чашки.
Данило встал:
– Пойдем, Дада, пойдем за Манелой.
– Я ведь тебе уже сказала, чтоб ты и думать забыл про это! Она в монастыре по приказу судьи, никто, кроме меня, не может ее оттуда забрать. Сядь. Пей кофе. Супа я сегодня не успела сварить. И молчи, я не желаю, чтоб соседи шушукались у меня за спиной.
– Я такой же опекун, как и ты. Не хочешь идти, я один пойду.
– Никуда ты не пойдешь. Выбрось это из головы, сказано ведь! Не суйся не в свое дело: воспитываю Манелу я! Понятно? Ну, вот и успокойся, перестань меня терзать.
Она поставила молочник, взяла кофейник. За ужином они иногда ели овощной суп или куриный бульон с рисом, а чаще ограничивались кофе с молоком, бутербродами, плодами ямса или хлебного дерева, кускузом из маниоки, кукурузными пирожками. Данило без памяти любил сладкие бататы, но Адалжиза редко баловала его: от них пучит, а Данило с годами стал страдать от несварения. Любое происшествие тотчас приводило к скоплению газов и к соответствующим результатам. Так случилось и в этот вечер: ссора до того огорчила его, что он не сумел сдержаться и издал протяжный, громовой, энергичный звук.
– Что с тобой, Данило? Постыдился бы! Ты ведь за столом!
ГЛАВА СЕМЬИ– Кто же командовал в доме? Задайте этот вопрос соседям и получите ответ: Адалжиза, разумеется! Она, стервозная баба, всем распоряжается, а у мужа терпенье как у Иова, лишь бы его оставили в покое.
Адалжиза взяла бразды правления с самого начала супружеской жизни, быстро подчинила себе мужа, благо тот занимал в своей конторе крохотную должность с нищенским жалованьем – ниже были только мальчишки-рассыльные. Он делал карьеру медленно, подолгу задерживаясь на каждой ступеньке служебной лестницы, и только недавно достиг поста старшего делопроизводителя с перспективой занять должность нотариуса, сменив Эустакио Лейте, который по чистой зловредности все никак не уходил на пенсию, хоть из него давно уже песок сыпался.
После медового месяца чета поселилась у Пако – средств снимать квартиру у нее не было – в комнате Адалжизы, сменив девичью кровать на двуспальную. Адалжиза сохранила и расширила круг клиенток доньи Эсперансы – та была чересчур разборчива и на кого попало не работала, – так что ее вклад в семейный бюджет был решающим. Другое дело, что тратили супруги мало: Пако Перес не соглашался, чтобы дочка и зять давали хотя бы сентаво на еду – чем бедней он становился, тем чаще взыгрывали в нем гонор и спесь. Итак, стол и квартира обходились молодым бесплатно.
Адалжиза дорого брала за работу – дороже, чем донья Эсперанса, и все-таки от заказчиц не было отбою. Объяснялось это тем, что она достигла высочайшего мастерства, и соперницы ей в подметки не годились. Заказы поступали даже из Рио, а хроникеры, описывая великосветские приемы и торжественные церемонии, как доказательство утонченности и безупречного вкуса присутствовавших дам, подчеркивали, что шляпки их и шляпы «сделаны руками искусницы-модистки Адалжизы Коррейа». В газете «Семь дней» Тереза де Майо объясняла невеждам, что «модистка» – это та, кто делает шляпы, а та, кто шьет платья, называется «couturiere».
Жалкое жалованье Данило, житье на хлебах у тестя, бесплодие, признанное неизлечимым, барские замашки Адалжизы, не понимавшей, что от всего состояния Пако Переса остались какие-то крохи в виде лавчонки старьевщика, – все это вместе взятое позволило трудолюбивой и надменной супруге захватить власть в доме. Последнее слово всегда оставалось за ней. Данило, человек уживчивый, покладистый, мягкий, подчинился, не выказывая – по крайней мере внешне – протеста, позволил дражайшей своей половине командовать и распоряжаться.
Кое-какие скудные и незначительные знаки мужского достоинства ему удалось отстоять, последние рубежи обороны он еще держал: разрешалось ему раза два-три в неделю посидеть с приятелями в кафе, сходить на матч с участием любимой «Ипиранги», сыграть в триктрак или в шашки с профессором Батистой, выпить пива в субботний вечер, а в воскресенье утром пойти на пляж. Посещение борделей было, разумеется, тайным и в этот список завоеванных прав и свобод не входило: Данило забегал туда в конце рабочего дня с тем, чтобы ровно в семь, к обеду, быть дома.
Завела свои порядки Адалжиза и в том, что касалось дел постельных: нет-нет, не пугайтесь, я не стану еще раз живописать все ее скудоумные ограничения, все ее платонические умопомрачения – вы их помните и, без сомнения, единодушно осуждаете. Скажу лишь, что неисправимый оптимист Данило на исходе двадцатого года страданий и борьбы все еще сохранял порочные наклонности и бесстыдные устремления, все еще мечтал о чуде, и когда Адалжиза укладывалась в постель, норовил погладить ее по заду и пробормотать: «Погоди, ворюга, придет и твой час» – эту фразу он вычитал в сборничке сомнительных анекдотов, и она пришлась ему по вкусу. Тем все и кончалось: Адалжиза, не удостаивая мужа даже гневом, заворачивалась в простыню и засыпала. Истинно сказано: «Как волка ни корми...» Неистовый пламень страсти, приводивший к ссорам, скандалам, оскорблениям и даже матерной брани, стал слабеньким коптящим фитильком. Поползновения Данило не вызывали ни протеста, ни поощрения. Волка выдрессировали.
Денежные их дела, и прежде не блестящие, стали совсем плохи после смерти Пако Переса. Он скончался скоропостижно, чуть только успели отпраздновать первую годовщину свадьбы: это был скромный семейный праздник – пригласили Долорес с Эуфразио, выпили за ужином вина, а потом отправились в кино, на забавнейшую мексиканскую комедию. Пако Перес умер от инфаркта, когда осознал наконец, каков негодяй Хавьер Гарсия. Друзья давно уже намекали ему на нечистоплотность его компаньона и советовали внезапно обревизовать бухгалтерские книги и всю отчетность, но Пако отмахивался: он всецело доверял своему земляку, ибо тот всем на свете был обязан ему. Лавка была открыта на деньги Переса, пайщика-коммандитиста, а у Хавьера гроша ломаного не было за душой – ничего, кроме трудолюбия и алчности.
В один прекрасный день, придя в лавчонку за деньгами для игры, Пако услышал от Хавьера, что не имеет больше ни малейших прав на ежемесячную долю в прибылях и на процент с оборота. Хавьер ничего ему не должен. Напротив, он из должника сделался кредитором, а Пако, как явствует из ведомостей, накладных и финансовых поручений, задолжал фирме крупную сумму. Франсиско Ромеро потерял дар речи, побледнел, осекся на полуслове, глаза его остекленели, ноги подкосились, и он замертво рухнул наземь, прямо там, в лавке, где появлялся нечасто: ему, благородному коммерсанту, торговавшему пряностями, заморскими винами из Хереса и Малаги, сырами из Ла-Манчи, сардинами из Виго, омарами и лангустами, претило это грязное и пыльное заведение.
Хавьер Гарсия принял весьма скромное участие в подписке, устроенной друзьями покойного для сбора средств на похороны. Они, впрочем, прошли по первому разряду: вынос из кладбищенской часовни, отпевание, проповедь, роскошный гроб, бдение над телом, сопровождаемое прочувствованными воспоминаниями и пикантными историями о похождениях Пако. Забившись в уголок, молилась за упокой его души юная негритянка с заплаканными глазами – последняя победа Перес-и-Переса. Народу собралась тьма, испанский консул произнес надгробное слово. Словом, похоронили его как положено, и пышность эта отчасти утешила Адалжизу в ее потере.
Но денег, вырученных от продажи кое-каких ценных безделушек, принадлежавших покойному, едва хватило, чтобы расплатиться за квартиру. Семейный адвокат, доктор Карлос Фрага, человек дошлый и настырный, сумел договориться с Хавьером о ликвидации дела. Хавьер бился как лев, но в конце концов раскошелился. Доктор Карлос защищал интересы наследников бесплатно: он свое получил еще во времена семи коров тучных, когда процветающий Пако платил ему баснословные гонорары. Адалжиза не стала транжирить деньги, вырванные из пасти экс-компаньона, а положила их в банк: она уже тогда мечтала о собственном доме.
Несколько месяцев они с Данило прожили в дешевой гостинице, а потом подыскали себе скромное обиталище – спальня, гостиная, душ, раковина, газовая плита. Там, на авениде Аве Мария, они жили уже больше двенадцати лет, и все бы ничего, если бы не соседи: бог знает, что за люди! Приятное исключение составлял только профессор Жоан Батиста. Ценой жестокой экономии сбережения Адалжизы росли, и она уже принялась изучать объявления в газетах.
Ни за что на свете не хотела она расстаться со званием члена-учредителя Испанского клуба, каковое звание после смерти Пако носил Данило, а потому продолжала делать солидный ежемесячный взнос. Адалжиза была и оставалась сеньорой, Адалжиза следовала примеру доньи Эсперансы, а та не уступала давлению обстоятельств, считая, что чем по одежде протягивать ножки, лучше уж вовсе ноги протянуть.
И вот, словно мало ей было мучительной мигрени, бесчисленных забот и хлопот, взвалила на себя Адалжиза тяжкую ношу, стала опекуншей племянницы, в которой ничего испанского и не было, которая готова, была поступиться принципами добропорядочности да еще и влюбилась в таксиста. Какая ответственность, какая обуза! но Адалжиза с божьей помощью выполнит свое предназначение: выбьет из Манелы дурь, спасет ее душу.
МЯТЕЖНИК– Спасая заблудшую душу, исполняя долг, возложенный на опекунов господом богом и судьей по делам несовершеннолетних, Адалжизе предстояло действовать в одиночку, на свой страх и риск: от бывшей футбольной звезды помощи ждать не приходилось – не мычит не телится, отмалчивается, пока тетушка с племянницей ведут словесные распри, а когда они перерастают в настоящий скандал и Адалжиза от нестерпимой обиды прибегает к карательным мерам, ни словечка не говоря, схватит шляпу – и шасть в дверь. Если в этот день был матч, он шел к Кинкасу Сгинь Вода: в его кабачке собирались ярые болельщики и стоял телевизор.
Нельзя сказать, чтобы ссоры эти оставляли его вовсе уж безучастным – напротив, они его глубоко огорчали. Методов своей жены он не одобрял, и она это знала. Когда все еще только начиналось, когда наказания входили в обиход, он произносил протестующие речи, осуждал Адалжизу за несдержанность и вспыльчивость, за непомерную строгость кары. Немало горьких слов сказано было и по поводу плетки. В пылу спора о воспитании он обозвал Адалжизу мачехой, и притом самой мерзкой мачехой в мире.
Но случилось это только однажды, в первый и последний раз. Данило и представить себе не мог, что это определение так оскорбит жену, так уязвит ее, вызовет такую бурю праведного гнева и скорби. Данило потрясся, опомнился, забормотал извинения. Адалжиза заткнула уши. Оскорбленная до глубины души, она рыдала в голос, ночью с ней случился сердечный приступ. А прошел приступ, начались упреки и жалобы: «Вместо того, чтобы поддержать и помочь... ты несешь ответственность за племянницу наравне со мной... должен нести, ибо я надрываюсь одна, и вот, когда я пытаюсь пресечь ее сумасбродства, которые до добра не доведут, что получаю в награду?.. Мачеха? Это я-то мачеха?..» Адалжиза впивалась зубами в наволочку и призывала смерть.
Данило, опасаясь, что мирное и вольготное житье кончится, что гармония и уют – а они все же были! – исчезнут, предпочел умыть руки, предоставить все божьей воле. В точности как Понтийский Пилат, заметил по этому поводу падре Антонио Эрнандес, ибо муж и духовник друг друга недолюбливали. Встречаясь с этим инквизитором, Данило испытывал безотчетное желание дать ему в морду.
Боялся ли Данило свою жену или поступал так из благоразумия, продиктованного любовью, но Адалжиза до того привыкла к его послушанию и покорности, что уделила главное внимание неприличному звуку за столом, а не дикой в его устах угрозе: «Не хочешь идти, я один пойду!» Остолбенев от изумления, Адалжиза безмолвно следила за тем, как Данило завязывает галстук, надевает пиджак, нахлобучивает шляпу и бормочет:
– Это уж слишком, Дада... Я без Манелы не вернусь.
Он замер в дверях, гримаса боли – физической и нравственной – исказила его лицо, он отставил ногу, и громовая очередь прогремела в комнате, заглушая властный крик Адалжизы:
– Данило, вернись! Вернись сию же минуту!
СЕМЬЯ, КОТОРАЯ СОБИРАЕТСЯ ЗА УЖИНОМ, НЕРУШИМА– В своем ли имении находился Жоаозиньо Коста или в городе, он требовал неукоснительного соблюдения введенных им самим правил и обычаев. Семейный ужин по четвергам был одним из таких обычаев; семья усаживалась за огромный стол черного дерева. Мужчинам – виски, Олимпии – джин с тоником; португальские вина, яства, приготовленные чернокожей кухаркой Претиньей, вывезенной из глухой глубинки. Иногда проездом в столицу появлялся какой-нибудь родственник, но, как правило, собирались только свои: хозяева дома, зять, две дочери, наследницы одного из самых крупных состояний в Баии. Одиннадцать лет разделяли Олимпию и Марлен, а в промежутке дона Элиодора родила сына, который прожил недолго: умер от дизентерии, когда ему еще и года не исполнилось. Для Жоаозиньо это было огромной потерей. Он продолжал мечтать о наследнике рода, и дона Элиодора забеременела вновь, но произвела на свет семимесячную девочку.
«Мой девиз таков, – говаривал владелец бескрайних земель и хранитель нерушимых традиций, – семья – это фундамент общества». Он требовал, чтобы Олимпия и Астерио в этот священный час непременно сидели за столом, даже если ради этого им придется отказаться от важных и многообещающих встреч и визитов. Он всерьез сердился, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство мешало им. «Сначала семья, – восклицал он, – губернатор потом!» – «Это был не губернатор, папочка, а генерал».
Вот и в этот четверг, наполненный столь разнообразными событиями, семья сидела на веранде, выходившей в сад с бассейном, и поджидала Астерио – он безбожно опаздывал. Марлен, младшая, непокорная дочь в маечке и мини-юбочке, то и дело с возмущением поглядывала на часы – «что за хамство такое, в конце-то концов!» В половине девятого она должна быть у подъезда театра «Кастро Алвес», где французские телевизионщики будут записывать Каэтано Велозо, Жилберто Жила, Марию Бетанию и новую звезду – Гал Коста. Пригласил Марлен на съемку Жорж Мустаки, с которым она познакомилась накануне и больше не расставалась. Время встречи неуклонно приближалось. Марлен и не думала скрывать свою досаду на Астерио: «Он что, думает, нам больше делать нечего? Кем он нас считает?» Допустить, чтобы Мустаки томился у театрального подъезда, отдать его по доброй воле осатаневшему бабью? – нет, спасибо! – этого не будет.
Глава семейства тоже не находил себе места: садился, вскакивал, ходил взад-вперед, поглядывал на двери, прислушивался, не раздастся ли рокот мотора. Астерио отбыл на «фольксвагене», а «мерседес» с шофером отдан был в распоряжение Олимпии. Впрочем, она приехала на такси, поскольку путь ее лежал из уютной квартирки, предоставленной сенатору одним из министров штата, его протеже, – сенатор пользовался славой бабника и гуляки.
Дона Элиодора – вся в брильянтах: одно только колье стоит многоголового стада быков, грудь примадонны, бедра в стиле бельэпок укрощены пресловутым резиновым поясом – потягивала фруктовый коктейль, слушая столичные новости и дивясь, как это Олимпия упомнит столько всякой всячины и ничего не перепутает. Вот, например, неприятности у лейтенанта Элмо – того красавчика, который был здесь со своим генералом, помнишь? «Помню. Так что с ним стряслось?» – «Он развлекался с генеральшей, и вот, в самый неподходящий момент, появляется откуда ни возьмись муж, и наш лейтенантик загремел на колумбийскую границу, а там одни индианки, у них губы, как блюдца...» На кухне в ожидании распоряжений сидел Зе Ландыш, повествовал Претинье о том, как стосковался он по жене: лучше ее никто не лечит заговором от кашля и прочих хвороб.
Но вот наконец в дверях появился Астерио с коричневым конвертом в руке.
– Простите, задержали меня в конторе... – извинялся он, поочередно целуя тещу, свояченицу, жену. – Наш сенатор пожелал непременно сам доставить мне известие о том, что министр одобрил наше предложение, контракт на прокладку шоссе уже готов. Надо будет это дело спрыснуть.
При этих его словах Олимпия застенчиво улыбнулась, скромно потупилась: она внесла в это дело свой вклад, жертва ее была не напрасна, не зря мучилась она сегодня на сенаторском ложе, принимая диетические ласки. Покидая ее, сенатор объявил, что прямо отсюда направляется к «нашему милому Астерио». «Зачем?» – удивилась Олимпия. «Хочу взглянуть, идут ли ему рога». В объятиях его превосходительства Олимпия устремлялась мыслями к Силвии и семинаристу: счастливцы, для них эти часы освещены пламенем страсти, согреты жаром наслаждения, разнообразного и прихотливого, а она тут выбивается из сил, пытаясь вдохнуть жизнь в сенаторского покойника. Но теперь, услышав, что старания ее не пропали даром, что благосклонность сенатора принесет Астерио крупный куш, она благословила эту пытку и улыбнулась мужу. Тот окинул ее взглядом выпученных жабьих глаз, убедившись лишний раз в красоте и преданности своей супруги – безупречной и несравненной. Олимпия унаследовала от отца понимание того, что семья – священна.
ФОТОГРАФИЯ, СНЯТАЯ В МОТЕЛЕ, ИЛИ ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА В ИЗОБРАЖЕНИИ СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ– Астерио помахал конвертом перед носом изнемогающего тестя:
– Я даже не успел его вскрыть.
Жоаозиньо, захлопав в ладоши, властно сказал жене и дочкам;
– Идите, идите к столу, мы сейчас...
Женщины направились в столовую, а тесть и зять подошли к лампе, чтобы получше разглядеть падре Абелардо Галвана и Патрисию во всей красе. Астерио вскрыл конверт, на котором не было ни адреса получателя, ни фамилии отправителя, вытащил оттуда негатив и цветную фотографию 18x24. Помещик уже предвкушал, как вытянется лицо у кардинала-примаса, какую рожу скорчит высокопреосвященный лицемер. Его послушать, так милее Жоаозиньо на свете нет: «Как поживаете, друг мой? Как ваша фазенда? Благодарю за тот бочонок пальмового масла – жидкое золото!» – а за спиной покрывает падре-крамольников.
Да, на фотографии были запечатлены мужчина и женщина в чем мать родила, но это был не тот мужчина и не та женщина.
– Что за черт! Это же не Галван!
Астерио схватил снимок, вгляделся и вскипел:
– Идиоты! Олухи! Сукины дети!
Да, это были не падре Абелардо, не распутная актриска. На четко отпечатанной фотографии Астерио узнал не только жену судьи по делам несовершеннолетних, но и семинариста, с которым Олимпия, кажется, крутила романчик. Так, значит, он ей дал отставку? Астерио был вне себя от негодования, но вовсе не потому, что этот щенок изменил его жене, – он в эти дела не совался. Разумеется, он знал, что его любвеобильная Олимпия развлекается на стороне, но никогда не вмешивался, разве что в тех случаях, если очередное увлечение было не ко времени или могло помешать его делам и планам.
Негодовал и возмущался Астерио оттого, что накануне ему позвонили из столицы и сообщили, что агенты высочайшей квалификации и абсолютной надежности уже отобраны и посланы в Баию. Возглавляет операцию агент Семь-Семь-Ноль, а значит, успех гарантирован. Ошибка исключена, провал невозможен. Семь-Семь-Ноль – ас из асов.
– И эти-то недоумки хотят справиться с коммунистами?! Только и умеют, что кости ломать! Идиоты! Засранцы!
Услышав гневный голос мужа, вернулась на веранду Олимпия. Астерио попытался было спрятать фото, но она быстрым движением перехватила конверт: интересно же, из-за чего так распетушился тот, кто похвалялся своим самообладанием?
Она глядела и глазам своим не верила. С уст ее чуть было не сорвалось: «Боже мой, что же это такое?» – но она вовремя прикусила язык, а для верности зажала себе рот. Зажмурилась, снова открыла глаза, взмахнув накрашенными ресницами. На еще влажном снимке – Силвия Эсмералда и юный Элой в костюмах Адама и Евы, а сутана, платье, рубашка, трусики валяются у круглой кровати – в мотелях всегда такие. Они стоят бок о бок: Силвия, перепуганная до последней степени, таращится в объектив, лицо Элоя застыло в плаксивой гримасе, хвастаться ему решительно нечем. Даже тайные прелести Силвии, вдохновившие когда-то дебютанта Жоку на сонет в ее честь, не спасают положения – зрелище, прямо скажем, весьма неприглядное.
Олимпия была растерянна, сбита с толку, не знала, что и думать. Она снова зажмурилась – и вдруг поняла! Еле удержалась от вскрика. Только теперь осознала она, какой опасности подвергалась и от какой беды спасло ее свидание с сенатором. Все стало ясно как божий день: это она, а не Силвия должна была стоять нагишом под объективами секретной службы. А в том, что это дело рук секретной службы, сомневаться не приходилось: точно такая же история случилась перед выборами с женой одного парламентария. Теперь, значит, пришел ее черед. От ее имени послали записку Элою, назначив время и место свидания, он попался на эту удочку, попалась бы и она, Олимпия, если бы не условленная встреча с сенатором. Бедная Силвия, вот уж в чужом пиру похмелье, она, должно быть, в отчаянии. Все ясно: они хотят скомпрометировать Астерио! Но почему же политическая полиция вдруг обозлилась на него? Наверно, случилось нечто такое, о чем она даже не подозревает. Астерио обычно все ей рассказывает, держит в полном курсе всех своих дел, отчего же на сей раз он промолчал?
– Астерио, объясни, что это значит?
Но ответил ей отец, причем голос его звучал совершенно ненатурально:
– Да ничего особенного, Лимпинья... Это шутка, мы решили подшутить... – Он хотел засмеяться, но у него ничего не вышло.
Олимпия не сводила глаз с мужа, а он, видя, что она в панике, потихоньку от тестя сделал ей знак – успокойся, мол. Жоаозиньо Коста, оправившись от первоначальной оторопи, заметил с насмешливым раздражением:
– Кто бы мог подумать, что Прадо д'Авила позволит украшать себя рогами! Никому нельзя доверять! Идите к столу, я догоню вас.
Он двинулся на кухню, и супруги остались с глазу на глаз. Олимпия спрятала конверт с негативом и фотографией в большую белую сумку «Кристиан Диор». Странно, зачем же они отдали негатив? Наверно, уже разослали фотографии всем, кто так или иначе имеет дело с политикой и бизнесом. Сокровенные красы Силвии выставлены на всеобщее обозрение и посмеяние. Олимпия подошла к мужу вплотную:
– Тебе что-нибудь известно об этом?
– Все мне известно. Дома расскажу. Ничего особенного.
– Не лги, Астерио. Ведь это против тебя направлено, да? Но за что они на тебя взъелись? – Она говорила шепотом, хотя комната была пуста.
– Нет-нет, поверь мне, это всего лишь недоразумение. Дома все узнаешь. – Он протянул ей руку, и они пошли в столовую: пикирующий бомбардировщик рядом с гигантской жабой.
Марлен, ерзавшая на стуле от нетерпения, поковыряла дивного лангуста, отказалась от креветок, от филе, от прочих яств – «мне не хочется есть, мамочка». Она ждала только прихода отца, чтобы попросить разрешения встать из-за стола и нестись со всех ног в объятия обворожительного метека [60]60
Метек (греч.) – иноземец.
[Закрыть].
Ах, Жорж Мустаки – эти седые волосы, нимбом стоящие вокруг головы, эта всемирная известность, эта слава... И стоит ждет у дверей театра. Папочка, куда же ты запропастился?
А папочка размеренными шагами шел на кухню. Хорошо, что он не отправил Зе Ландыша домой, в Пернамбуко, как советовал зять. Он покачал головой: «Ох, уж этот Астерио, вечно у него какие-то безумные идеи... Самомнение из него так и прыщет, похваляется, будто может все на свете, фанфарон. За погляд можно деньги брать, а на самом деле дурень, слюнтяй... Рогоносец! И судья по делам несовершеннолетних, доктор Прадо д'Авила – тоже! Вот бы никогда не подумал!»
АРГУС НА СТРАЖЕ– Завернувшись в непромокаемый плащ, ставший уже притчей во языцех, надев темные очки, примяв книзу поля шляпы и, следовательно, обеспечив свое инкогнито, комиссар Риполето приступил к выполнению деликатного и опасного задания, порученного ему начальником службы безопасности. Комиссар на себе испытал, что такое несдержанность, обман и насилие, однако это не помешало ему сделать точный, объективный вывод: жители Санто-Амаро взялись за оружие и не собираются его складывать.
Поведение комиссара Риполето тем более заслуживает всяческого поощрения, что он столкнулся с немыслимыми трудностями, с открытой недоброжелательностью, с разнообразными препятствиями, но не отступил, а одолел их. Он расспрашивал Жозе Велозо, дону Кано и других граждан вставшего на дыбы городка, но выслушивал самые смехотворные ответы. За спиной у него смеялись и издевательски спрашивали: «Это кто – Шерлок Холмс или телохранитель Тенорио Кавальканти?» – он покорно сносил дерзости, которыми осыпала его первая дама Санто-Амаро, могутная, краснолицая, пышногрудая Марина, кума и экономка викария. Она, пользовавшаяся безмерным уважением своих земляков, была до того уязвлена нескромностью тайного агента, что едва не нанесла ему оскорбления действием: «Ничего я вам рассказывать не стану, оставьте меня в покое, мамашу свою спрашивайте, от кого она вас заполучила». Цедили ему сквозь зубы и угрозы: «Убирайся шпионить к себе в Баию».
Мятеж выплеснулся на улицы, население было настроено очень воинственно. На углах и перекрестках люди собирались толпами, шли к Церковной площади, кричали «ура!» викарию, Жозе и доне Кано. По земле и по воде – в машинах, на грузовиках, на телегах, запряженных быками, на мотоциклах и велосипедах, верхом на лошадях, мулах и ослах, на яликах, лодках и катерах – мчались гонцы в другие города Реконкаво, неся весть о том, что объявляется освободительный и карательный крестовый поход, собирая под знамена Святой Варвары Громоносицы корабли и адмиралов, солдат и матросов. По всей реке Парагуасу гремели трубы Страшного суда, по берегам в пыли и воодушевлении неслись люди, крича: «Святая принадлежит нам!»
Утром, всегда в один и тот же час, почтовый катер доставлял подписчикам «Диарио де Нотисиас» и «Тарде». В тот четверг, о котором идет у нас речь, газеты, став всеобщим достоянием, переходили из рук в руки и читались вслух. Все, кто знал грамоту, ознакомились с репортажами Гидо Герры и Жозе Берберта де Кастро: первый сообщал об исчезновении святой, второй – о том, что своими глазами видел Громоносицу на причале.
Какие противоречивые сведения! Чему верить? Что за вопрос! – «Тарде» не допускала «уток», не распускала слухов, честным крестом можно было поклясться, что все сообщаемое ею – правда. Ну, а сенсационные новости щелкопера Гидо Герры – брехня от начала до конца, причем брехня, выдуманная по просьбе какой-нибудь шишки, заинтересованной в том, чтобы вызвать смятение по поводу святой, – разве не спелись директор Музея Священного Искусства и доктор Одорико Таварес, директор баиянского газетного концерна? Ясней ясного, чего они добиваются: сообщат, что статую украли, а когда схлынет шумиха, Святая Варвара скромненько появится в Музее. Это случай не первый и не последний. Как зовут вора? Называя имена, легко ошибиться, но в данном случае сомнений нет: упоминая о злоумышленнике, падре всякий раз именовал его дон Мимозо [61]61
Mimoso – баловень, неженка. (португ.).
[Закрыть].
Была и еще одна версия – выдвинутая, конечно, злопыхателями из оппозиции: они утверждали, что кража совершена по приказу губернатора, собиравшегося преподнести уникальное изображение святой одному генералу, который должен был вот-вот сделаться президентом Бразилии. Такие случаи уже бывали – и неоднократно. Очень кстати всплыло тут имя некоего полковника, питавшего слабость к древностям и раритетам. Когда он командовал своей частью, расквартированной в Масейо, то с помощью местных политиканов опустошил все ризницы штата Алагоас. Спустя какое-то время он получил генеральский чин и был отправлен в отставку. Сменил мундир на пижаму, утерял толику тщеславия, подался в либералы. Алагоанская добыча пошла на приобретение квартиры в фешенебельном квартале Рио – Сан-Конраде. Вспоминая времена былого могущества, налеты на монастыри и храмы в Пенедо и Сан-Мигел-дос-Кампос, генерал объяснял, что эта роскошная квартира досталась ему с божьей помощью и при содействии святых.








