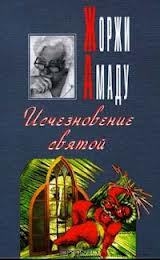
Текст книги "Исчезновение святой"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
На улице Грегорио де Матоса накапливались для атаки афоше и африканские группы – их было добрых полдесятка, и каждая готовилась прогреметь своей музыкой, прославить свои негритянские корни, так мощно повлиявшие на бразильскую расу. Неподалеку готовились «Дети Ганди» – славнейшая из карнавальных групп, и долетал уже рокот их барабанов-атабаке. Танцовщицы из группы «Жаку» в голубовато-бирюзовых хитонах сидели на паперти, и развеселая орава учениц театральной школы, присоединившись к ним, тотчас принялась плясать на ступеньках храма. Народ валил со всех сторон: спускался с Кармо и Террейро-до-Жезус, поднимался от Табуана, рекою, впадающей в море, тек с Байши-дос-Сапатейрос. Повсюду звучала музыка Жилберто Жила.
Жак Шансель в сопровождении Нилды весьма увлеченно проводил смотр разных групп и школ самбы, определяя, кому за кем идти. Он жалел только, что нет Силвии Эсмералды, оголенной сверху и снизу до последней степени вероятия. Он спросил о ней у Патрисии, которая, пристроив своего падре на возвышении для почетных гостей, – там был и французский консул Жак Фала, и португалец Фернандо Ассиз Пашеко, и американка Френсис Смит, и кое-кто из видных бразильцев, – вернулась к исполнению своих непосредственных обязанностей.
– Оu est Sylvie? Je ne la vois pas.
– Elle est malade.
– Comment, malade! Quelle dommage! Je voulais tant faire la fete avec elle! La fete du Carnaval, bien sur...
– Settlement du Carnaval? – с намеком спросила Патрисия.
Нилда Спенсер расхохоталась, но француз не растерялся:
– Elle est si belle... [75]75
А где же Силвия? Что-то я ее не вижу. – Заболела. – Заболела? Ах, какая жалость! Я так хотел устроить с ней праздник... Праздник карнавала, разумеется. – Карнавала, и только? – Она так хороша... (франц.)
[Закрыть]
Обе красотки рассмеялись, хотя впору было бы поплакать над незадачливой подругой. Бедная Силвия, что с ней только будет, когда она узнает, что Жак Шансель, знаменитость, шармер и яблоко раздора бразильских дам, Жак Шансель, которому адресовала она вздохи томные и романтические, Жак Шансель, которому она недвусмысленно предлагала свою благосклонность, сам Жак Шансель заметил ее отсутствие, спросил о причине оного и в полный голос, во всеуслышание заявил, что без нее ему и праздник не в праздник... Да она с ума сойдет от досады, зачахнет с тоски. Не повезло! Угораздило же заболеть в день карнавала!
Они увидели грандиозный проход афоше «Дети Ганди» – все в ослепительно белых одеяниях, и впереди – сам Ганди с козочкой. Увидели группу «Жаку», и глаз их порадовался девицам в бирюзовых хитонах и разлетающихся юбочках – «уж такое было жаку!..». Вел их, задавая ритм, Валтиньо Кейроз, а рядом с ним шла его почтенная матушка Луз да Серра, по виду годившаяся ему в сестры. Увидели они и Георгия Мустаки, грека, родившегося в Александрии, parisien [76]76
Парижанин (франц.).
[Закрыть], взасос целовавшего Леноку, а та была еще голей, чем студенточки театральной школы. Видели, как вступила на площадь группа «Интернасьонаис» под командой президента этого клуба Рубиньо и под музыку, специально сочиненную для них Винисиусом де Мораэсом. Они увидели все это и многое, многое другое, и камеры их запечатлели веселое и раскованное сумасшествие, праздник, не знающий ни границ, ни удержу, увидели бурный выплеск веселья, радости и свободы. Самые внимательные телезрители могли заметить и падре Абелардо – камеры иногда скользили по нему: он бил в бубен и не сводил глаз с мелькавшей внизу Патрисии.
А вот ее операторы не выпускали из поля зрения ни на минуту, фиксируя каждое ее движение, которое тотчас же повторялось всеми танцующими, отражаясь, точно в тысяче зеркал, танцорами и танцовщицами на площади. Увидели французы эту бело-черно-краснокожую голландку Патрисию да Силва Ваальсерберг, увидели баиянку Патрисию, апогей мулатства, триумф смешения кровей.
Ей очистили место, чтобы под восхищенный гул и плеск ладоней она танцевала одна – единственная и неповторимая (тут операторы взяли ее крупным планом). «Сын Ганди» Камафеу де Ошосси, непереносимо элегантный в своих карнавальных одеждах, потряхивая спичечным коробком, взял на себя обязанности дирижера и церемониймейстера, а Патрисия, знаменщица и королева карнавала, играючи выполняла самые немыслимые па, может быть, даже слишком качая бедрами, вертя задом, выкладываясь до конца в этой самбе и преследуя святую цель – показать французам, чт о есть карнавал, величайший праздник бразильского народа. Это во-первых. А во-вторых, сделать так, чтобы ее духовный отец падре Галван, ее милый и девственный Абелардо, увидел ее и пожелал.
ЭПОПЕЯ В СТИЛЕ ЭУКЛИДЕСА– Для того чтобы поведать обо всем, что происходило на площади Пелоуриньо с Зе Ландышем, надо быть по крайней мере Гомером или Шекспиром. Или Эуклидесом да Куньей [77]77
Эуклидес да Кунья (1866–1909) – бразильский писатель, автор документального повествования «Сертаны».
[Закрыть], основавшим товарищество на паях с Достоевским и Гоголем. Под силу ли моему слабому перу это беспримерное сочетание греческой трагедии с русским романом? Мне ли, баиянскому сочинителю, небрежному и заурядному борзописцу, «кровь» умеющему рифмовать только с «любовь», браться за такое? Ни величия древних аэдов, ни утонченного психологизма, ни блеска стиля, ни художественности – ни черта нет! А что же есть, и притом в избытке? – Отвага! Отвага, присущая невежеству. Вот запасясь ею, и похромаем далее. Благословясь, приступим.
Целую вечность – те два часа, пока шел карнавал, пока гремело, сверкало, блистало, пока неисчислимая сила баб выставляла напоказ свои прелести, пока длилось это могучее и откровенное бесстыдство, – Зе Ландыш, то поспешая, то замирая на месте, прожил со страхом, с опасностью, с неволей, со смертью. Он разрабатывал планы, обдумывал ходы, попирал законы, совершал насилия, обдумывал, воображал, он был схвачен, судим и приговорен, он спустился в самый ад, он убил и умер.
Решимость одолеть препоны появилась у него еще у театральной школы, когда увидел он, как падре, сукин сын, жеребячья порода, уселся к этой полоумной чуть не на закорки, притулился к ней – и мотоцикл, взревев, скрылся из виду. Зе Ландыш вскочил в такси: окаянную парочку было никак не догнать, она была уже далеко впереди, но шофер успокоил его: ничего, мол, они на карнавал едут, на площадь Пелоуриньо. Господь не оставил, а таксист доставил – доставил на площадь в тот самый миг, когда оба придурка – он и она – влезли на подмостки, где стояли музыканты. Бесовка, правда, тут же слезла вниз, а падре, с позволения сказать, остался среди важных гостей, тузов и шишек. Ну, падре, ну, кобель, мало ему, значит, замужней дочки полковника... Погоди ж ты у меня.
Увидев, что падре приткнулся наконец к постоянному месту, Зе Ландыш стал оценивать ситуацию, чтобы выполнить поручение чисто и в самый подходящий момент. Скажу вам, что пристукнуть человека можно экспромтом, под воздействием некоего озарения – это, конечно, наилучший вариант, но в сложных случаях, вот как этот, к примеру, необходимо все тщательнейшим образом спланировать, все расчислить с математической точностью.
Сначала Зе Ландыш подумал, что застрелит падре прямо там, рядом с музыкантами: это проще простого, годилось любое окно на первом этаже, выходящее на площадь. И Зе проник в дом через черный ход, и никто его не заметил, потому что служители обоего пола высыпали на мостовую и пялились на всеобщий пляс. Убийца приоткрыл окно, и кудлатая голова падре оказалась совсем близко: и захочешь – не промахнешься. Замечательно! Да? Как бы не так! Смертельный риск. Стоит проклятому попу чуть-чуть отклониться в сторону, вперед или назад, и пулю схлопочет другой, ни в чем не виноватый. А эти бездельники на месте не стоят, всякую минуту меняют позу, двигаются, чтоб их!.. Проще простого, а вот невозможно. Зе Ландыш вышел из Музея так же, как вошел – незаметно. Тихо.
Были рассмотрены другие варианты, но ни один из них его не устроил, ибо не гарантировал стопроцентного успеха. Зе Ландыш рисковать не мог: на его совести уже был один убитый по ошибке, нет уж, спасибо, на двоих его не хватит. После долгого размышления он пришел к выводу, что ничего другого, как застрелить падре открыто, при свидетелях, не остается. Однажды он уже пошел на это, и, разумеется, его сцапали на месте, однако полковник Улисс Кардозо, которому, кроме заказа на этот выстрел, принадлежал и весь штат Алагоас, вызволил его из каталажки, чуть только прознал про такое идиотство со стороны полиции. Зе Ландыш был человек тертый, с наметанным глазом и потому легко узнал стоявших в подворотнях переодетых полицейских: судя по всему, падре интересовал их не меньше, чем его. Комиссара Паррейринью, к слову сказать, он определил сразу же: конечно, не знал, что он – комиссар и к тому же Паррейринья, но рожу легавого ни с какой другой не спутаешь. Делать нечего: хоть вокруг кишмя кишат агенты, хоть вполне вероятно загреметь в тюрьму и под суд, который меньше тридцати лет заключения ему не отвалит, – надо выполнять свой долг, надо доказать, что ты – порядочный человек и дорожишь своим добрым именем.
Да, порядочный человек, истинный профессионал и – добавлю от себя – очень толковый и терпеливый. Именно поэтому падре Абелардо мог еще некоторое время наслаждаться жизнью. Зе Ландыш устроился за помостом с музыкантом, приготовившись ждать столько, сколько потребуется. Поодаль кто-то – по виду земляк – сел во вьючное седло своего осла, чтобы видеть, а все остальные даже не шевелились, захваченные зрелищем. Ишь ты, падре, думал между тем Ландыш, затесался к большим людям, влез даже выше музыкантов, но погоди, как влез, так и слезешь, а как слезешь, тут тебе и крышка: блудливых котов холостят. Если потом успею добежать до Ладейры-до-Ферран, то выкручусь. Зе Ландыш был очень внимателен и сосредоточен и только изредка позволял себе бросить беглый взгляд на голые бедра и животы, крутые груди и точеные зады, ибо понимал всю меру лежащей на нем ответственности. Он почти не сводил глаз с приговоренного.
А праздник между тем охватил уже все пространство от кафедрального собора до монастыря Кармо. На улицу вышли по собственному почину, по своей охоте и без всякой надежды на вознаграждение еще две рок-группы: одно электротрио поместилось на углу Алфредо Брито, другое – у входа на Ладейру-до-Табуан. Появились еще школы самбы и афоше, не предусмотренные программой, появились и приняли участие в веселье: упомяну «Апашей из Тороро», группу Барона, «Сов», «Купцов из Багдада». Репортеры как всегда приврав, но на этот раз ненамного, уверяли, что десять тысяч танцевали на площади самбу, и продолжалось это до зари, и пришли они вовсе не за тем, чтобы покрасоваться перед объективами телекамер, – нет, из семи ворот города Баия ринулись они на карнавал.
Пик воодушевления, чтобы не сказать «массового психоза», пришелся на те минуты, когда камеры стали снимать беспримерный проход «Детей Ганди»: в первом ряду в обнимку с президентом шел Жак Шансель. Именно тогда Патрисия решила позвать падре, чтобы вместе с ним нырнуть в людское море: до сих пор она работала, а он только смотрел. Она махала руками, чтобы привлечь его внимание, она кричала, чтобы он услышал, она звала его и приказывала спуститься. Зе Ландыш встрепенулся, отвел глаза с того чудака на осле – он теперь слез с седла, присел в сторонке и вроде задремал. Нет, только деревенский пентюх способен на такое: спать на карнавале. Ослик жевал яркую афишу, содранную со стены. Весь народ рукоплескал и смотрел на «Детей Ганди».
Зе Ландыш сунул руку в карман своего дождевика, сжал рукоять револьвера «Таурус» – 38-й калибр, шесть патронов в барабане и все смертельные, рука не дрогнет, мушка не моргнет, бог не выдаст, а свинья не съест. Прощай, попик, дерьмо ты собачье, прощай, пришел твой смертный час, прощайся с жизнью и с блудом, не придется тебе отплясывать с нею самбу и тешиться в оскверненной постели, конец тебе. И чужую землю больше делить не будешь, и с чужими женами блудить, потому как не подобает падре такими делами заниматься. Прощай, сукин сын, и зачем ты только ввязался в это?!
Падре Абелардо спустился с возвышения. Патрисия обняла его за талию, Зе Ландыш подошел почти вплотную, наставил револьвер в затылок обреченному, нажал на спуск. Но рука отчего-то дернулась, и пуля ушла куда-то в небосвод. Зе резко повернулся, готовый на месте пристрелить мерзавца, толкнувшего его под локоть. Но поблизости никого не было, кроме дремлющего крестьянина да ослика, продолжавшего жевать вкусную и питательную афишу.
Парочка удалялась туда, где гремел карнавал, и Ландышу некогда было разбираться, он прибавил шагу, взял на прицел голову беспокойного покойника, выстрелил. И снова дернулась рука, и снова пуля пошла «за молоком». В третий раз выстрелил он, и в четвертый, и в пятый – и все неудачно. Оставался один патрон. Зе Ландыш совершенно потерялся.
Житель сертанов готов умереть, готов покончить с собой, если нужно, но не падает духом, ибо он, как учит нас Эуклидес да Кунья, духом этим крепок. Последнюю пулю Зе Ландыш приберег для себя. Он поудобней уселся на мостовой, рассудил, что падре знается с нечистой силой, вспомнил и пожалел жену, индеанку Моми, умеющую гадать, заговаривать любую хворобу и еще так жарко ласкать его в гамаке. Приставил дуло к груди, к тому самому месту, где билось его сбитое с толку сердце, сердце храбреца, попрощался с жизнью и с милым Пернамбуко, родиной отважных. Выстрелил, почувствовал, как хлынула, заливая дождевик, кровь, понял, что мертв, опустился наземь, раскинул руки. Он только не заметил, что вовсе не кровь ударила струей из пробитого сердца, а просто грязная водица вытекла из ствола револьвера. «Таурус» 38-го калибра ни с того ни с сего сделался игрушечным.
ПЕНТЮХ С ОСЛИКОМ– А крестьянин, безмятежно дремавший в сторонке, вдруг проворно поднялся, подошел к распростертому на мостовой Зе. Низкорослый, коренастый, с длинными, как у гориллы, руками, он легко поднял убийцу, взгромоздил его поперек допотопного и громоздкого вьючного седла. Потянул ослика за узду, а тот потащил непривычный груз по крутому и скользкому спуску Ладейры-до-Ферран. На остановке крестьянин ссадил Зе Ландыша, усадил его в автобус, отправляющийся в Ресифе. Зе Ландыш побывал на том свете и теперь возвращался на этот.
Дон Максимилиан фон Груден видел, как кафуз [78]78
Метис от брака мулатки и негра, негритянки и индейца.
[Закрыть]вел своего покладистого и медлительного ослика вниз по Ладейре-да-Прегиса. Да и не один дон Максимилиан – многие видели эту деревенщину, но никто не обращал на него внимания, а если и замечал, то потешался над нескладным увальнем. Дело известное: беженец с Северо-Востока, засуха скосила скотину, убила детей, вот он и двинулся в столицу штата. Мог он быть и рубщиком сахарного тростника, и рыбаком с берегов реки Сан-Франциско, а может, собирал пальмовое масло денде, заготовлял пальмовое волокно или растительный воск. Может, носил он кожаную шляпу, был скотоводом из каатинги, продувным малым, танцором и задирой.
Бесстрашный и отважный сертанец со своим маленьким – никак не крупней козла – осликом. Что тут особенного? И только те немногие, кто был призван и посвящен, кому ведома тайна волшбы и колдовства, кто покумился с самим Сатаной, кто выходит на кандомбле, только они знали, что приземистый длиннорукий крепыш в выгоревшем и мятом пиджачке, доходившем чуть не до колен, в пастушьих сандалиях-альпаргатах, попыхивающий самокруткой, попахивающий кашасой, – не кто иной, как сам Эшу Мале, молочный брат и помощник богини Иансан, явившийся по ее зову.
А когда крестьянин со своим осликом поднимались по Ладейре-до-Папагайо, на вьючном седле всякий, кто хотел, мог бы увидеть иную поклажу – кожаную плетку, порядком истрепавшуюся от частого употребления.
ШТИЛЬ– Непобедимая Армада с торжественной медлительностью скользила по реке Парагуасу. Спокойные воды ее несли парусники, баркасы, боты, яхты и шхуны; сменяли друг друга, накатывая волнами, песнопения духовные и вполне светские, псалмы и самбы, гимны и песни протеста, запрещенные цензурой, проклятые властями.
Флот насчитывал двадцать восемь вымпелов: ветер надувал паруса, трепал, но не срывал флаги расцвечивания – часть была из материи, а остальные бумажные. Народ толпился на берегах, приветствуя экспедицию, кое-где устраивали молебны и шествия, прося господа даровать ей победу.
Но когда уже ближе к вечеру Непобедимая Армада вошла в Бухту Всех Святых, где ее тоже восторженно приветствовали жители многочисленных островов, случилось непредвиденное. Ветер утих – наступил полнейший штиль, абсолютное безветрие, море стало гладким, как голубовато-зеленый ковер, без малейшего признака не то что зыби – ряби. Казалось, по нему можно идти, аки посуху. На кораблях воцарилось мрачное молчание – дурная примета омрачила настроение.
Сколько же им теперь томиться в бездействии? До вечера надо было ошвартоваться у Рампы-до-Меркадо, а потом двинуться к монастырю Святой Терезы, к Музею, чтобы заявить директору, принимающему в это самое время губернатора и кардинала: «Святая принадлежит нам!» Они же везли с собою двенадцать транспарантов, пятьдесят два плаката. Успеют ли? Не сорвется ли манифестация?
– Все пропало, падре. Безветрие может продолжаться еще несколько суток... – меланхолически заметил Гидо Герра, утративший весь свой пыл.
– Замолчи, Фома Неверный! Святая Варвара Громоносица это дело так не оставит, сейчас же пришлет к нам ветерок. Нам много и не надо. – Викарий пытался приободрить свой приунывший экипаж, но и сам утерял недавнюю веселость.
Вот тогда со шхуны, на которой разместились почтенные богомолки из Общины Пресвятой Девы Блаженного Успения, и донеслась старинная песня, родившаяся еще в сензалах:
Громоносная Варвара,
Подари рабыне бедной
Завалящий грошик медный,
Подари мне три тостана —
Выкуплюсь и вольной стану...
Дона Кано, в душе которой всегда жила гармония, немедленно сымпровизировала:
Громоносная Варвара!
Дабы мы поспели в срок,
Громом грянь, блесни зарницей,
Ниспошли нам ветерок...
Хор подхватил, песня понеслась над голубовато-зеленым ковром, взлетела к небесам. И святая – не знаю, право, где была она в это время, чем занималась, – услышала, откликнулась. Может, кто-нибудь сомневается? Готов держать пари: деньги на бочку! Выигравший ест до отвала, проигравший платит за ракеты и шутихи.
ТРИУМФ СОРАТНИКОВ– Адалжиза была ублаготворена полностью. В сумочке у нее лежал новый приказ доктора д'Авилы, в котором черным по белому было написано, что ее племянница и воспитанница Манела подлежит заключению в стенах монастыря Лапа, в обители «кающихся» под присмотром матери игуменьи Общины Непорочного Зачатия до тех пор, пока она, Адалжиза, владеющая исключительными правами опекунства, не заберет ее оттуда. Кроме падре Хосе Антонио шагали рядом с нею двое судебных исполнителей, которым и надлежало добром или силой, собственными силами или с помощью полиции провести решение судьи в жизнь. Они должны были начать действовать при малейшей попытке сопротивления или возникновения каких бы то ни было препятствий со стороны завсегдатаев кандомбле Гантоис – «сброда черномазых», как метко определил их падре.
Все четверо вылезли из автобуса на улице Кардинала да Силвы – некое предзнаменование! – и далее двинулись пешком на Ларго-де-Пулкерия, где стоял скромный и величественный дом – там и помещалось Омим Аше Иамансе, или кандомбле Гантоис. Падре Хосе Антонио был еще веселей Адалжизы, его прямо-таки распирало от радости. Ликуя после знатного угощения и блистательно исполненного долга, он то и дело подносил к губам распятие на серебряной цепочке, которая так красиво поблескивала на его черной элегантной сутане. Падре был щеголь и франт. В молодые годы, когда он в рядах Фаланги молодцевато маршировал по Севилье, случалось ему разбивать женские сердца. И не только женские: помимо двух прихожанок – одна была богатая вдова лет сорока, а другая девица, которая рыдала и грозила, что покончит с собой, – пленил он и знаменитого матадора, славного и беспримерным мужеством, и пристрастием к мужчинам. Итак, девчонка твердила, что проглотит требник, вдовушка осыпала его подарками, а матадор, сразивший на арене десятки беззащитных быков, впирался прямо в ризницу, обхаживал падре спереди и сзади, делал нескромные предложения, сулил золотые горы, лез с поцелуями.
Природная правдивость, являющаяся и основой, и путеводной звездой моего повествования и, быть может, единственным его достоинством, не дает мне умолчать о том, что миловидный и забалованный падре, снедаемый страстью к святой нашей матери-церкви и к генералиссимусу, смирил плоть, что далось ему нелегко, и отверг притязания двух осатаневших баб и неистового тореро. Если же и случалось ему извергнуть семя, то происходило это во сне и свершался грех не смертный, но простительный: кусочек мыла и «Отче наш» смывали пятно и с простыни и с совести.
Он остался глух к просьбам девицы, резонно полагая, что на каждый чих не наздравствуешься, он презрел авансы вдовицы и отверг ее дары, лишь из вежливости не вернув ей полученные раньше шелковые пижамы, желтые и голубые подштанники, флаконы одеколона, распятие на золотой цепочке – оно стоило бешеных денег, но падре Хосе Антонио не купишь. Труднее было утишить роковую страсть матадора, поскольку Эль Потаскун давно уже был кумиром юного фанатика, который не пропускал ни одной корриды. Он попытался предложить ему дружбу, но успеха не достиг: тореро, человек необузданных страстей, требовал все или ничего и плевать хотел на дружбу: «На кой она мне сдалась, твоя дружба?!» Во исцеление душевной раны он отправился в Мексику, где вскоре спознался с усатым, задиристым и злобным гитаристом из ансамбля «Марьячи», который и помог ему забыть святотатственную любовь к падре. Так что добродетель Хосе Антощю не только не поколебалась, но даже укрепилась.
Падре и модистку, оживленно обсуждавших по дороге загадочную историю с подделанным приказом, сопровождали, как уже было сказано, двое судебных исполнителей: темнокожий мулат Жозелито Массарандуба, человек уже в годах, жрец Ошосси, отец многочисленного семейства, посвящавший свободное время игре в «очко», чтобы сшибить лишнюю сотню милрейсов на любимое угощение – особым образом тушенную фасоль с пряностями, – и мулат светлый, рыжеволосый и веснушчатый, по имени Пауло Котовия – этот был холост и жениться, кажется, не собирался, большой любитель музыки, ударник в джаз-банде «Chango's Brothers [79]79
«Братья Шанго» (англ.).
[Закрыть]». Да, так вот: падре Хосе Антонио считал, что ничего таинственного в истории с приказом нет и дознание должно подтвердить подозрения доктора д'Авилы.
А доктор д'Авила ясно дал понять, что подозрения эти падают на бронхитного делопроизводителя. Сеньор Маседо мог войти в здание суда в любое время дня и ночи, имел доступ к бумагам с грифом и к печати и прекрасно знал, как подписывается судья. Словом, подделать приказ больше некому. Оставалось только выяснить, кто его попросил об этом одолжении и сколько было уплачено за него.
«Разумеется, это Жилдета!» – вскинулась Адалжиза. Они с Данило сложились и сумели отблагодарить Маседо, если тот и вправду получил от них деньги. Но скорей всего договорились полюбовно: у этой мерзавки, не вылезающей с террейро, повсюду, повсюду свои люди, всех она знает, все они друг за друга горой, способны на любую пакость и вообще на все что угодно.
Беседуя таким образом, шли они на кандомбле Гантоис, как вдруг навстречу им по улице Кардинала да Силвы двинулся приземистый длиннорукий сертанец, тянувший за недоуздок ослика.
ПРИЗЫВ– В эту пятницу, хоть и не страстную, но заполненную разгулом страстей, башни баиянского телевидения, вознесшиеся неподалеку от Ларго-де-Пулкерия, уловили странный сигнал. Кто-то неведомый трубил в раковину, созывал богов-ориша к челнам, бросившим якорь на кандомбле Гантоис.
Этот могучий и таинственный призыв, переданный по спутниковой связи, пролетел всю нашу землю от севера к югу, от запада к востоку, через моря и океаны, континенты и материки, из страны в страну – до самого края света. Что это был за сигнал, внезапно зазвучавший по всем телеканалам? Кто его подал? Что он означал? Какое сообщение передавал? Какие грядущие катаклизмы возвещал? Что предсказывал? К чему призывал?
Собравшись на съезды, конгрессы, симпозиумы, конференции и коллоквиумы, виднейшие и крупнейшие ученые, как всегда, разделились по идеологическому признаку, служа власти. Верней сказать, тем, в чьих руках эта власть сосредоточилась. Западные ученые, охранители отсталой и реакционной буржуазной цивилизации, заявили, что сигнал отправлен с планеты Юпитер. Мужи науки с Востока, представлявшие цивилизацию бюрократического и авторитарного социализма, с пеной у рта доказывали, что ни с какого не Юпитера, а вовсе с Нептуна. Разгорелась научная дискуссия, в ход пошли головоломные аргументы и классические оскорбления.
Ожесточалась полемика. Вашингтон сцепился с Москвой, левые – с правыми. Создалось либеральное направление с двумя основными ответвлениями – центрально-правым и центрально-левым. Непримиримые радикалы опубликовали манифест, объединив на своей платформе представителей крайних взглядов, предлагавших немедленную войну с Юпитером. Или с Нептуном. Неважно, с кем. Возникали, раскалывая единство, все новые и новые группы и течения, выпускались тысячи книг, написанных латинским шрифтом или кириллицей, арабской вязью, китайскими, японскими, корейскими иероглифами, снимались фильмы, записывались кассеты, составлялись программы для компьютеров. Доселе неизвестная группа японо-китайских теоретиков прогремела на весь мир, объявив, что сигнал исходит с Плутона и является материализовавшимся симбиозом Будды и Маркса.
Следует отметить, что в странах богатых и развитых накал страстей был меньше – возможен, возможен разумный компромисс между сверхдержавами! – но в «третьем мире» продолжались взаимные обвинения и отчаянная перебранка.
А на Кубе, на Гаити, в Африке боги-ориша, услышав призыв, бросили привольное житье, охоту и купанье, и послеобеденную дрему, и прочие утехи и забавы, среди которых была и та, что порождает стон, хоть и не от боли, – пересекли небосвод, устремившись в Баию.
БИТВА– И длиннорукий сертанец прибавил шагу, дернул за недоуздок, торопясь навстречу славной четверке, призванной восстановить попранную мораль по приказу судьи д'Авилы. Улица Кардинала да Силвы – оживленная магистраль, машины несутся сплошным потоком, но сертанец и его ослик, наплевав на все правила уличного движения, вдруг пустились в пляс прямо на мостовой.
И едва лишь судебные исполнители Жозелито, Массарандуба и Пауло Котовия поравнялись с этой парочкой, как вмиг слетела с них вся серьезность, и оба тоже стали выделывать фортеля, откалывать коленца, обнаруживая прекрасное знакомство с этим танцем. Падре Хосе Антонио, который не мог, разумеется, знать, что так полагается приветствовать на кандомбле демона Эшу, возмутился самим фактом того, что два служителя правосудия отплясывают посреди улицы за компанию с каким-то оборванцем. А осел? Это уж ни в какие ворота не лезло: вальсирующий ослик – зрелище постыдное и отвратительное. Что уж говорить о том, что вакханалия мешала проезду, машины замедляли ход, тормозили, едва не стукаясь бамперами. Возникла пробка.
– Что это значит? Que hacen ustedes? [80]80
Что вы делаете? (исп.)
[Закрыть]– спросил он, мешая, как всегда в минуты волнения, испанский с португальским, и даже слегка оторопев перед лицом такого внезапного и ни с чем не сообразного веселья.
Но наглый сертанец, пентюх, деревенщина, грозный демон Эшу вместо ответа разинул бездонную пасть и показал достойному священнослужителю сизый, словно раскаленное железо, язык. «Пошел вон!» – вскричал оскорбленный падре. Эшу предоставил отвечать своему ослу, который отставил хвост и издал громовую очередь непотребных звуков, а сам подскочил к Адалжизе и взглянул ей прямо в глаза. Судорога прошла по ее телу – предвестие скорого явления божества, – голова закружилась.
– Матерь божья, спаси меня! – взмолилась она.
Да, в смертельной схватке, воспетой еще славным нашим поэтом Кастро Алвесом [81]81
Кастро Алвес (1847–1871) – бразильский поэт-романтик, борец против рабства.
[Закрыть], сошлись лицом к лицу непримиримые враги – фанатизм и терпимость, предрассудок и разумение, расизм и метисация, тирания и свобода. Битва эта идет в любой части света каждую секунду, и конца ей не видно.
Эта стычка была коротка, длилась ровно столько, сколько нужно, и ни мгновения больше, а показалась бесконечной. Проносились мимо стремительные автомобили, и сидевшие в них даже не подозревали, что здесь, на углу улицы, гордящейся именем непреклонного догматика, твердокаменного охранителя устоев кардинала да Силвы, и площади, названной в честь Пулкерии, жрицы-йалориши, родившейся в неволе, отправлявшей на кандомбле культ запрещенного властями божества, нищей и доброй Пулкерии, противоборствуют величие и ничтожество, вчера и завтра, влечение к смерти и радость бытия. В окопе мракобесия сидел фалангист Хосе Антонио – со свастикой в крови, с анафемой на устах, с атомной бомбой в яйцах. В атаку на него шли три бога-ориша, спешно прилетевшие из африканских краев – Ошосси, Шанго, Эшу Мале. Мимо пролетали машины: водители их и пассажиры торопились побольше заработать, пораньше приехать, боялись опоздать и ничего не видели, точно слепые. Одна только Розана Новоа, секретарша по профессии, проезжая в своем подержанном «багги», спросила мужа, с какой это стати тот священник на тротуаре вдруг рассвирепел, воздел распятие и двинулся к коленопреклоненной женщине. Муж по имени Умберто ответа не нашел и отмахнулся.
Почтенный Жозелито и юный Котовия, судебные исполнители, вмиг превратившиеся в Ошосси и Шанго, кружились в ритуальном танце, приветствуя Адалжизу, приглашая ее на пиршество на Меркадо-да-Байша. И богобоязненная модистка вдруг выгнула стан, закусила губу, и в засверкавших ее глазах послеполуденный солнечный день сменился вдруг рассветным сумраком с первым проблеском зари – утром второго рождения. Губы ее что-то невнятно бормотали, вселившееся в нее божество заставило ее трижды подпрыгнуть – каждый раз все выше и выше. Падре Хосе Антонио, подняв над головою крест, крикнул, задыхаясь от изумления и негодования:
– ¿Que te раsа, hija? Controtate, desgraciada! [82]82
Что с тобой, дочка? Приди в себя, несчастная! (исп.)
[Закрыть]
И просвещенная испанка, рьяная поборница Святейшей Инквизиции предприняла героическую попытку прийти в себя, освободиться от наваждения, стряхнуть с себя чары ориша: провела руками по телу, чтобы снять невидимые оковы волшбы, воспротивиться ее цепкой силе, закрыть ориша путь, открытый когда-то бритвой Анунсиасан, которая дала обет посвящения, не ведая, что уже носит ребенка от Пако Переса.
– Espera! Voy liberarte de demonio! Ahora mismo! [83]83
Подожди! Я изгоню беса! Сейчас, сейчас! (исп.)
[Закрыть]
Рухнула Адалжиза на колени, стиснула ладони, а руки устремила к небу – очень уж не хотелось ей покидать сословие приличных людей, настоящих сеньор. Стиснув в кулаке распятие – так, должно быть, обхватывала рукоять меча длань Сантьяго Матамороса, – падре Хосе Антонио бросился к ней на помощь:








