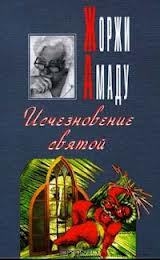
Текст книги "Исчезновение святой"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Долгие часы страстной пятницы
ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ– Когда рассвело, не спавший всю ночь, грязный, дрожащий от лихорадочного озноба, в сырой одежде, голодный, до полусмерти закусанный москитами, потерпевший кораблекрушение комиссар Риполето заметил на реке необычайное оживление.
Откликнувшись на призыв викария Санто-Амаро, из всех городков и деревень, стоявших на берегах Парагуасу, плыли к месту сбора суда всех видов и размеров, сбивались в эскадры и флотилии. Под самым носом у комиссара Риполето готовилась к походу новоявленная Непобедимая Армада.
Воинственный падре Тео отдавал приказы вооруженным формированиям, а вооружены они были четками, молитвенниками, часословами, цветами, собранными со всей округи, чтобы было чем украсить постамент статуи, когда Святая Варвара вернется домой. Мужчины несли пальмовые ветви и стебли сахарного тростника. Дона Кано раздавала желающим листочки бумаги: на одной стороне – цветное изображение Громоносицы, на обороте – весьма спорные и неточные сведения о ней.
А комиссар Риполето, оказавшийся в самых неблагоприятных условиях, не вполне еще оправившийся от выпавших на его долю передряг и испытаний, не позабывший насмешек и оскорблений, расслабиться себе не позволил, бдительности не утратил – даром, что ли, отдал он полиции двадцать лет беспорочной службы? Голод обострил его чутье: и все это столпотворение с утра пораньше, и жуткое количество плавсредств у причала, и множество людей, снующих взад-вперед, казались ему крайне подозрительными. Обстоятельный комиссар выдвигал версии, строил предположения, отмечал разнообразные факторы, как то: уровень воды, скорость течения, тактико-технические данные цапель – все это пригодится для доклада, который при первой возможности будет отправлен в Управление безопасности штата Баия.
Выбраться из полузатопленного челнока, добраться на чем-нибудь до столицы, явиться к начальству и отрапортовать – таковы были ближайшие задачи комиссара. Из-за злосчастного неумения плавать – тайный недостаток, для нас уже тайной не являющийся, – он не решался добраться до берега. Комиссар был уже готов отчаяться, как вдруг все решилось. Да, решилось.
Негодные юнцы, которые вчера так мерзко с ним обошлись, неожиданно явились к нему на выручку. Извлекли его из застрявшего челнока, переправили на один из баркасов, готовившийся к карательной экспедиции, и даже предложили комиссару доставить его в столицу, хотя он их об этом не просил. Их великодушный поступок был омрачен только тем, что они связали его по рукам и ногам. Комиссар Риполето отправлялся в Баию в качестве заложника.
ГАЗЕТЫ: ИНТЕРВЬЮ С ВИКАРИЕМ САНТО-АМАРО– Газеты не пожалели места для материалов, посвященных исчезновению святой, – были тут и пространные редакционные статьи, и комментарии, и обзоры.
Особого упоминания заслуживает подвал на третьей странице «Диарио де Нотисиас», в котором дирекция объединенных информационных агентств Баии поздравляла читателей с небывалой сенсацией, произошедшей накануне. «Диарио» была единственной газетой, осмелившейся приподнять завесу тайны, окутывавшей прибытие Святой Варвары в Баию, обскакав тем самым своих соперников, которые перепевали на все лады официальную версию: статую выгрузили, ее встречал сам директор Музея в сопровождении многочисленных журналистов (sic), он заявил, что это произведение искусства украсит собою выставку. А «Диарио де Нотисиас» документально засвидетельствовала и подтвердила фотоснимками охватившее дона Максимилиана отчаяние – Святой Варвары на причале не оказалось.
А Гидо Герра, герой дня, первый кандидат на увеличение построчной оплаты, удостоившийся личной похвалы главного редактора, доктора Одорико Тавареса, который поздравил его и похлопал по плечу, не почил на лаврах. Раненько утром, сунув под мышку экземпляр со своим репортажем, он направился в Санто-Амаро, намереваясь взять интервью у викария, и прибыл туда раньше всех прочих журналистов вместе с фоторепортером Жервазио Батистой Фильо.
Падре Тео принял Гидо, что называется, «мордой об стол» – да и как иначе разговаривать с этой тварью, обделавшей его в своем репортаже с ног до головы, оболгавшей его без всякого уважения к сану, бранившей его за то, что викарий долго не отдавал статую на выставку, глумившейся над ним, обзывавшей его ретроградом, мракобесом, ископаемой личностью, «мрачной средневековой фигурой, неспособной понять культурные запросы широких масс». Мерзавец репортер утверждал, что он не достоин возглавлять приход Санто-Амаро и что статую такой ценности нельзя вверять его попечению. Он окрестил его «стервятником в сутане».
Нет, падре Тео был не из тех, кто пускает таких проходимцев на порог. И потому не успел Гидо, сияя приветливой улыбкой, представиться викарию, как тот, не потрудившись хотя бы поздороваться, сказал:
– Гидо Герра? – и смерил тщедушного репортера злобным взглядом. – Вас-то мне и надо. Давно вам хотел сказать, что стервятник в сутане – это не я, а та, кто произвел такую сволочь на свет! – и швырнул репортеру в физиономию клочки разорванной статьи, язвительной, живой и увлекательной. Сильней всего обиделся падре Тео на то, что его обозвали мрачной средневековой фигурой. Это он-то, падре Тео, не заботится о культуре, это он-то ретроград?! Разумеется, от интервью он отказался наотрез.
Но и Гидо Герра был не из тех, что кротко проглатывают отказ, сдобренный сильными выражениями, означающими крайнюю степень порицания. Он покаялся, он признал свое поведение легкомысленным и добавил, что во всех остальных случаях он как репортер безупречно корректен. Он воспользовался тем, что викарий слабо разбирался в хитросплетениях журналистики, и применил верное средство – стал бить на жалость: ему пригрозили увольнением, или, мол, возьмешь интервью или убирайся на все четыре стороны, а если он потеряет работу, кто будет кормить жену и двух невинных малюток? Жена и малютки были придуманы тут же, не сходя с места, но жалобный плач голодных детишек смирил негодование падре Тео. И на первой странице «Диарио» появилась такая «шапка»:
ЖИТЕЛИ САНТО-АМАРО ДОБЬЮТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ СВЯТОЙ!
МЕСТО СТАТУИ – ЗДЕСЬ, А НЕ В ЗАПАСНИКАХ МУЗЕЯ!
Профессиональная щепетильность заставила Гидо высказать свое несогласие с некоторыми заявлениями викария: пусть никто не посмеет обвинить его во лжи и в клевете. Он своими глазами видел, какое отчаяние охватило дона Максимилиана на пирсе, когда монах убедился в исчезновении святой, и потому не может поддержать викария, который публично и печатно обвинил дона Максимилиана в том, что тот сам специально создал всю эту неразбериху, чтобы под шумок спрятать Святую Варвару в запасниках своего музея. Ответственность за это утверждение целиком несет падре Теофило Лопес де Сантана: «Пиши, пиши, печатай, беру все на себя!»
В ожесточенной тяжбе за статую медоточивый и учтивый дон Максимилиан явно перешел все границы, стал позволять себе презрительные отзывы о Санто-Амаро, вызывающее пренебрежение: «Статуя, достойная Вальядолидского Музея скульптуры или любой экспозиции в Европе или Америке, прозябает в захолустном городке Реконкаво! Это абсурд! Приход Санто-Амаро не может обеспечить ей не только доступ ученых и туристов, но и необходимую безопасность. В один прекрасный день шайка ловких воров, специализирующихся на монастырях и церквах, попросту говоря, свистнет ее – и прощай, Святая Варвара! Только в Музее при Баиянском университете статуя Громоносицы, во-первых, будет в полной безопасности, а во-вторых, ее смогут увидеть тысячи и тысячи восхищенных зрителей».
Выключив диктофон, Гидо протянул викарию руку, благодаря и прощаясь, и весело сказал:
– «Дон Мимозо» – это хорошо придумано. Я зря обозвал вас «стервятником в сутане», признаю свою ошибку, еще раз прошу прощения. Чтобы окончательно искупить вину, в интервью вы будете называться «Голубок Господень». Пойдет?
– Голубок – это опять же то... ну, скажем, существо, благодаря которому вы коптите небо. Если посмеете употребить это выражение по моему адресу, приеду в Баию, набью вам морду, а потом испрошу у Всевышнего прощения. – Он снова оглядел тощенького, щуплого репортера, уродливого и чернявого, голенастого и длинноносого, как журавль, отца двух крошек. – Нет, пожалуй, морду бить не будем: приеду и оттаскаю вас за уши при всем честном народе. Тогда и каяться мне не придется.
Гидо, все еще смеясь – «тот еще хмырь этот викарий!» – вошел в кафе, где ждал его Жервазио, заказал кофе: «Будьте добры, полный кофейник и две чашки», включил диктофон – викарий заполнил своим негодованием целую кассету – и принялся записывать интервью. Добрые католики Санто-Амаро, обсуждавшие за соседними столиками перипетии исчезновения Святой Варвары, примолкли, услышав голос своего пастыря, искоса воззрились на незнакомцев. Репортер исписывал листок за листком аккуратным почерком, он не перечитывал свой текст, предоставляя стилистическую правку секретарю редакции. Окончив, отдал стопку бумаги и кассету фотографу, исполнявшему в этой поездке обязанности шофера, и напутствовал его:
– Передай материал Клеберу, пусть расставит запятые где надо. Как проявишь и напечатаешь, парочку снимков отложи для викария. А потом гони сюда во весь дух! Здесь заваривается каша!
ПРИМИРЕНИЕ– Адалжиза заснула так, как спят только люди с чистой совестью. День выдался хлопотный, много было треволнений и беспокойства, нервы разгулялись вконец. И не успел Данило с перекошенным лицом выйти за дверь, как Адалжиза вымыла посуду и прилегла у себя в спальне. Телевизор ничем ее в этот вечер не прельстил, а ссора с мужем – повод недостаточный, чтобы вызвать бессонницу.
За те почти двадцать лет, что они прожили в браке, Данило несколько раз уходил из дому, хлопнув дверью, крича и клянясь, что ноги его здесь больше не будет. Тем не менее через час-другой он возвращался, кроткий как ягненок – ярость его улетучивалась, ссора забывалась. Возвращался, чтобы загладить свою вину, всегда приносил ей какой-нибудь гостинец: заморский фрукт – грушу или яблоко, – плитку молочного шоколада или красную розу.
Преклонив колени, Адалжиза помолилась, лишний раз прочитав «Богородице» и «Отче наш» в благодарение господу за то, что даровал ей защиту, укрепил и привел к победе. Помолилась и улеглась, не мучась никакими предчувствиями, не подозревая о том, что творится в эти минуты на Аве Марии. Она знала, что, проснувшись, обнаружит у себя под боком Данило, и он будет вести себя как ни в чем не бывало, и даже не вспомнит о давешней ссоре, и не станет требовать, чтобы она вернула Манелу. Отрешившись от мучивших ее страхов, Адалжиза уснула, и приснился ей чудесный сон: двое полицейских волокут макаку Миро к судье д'Авиле.
Все шло как всегда, и, пробудившись, Адалжиза увидела перед собой мужа. Он в рубахе, но еще без штанов выходил из ванной, собираясь на службу. «Доброе утро», – сказал Данило без намека на вчерашнюю ссору, и Адалжиза, с улыбкой ответив ему, сама заперлась в ванной, прихватив с собой транзистор. Данило окончательно оделся, достал из почтового ящика экземпляр «Тарде» и уселся в кресло, ожидая кофе. Адалжиза с подносом в руках появилась в комнате, когда он как раз дочитывал сообщение о пропаже статуи.
– Только и разговоров что о святой, – заметил он.
– О ком? – переспросила Адалжиза, читавшая только уголовную хронику и новости светской жизни.
Данило дождался, пока она принесет кофейник и чашки, и лишь после этого поведал ей о происшествии, переполошившем весь город: изваяние Святой Варвары Громоносицы, привезенное из Санто-Амаро на выставку, прямо с пирса исчезло неведомо куда. Все газеты кричат об этом.
– Диких денег стоит. Подозрение падает на викария Санто-Амаро, а другой падре – его сообщник, тут целый заговор. Обнаружится она у доктора Клементе Мариани или еще у какого-нибудь толстосума, они все собирают редкости и содержат для этого шайку всяких мерзавцев. – Он рассмеялся от души. – Недаром же говорится: священники – мошенники.
Адалжиза внимательно посмотрела на мужа. Лицо его так и сияло, лучилось радостью от того, что вышло в рифму, которая, несомненно, много раз прозвучит сегодня в стенах нотариальной конторы. Что-то необычное почудилось ей в оживлении Данило.
– Похищение святого образа – не повод для зубоскальства, это тягчайший грех святотатства. Не понимаю, как священнослужитель мог впутаться в такое дело, и не вижу тут ничего смешного.
Но Данило, продолжая повторять свой стишок на все лады, уже поднимался из-за стола, натягивал пиджак, надевал шляпу, шел к дверям, Поведение его все больше удивляло Адалжизу. Он даже изменил своей привычке и не спросил ее: не надо ли купить что-нибудь? Вопрос этот стал уже ритуальным, и хотя Адалжиза неизменно отвечала: «Нет, ничего не надо», сейчас ей вдруг стало не по себе. Что с ним сегодня творится? Раньше, когда после очередного скандала они мирились, Данило был к ней подчеркнуто внимателен, а теперь не принес ни цветочка, ни яблочка, ни шоколадки. Оливковой ветви она сегодня не дождалась. Чем крупней была ссора, тем старательней подлизывался Данило к жене, тем ласковей был он после примирения. Вчерашнее происшествие было чуть ли не самым ожесточенным за все их супружество: подобное происходило лишь в первые годы брака, когда Данило добром или силой пытался внедриться в жену с тыла, а она отвечала: «Ни за что! Лучше смерть!»
Удивленная, сбитая с толку, уязвленная Адалжиза, увидев, как Данило преспокойно открывает дверь и собирается уйти, даже не попрощавшись, не выдержала:
– А кто вчера говорил, что без Манелы домой не вернется?
Данило, уже взявшийся за ручку, уже толкнувший дверь, обернулся к жене – безмятежное лицо, ровный голос. Так, словно речь шла о событии зауряднейшем, ответил:
– А Манела не желает сюда возвращаться. Она стала «дочерью святого» на кандомбле Гантоис.
Когда Адалжиза вновь обрела дар речи, муж был уже далеко. В чем была, в туфлях на босу ногу бросилась вдогонку, да поздно: только и видела она, как сел он в автобус, в котором всегда ездил на службу.
УНИЖЕНИЕ– Чудовищное, незабываемое оскорбление нанесла Адалжизе Дамиана, пустая бабенка, с которой зазорно якшаться. Дамиана видела, как она пронеслась вслед за Данило, и, разумеется, стала у дверей на часах, а когда Адалжиза понуро возвращалась домой, вдруг загородила ей дорогу. Она так торопилась поскорее отвести душу, выложить распиравшие ее новости, швырнуть их в надменное лицо этой воображалы, которая невесть что о себе мнит, что даже не поздоровалась.
– Слыхали про Манелу, дона Адалжиза?
Адалжиза хотела было повернуться к соседке спиной и скрыться в доме, сделав вид, что ничего не слышала. Но любопытство превозмогло. Адалжиза, зная наперед, что ничего, кроме позора, из этой беседы не выйдет, все-таки спросила:
– Что?
– Вчера ночью перед монастырем в красавицу нашу вселилась святая. Своими глазами видела.
Дамиана не объяснила, какого дьявола занесло ее глубокой ночью к монастырю Лапа, не сказала о том, кто помог Манеле выбраться из заточения, но зато во всех подробностях и с восторгом описала и празднество на площади, и танец Иансан, и пляску Ошала, воплотившегося в Жилдету – «забыть нельзя, дона Дада!»
Она ссылалась на присутствовавших – «не дадут соврать!» – кроме Жилдеты, был там профессор Батиста, Алина со своим сержантом и местре Пастинья – «да, сам старик Пастинья явился». Ну, да сеньор Данило, наверно, рассказал ей самое главное, а может быть, и все, он ведь был такой веселый, и Иансан почтила его, подарила ему амулет. Поцеловала «посвященная» и ее, Дамиану, в знак дружбы и благодарности. Но самое необыкновенное началось, когда – «сеу Данило не говорил?» – Манела – и как у нее только сил хватило? – подняла своего жениха в воздух и исполнила с ним танец посвящения. Что это было – сверхчеловеческая сила ориша, или сила любви, или обе они вместе укрепили тонкие руки девушки? «Как жалко, что вас не было, вам бы понравилось, дорогая моя дона Дада!»
Горло точно петля сдавила, от мигрени глаза полезли на лоб, голова стала раскалываться, и все же Адалжиза слабеющим голосом спросила:
– А как же она из монастыря-то вышла?
Щекастое смуглое лицо расплылось в улыбке – сверкнули белые зубы. Раздался неудержимый хохот, и Дамиана принялась извиняться:
– Ах, милая дона Дада! Простите меня, но я не знаю! Хоть убейте, не знаю! – А потом Дамиана покончила с жеманничаньем и притворством, перестала миндальничать, высказала все, что накипело, отвела душу, вконец уничтожила соседку да еще и плюнула на труп. – А вот что мне с божьей помощью открылось, того я и от вас не утаю: та подлянка, что упрятала бедную девочку в монастырь, – не человек, а упырь! У нее ни сердца, ни души, будь она проклята во веки веков, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Так-то, милая моя, драгоценная моя дона Дада!
ГЛАВА, СОДЕРЖАЩАЯ КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О СИЛЬВИИ ЭСМЕРАЛДЕ– Адалжиза резко отвернулась, шваркнула дверью перед самым носом наглой твари. Вошла в дом, остановилась посреди комнаты, чтобы перевести дух – ей казалось, вот-вот что-то с ней случится. В ванной пустила струю холодной воды, смочила лоб и щеки. Сердце колотилось так, что она почти слышала его удары.
Потом она надела платье и туфли, схватила сумку и двинулась в церковь Святой Анны, на Рио-Вермельо. В автобусе перебирала четки, задыхаясь от вонючего дыма дешевой сигары, которую курил сосед. Она шевелила губами, твердя молитву, а скотина сосед поглядывал на нее искоса. Автобус еле полз, останавливался на каждом углу, казалось, конца этой поездки не будет.
Падре Хосе Антонио крестил младенца, вокруг купели стояли испанцы, и Адалжиза, чтобы не вступать в беседу со знакомыми, вышла на паперть. Крестины затягивались: младенец был отпрыском богатой семьи, имевшей право еще и на проповедь. Наконец в окружении родителей, бабушек, дедушек и крестных появился падре. Деваться Адалжизе было некуда: пришлось здороваться. Падре подписал свидетельство, получил деньги за отправление требы, подтвердил, что непременно будет присутствовать на торжественном обеде, снял епитрахиль. Он почувствовал, что любимейшая его прихожанка чем-то сильно взволнована:
– Que haces aqui tan temparano, hija? [67]67
Что привело тебя, дочка, ко мне в такую рань? (исп.)
[Закрыть]– Оставаясь с Адалжизой наедине, он всегда говорил по-испански, оставляя без внимания ее бразильское происхождение: так его речи звучали с отеческой нежностью. – ¿Por que te mantienes de pie? Que se pasa cantigo, que te veo temblar? [68]68
Отчего ты так рано поднялась? Что с тобой? Почему дрожишь? (исп.)
[Закрыть]
– Манела сбежала из монастыря!
– ¿Se fugo? Del convento? Imposible. No te creo [69]69
Сбежала? Из монастыря? Это невозможно. Не верю тебе (исп.).
[Закрыть].
Адалжиза выложила ему все, что знала, свалив в одну кучу ссору с мужем, наглую соседку, местре Пастинью и ориша. Все это было так сумбурно, что падре вправе был бы усомниться, в полном ли душевном здравии пребывает усердная овечка стада господнего. У святош часто ум заходит за разум, и они принимаются нести околесицу, но это случалось, как правило, с древними старухами.
– No puedo entender. Lo mejor es ir hablar a la Madre, saber lo que paso [70]70
Ничего не понимаю. Лучше поговорить с настоятельницей, разузнаем все толком. (исп.).
[Закрыть].
В автобусе падре напомнил Адалжизе, что мать игуменья не больно-то возликовала, получив приказ судьи, даже не думала скрывать свое неудовольствие, проявила легкомыслие, чтобы не сказать – вольнодумство. Отнеслась к его словам без должного уважения, не приняла во внимание приведенные им доводы. Уж не из тех ли она современных монахинь, которые... Но тсс! Доказательств пока нет, но вовсе не исключено, что мать Леонор сама устроила побег Манеле, иного объяснения он не видит. Если подтвердится – матушка Леонор Лима заплатит дорого: он, падре Хосе Антонио, дойдет до викарного епископа.
Мать настоятельница поздоровалась с падре, а приходу Адалжизы была явно рада:
– Могу только одобрить ваше решение. Раскаявшийся грешник вдвойне достоин божьей благодати. Я очень, очень рада за вас.
От подчеркнутого пренебрежения и дерзости монахини загривок падре Хосе Антонио налился темной кровью. Он прервал поток ликований и потребовал объяснений: каким образом удалось Манеле совершить побег? Рассказывайте все без утайки, если не хотите весьма неприятной беседы с монсеньором Клюком! Игуменья, не удостаивая его ответом, молча вытащила из ящика стола приказ, подписанный судьей по делам несовершеннолетних. Падре, впившись глазами в бумагу, читал ее и перечитывал, проверил штамп, подпись, печать: никаких сомнений – подлинное! Адалжиза тоже обследовала его.
– Это работа Данило... То-то он говорил...
– Данило? Твой муж?
– Да... Он говорил, что пойдет к судье, что у него такие же права опеки, как и у меня...
– Но бедь судья при тебе сказал, что отменит приказ лишь по тбоей просьве!
Падре Хосе Антонио гордился тем, что говорит по-португальски не хуже чем на родном языке: разве только едва заметный акцент выдавал в нем иностранца. Но стоило ему выйти из себя, разволноваться, как «б» и «в» начинали путаться – кастильский одолевал. Он хотел забрать приказ с собой, но игуменья отказала наотрез. Только в том и пошла она навстречу, что разрешила снять ксерокопию в Баиянском Коллеже, расположенном поблизости. Вернувшись, падре спрятал копию в карман и заявил:
– Келью не санимать! – Он воздел перст. – Гречница бернется! Очень скоро! Очень! Может быть, ее овуяли весы! Придется изгонять! – Испанская фонетика давала себя знать все сильней, свидетельствуя о том, сколь сильно было смятение его чувств.
– Дай-то бог, чтоб вернулась! – Адалжиза осенила себя крестным знамением.
Дело оказалось не таким скорым, как предполагал падре-фалангист, ибо судья по делам несовершеннолетних в то утро в свой служебный кабинет не явился. Принимавший их чиновник отсоветовал им идти к нему домой:
– Доктора д'Авилы нет. Его супруга, дона Диана, внезапно занемогла, ее срочно положили в больницу. Доктор при ней неотлучно. Разве что к вечеру, если ей станет лучше, он придет сюда. Наведайтесь после двух.
Дона Диана, супруга судьи. Ее превосходительство Диана Телес Мендес Прадо д'Авила, виднейшая представительница баиянской знати, известная в театральных кругах и на ложе прелюбодеяний, а также и тебе, любезный читатель, как Силвия Эсмералда.
ИЗГНАНИЕ– Словно разъяренный лев в клетке, метался дон Максимилиан по своей тесной келье, и рев его сотрясал сумрачные коридоры аббатства...
Не пойдет. Эта фраза никуда не годится. Образ тривиальный и нимало не соответствует действительности: лысоватый, изящный и хрупкий дон Максимилиан ничем не напоминает льва с величественной гривой и острыми когтями. Сравнение избитое, затертое, вульгарное, а главное – уводящее нас от истины. Коридоры в обители Сан-Бенто – широкие, ярко освещены и не сотрясаются ни от рева, ни от рычаний, ни от стонов. Даже рыданий не слышно. Падре Энрике Перейру, по приказу военных властей убитого в Пернамбуко, оплакивали под звуки органа на заупокойной мессе в монастырской часовне. На тайной сходке духовных и мирян протест, переполнявший их сердца, не выражался в демагогических речах, не перерастал в коллективную истерику, – он укрепляет волю, он пробуждает совесть и велит продолжать борьбу за справедливость и за свободу, даже если это будет стоить отрубленных рук, размозженных голов, изуродованных тел, брошенных гнить в канавы. Дон Максимилиан не принимал участия ни в таинстве отпевания, ни в политических беседах – он сидел у себя в келье и размышлял.
Бдение его длилось целую вечность, пропасть унижения и бесчестия была бездонна, но вот наконец глаза его сомкнулись: благодетельный сон смежил его вежды, но не извлек клинок позора из сердца, не утишил скорби, не смирил тревоги, не избавил от горечи поражения и осознания краха. Затерянный в пустыне мира дон Максимилиан подписал отречение. В письме на имя его превосходительства ректора Баиянского университета он слагал с себя обязанности директора Музея, которые так плодотворно и неутомимо исполнял на протяжении десяти лет. Да будет сказано во всеуслышание и закреплено в этих строках, что только благодаря ему обрел Музей превосходную организацию, богатейшие фонды, громкую славу общенационального и международного центра науки, всеобщее признание, неоспоримый авторитет.
Решение было принято в безмолвии монашеской кельи, наедине с самим собой. За стенами обители ждали дона Максимилиана легионы врагов, готовые растерзать его, вывалять в грязи, возвести на Голгофу. Разговаривая в четверг утром с ректором по телефону, он уж собирался сообщить об отставке, если статуя не отыщется, но промолчал – еще оставались время и надежда; в беседе с викарным епископом Клюком он сказал, что примет увольнение от должности и затворится в монастыре, и его преосвященство согласился: в самом деле, после такой нелепой и скандальной истории он не может оставаться ни в прежней должности, ни в Баии. Итак, отречение и изгнание! Перед лицом смерти одно другого стоит.
Изгнание? Да-да, изгнание! Дон Максимилиан, повитый промозглыми германскими туманами, исколесивший весь свет, бывавший в Европе, в Азии и в Америке, бросавший якорь в стольких гаванях, без устали работавший, только под палящим солнцем Баии обрел свою истинную родину, ступил на берег земли обетованной, которая приняла его радушно и сердечно. Мало того, он обрел и истинную свою сущность в этом краю, омываемом баиянским морем, в стране людей пламенных, наделенных творческим воображением, и добрым сердцем, и смешанной кровью – непременным условием их существования. Дон Максимилиан пересек пустыни, не согнулся под ударами житейских бурь и припал к этому животворному источнику, имя которому – гуманизм.
В ужасную ночь исчезновения Святой Варвары, под бредни Эдимилсона, грезившего наяву, он, дон Максимилиан фон Груден, воззвал к небесам, проклиная тот день и час, когда прибыл в Баию. Он поносил народ, в котором все сливается и перемешивается, окаянную страну, не знающую границы между явью и сном, людей, верящих в чудеса и фетиши. Бог знает, какую хулу изрыгал он в тот час, себя не помня, какую чушь нес. Он тут же пожалел об этом, пожалел и раскаялся. Как только дон Максимилиан представил себе, что придется, быть может, уехать прочь, покинуть этот город и его смуглых милых жителей, он понял: всякое другое место на земле станет местом его ссылки.
Да, наверно, он, вдумчивый и отважный исследователь, блестящий ученый, признанный во всем мире специалист, не пропадет – отыщет себе пристанище в другом аббатстве, в другом каком-нибудь музее или научном центре, изучающем религиозное искусство. Но нет в мире уголка, где бы жизнь так радовала его и тешила, как в Баии. Нет! Не существует!
Много бумаги извел он, пытаясь объяснить, почему принужден уехать: исписывал страницу за страницей, размышляя, вспоминая, оправдываясь и прося прощения. Ни один из трех вариантов этого прощального письма его не удовлетворил и не был дописан. А то, что получилось в итоге, заняло всего несколько строк: дон Максимилиан уведомлял, что уходит в отставку и уезжает, чтобы никогда больше не возвращаться. Ибо если вернется, то захочет остаться.
Когда рассвело, он пошел в церковь, преклонил колени; перекрестился. На кухне ему дали кофе и ломоть хлеба. Он послал за газетами, попросил передать настоятелю, что он здесь и хочет его видеть. Как можно скорее.
НАСТОЯТЕЛЬ– Ну, а покуда дон Максимилиан, поневоле ставший терпеливым, ждет приема у настоятеля монастыря Сан-Бенто, а почтенный аббат перечитывает текст своей проповеди, посвященной убийству в Пернамбуко – он произнесет ее в воскресенье с церковного амвона, – воспользуемся паузой и сделаем еще одно отступление в нашем извилистом повествовании.
Движимый чувствами искреннего уважения и приязни, я со всеми почестями, на которые он имеет безусловное право и которыми – почестями, а не правами – не пользуется, представляю вам настоятеля обители Сан-Бенто дона Тимотео Аморозо. Его присутствие в моей истории, где толпятся и толкаются столь многочисленные падре и поэты – превосходные и отвратительные, владеющие тайной и словом или безграмотные, – окажет на меня вдохновляющее действие.
Прежде чем облечь костлявые рамена белой сутаной, дон Тимотео был самым обыкновенным человеком, гражданином и семьянином, имел жену и детей и со всем на свете знаком был не понаслышке. Он принял постриг, когда овдовел и, врачуя потерю, обратился за утешением и радостью к богу. Он писал стихи, хоть никогда их не печатал, и поэзия была присуща каждому его шагу, каждому мигу жизни, прожитой так, как подобает человеческому существу. Дон Тимотео Аморозо возродил в Баии традиции тех славных апостолов, которые не довольствовались тем, что обращали в христианство индейцев и негров и призывали их к покорному смирению.
Падре Мануэл де Нобрега появился в Бразилии в числе первых иезуитов, открыл на горе школу, был среди тех, кто основывал на востоке мира город Баию – прекраснейший из всех. Здесь, с амвона церкви да Се гремели проповеди непримиримо верующего в чудо падре Антонио Виейры, выражавшего чаяния невольников из лесов и с плантаций. Святая инквизиция, преследовавшая его при жизни, не успокоилась и несколько веков спустя и, чтобы заглушить его трубный глас, снесла церковь, своды которой еще хранили отзвук гневных обличений, неистовых нападок на воров, трусов, палачей.
Два монаха, носившие имя Агостиньо – де Пьедаде и де Жезус, – сотворили облик святых, даровали им вечную жизнь в камне, дереве, глине. Брат Канека, предшественник падре Энрике Перейры, бежал из Пернамбуко и был для устрашения и примера расстрелян на Кампо-де-Полвора, в самом центре Баии. Многие-многие другие, чьи имена, к прискорбию, изгладились из памяти автора этих строк, скверно знающего историю, с самоотверженной любовью посвятили себя городу Баии и обитателям его. Но никто не сравнится с доном Тимотео Аморозо, настоятелем аббатства Сан-Бенто.
За несколько дней до описываемой нами пятницы он предоставил в своем монастыре убежище и защиту студентам, которые устроили манифестацию на площади Кастро Алвеса. Их разогнали дубинками, но плакаты и лозунги вознеслись над прутьями монастырской ограды. Чтобы конфисковать их, чтобы перехватить смутьянов, цепным псам правопорядка надлежало вломиться в Сан-Бенто, однако на дороге у них стал, раскинув руки, тщедушный монах – и они не осмелились войти. Пришлось удовольствоваться злобным лаем с площади.
Когда в городе праздновали пятидесятилетие матушки Менининьи де Гантоис, хранительницы афробразильского культа, наследницы преследуемой и запрещенной религии чернокожих рабов, главной жрицы йалориши Баии и Бразилии, дон Тимотео отслужил в монастырской церкви торжественный молебен и произнес похвальное слово ревностному ее служению богам и людям Баии.








