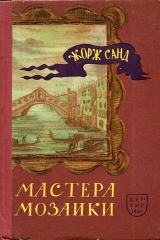
Текст книги "Мастера мозаики"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
XVI
Инквизиция обладала такой таинственной, такой неограниченной властью, было так опасно пытаться проникнуть в ее тайны, да и сделать это было так трудно, что спустя три дня после праздника святого Марка уже никто больше не говорил о Дзуккато. Слух об аресте Франческо быстро распространился, но растаял, как волна на пустынном и безмолвном песчаном берегу. И невысокий утес отбросил бы ее и вспенил, но песчаный берег, издавна сглаженный и опустошенный бурями, спокойно принимает волну, и силы оставляют ее, ибо нет там для нее пищи: такова была и Венеция. Тревожное возбуждение и естественное любопытство жителей стихали, как бессильная пенистая волна, разбившаяся о ступени Дворца дожей, где мрачные воды, омывавшие стены подземелья, ежечасно уносили кровь неизвестных мучеников, заточенных в глубоких недрах застенков.
Кроме того, чума внесла во все души смятение и уныние. Работы приостановились, мастерские закрылись. Марини заболел чумой одним из первых и медленно выздоравливал. Чеккато потерял ребенка и ухаживал за умирающей женой. Ярость Бьянкини потускнела перед ужасом смерти. Боцца исчез.
Старик Себастьяно Дзуккато удалился в деревню в день праздника святого Марка, сразу после окончания игрищ, в самом дурном расположении духа из-за того, что он называл сумасбродством и лжеславой своих сыновей. Он ничего не знал о беде и негодовал, не видя их, – ведь они обыкновенно смягчали его гнев своей почтительной предупредительностью.
Чума немного поутихла, и тут старый Дзуккато вдруг испугался за жизнь сыновей. Приехав в Венецию, старик по-прежнему намеревался строго отчитать их, хотя был глубоко встревожен. Он понял, что не любить сыновей не может, и эта мысль его особенно раздражала. Однако не следует думать, что после сцены в соборе Себастьяно примирился с искусством мозаики. Он по-прежнему не терпел это «ремесло» и всех его приверженцев. Хоть он невольно и был захвачен той силой очарования, которая исходит от великих творений, покоряя артистические души, хоть он и прижимал сыновей к груди и проливал слезы умиления, он вовсе не отрешился от своего предубеждения – о превосходстве некоторых отраслей искусства. Если бы он даже захотел, он был бы не в силах на пороге смерти отказаться от понятий, которые упрямо пронес через всю жизнь. Его утешала лишь надежда, что, настанет время, Франческо откажется от низкого ремесла и вернется к мольберту. И вот, решив обратить его на путь истинный, старик пришел в базилику: он думал, что сын приступил к мозаике другого купола. Но базилика была обтянута черной тканью, похоронное пение гулко раздавалось под темными сводами; пламя свечей боролось с последними лучами заходящего солнца и бросало какой-то бледный, красноватый отблеск; и он был страшнее мрака. Воздавали последние почести двум сенаторам, умершим от чумы. Помост с гробами стоял под портиком, священники с явным ужасом торопливо совершали церковный обряд. Старик Дзуккато вздрогнул, увидев два гроба. Но вот он узнал имена умерших и успокоился. Он тотчас же вышел из церкви и опрометью бросился в мастерскую Валерио в Сан-Филиппо. Но там ему сказали, что ни Франческо, ни Валерио не появлялись со дня праздника святого Марка, и старик стал тщетно искать их повсюду, где они обыкновенно бывали. Наконец, измученный тревогой, он разыскал Чеккато. Выслушав мрачные предположения художника, убитого горем, старик подумал, что его сыновья умерли под «Свинцовыми кровлями» от тоски и болезни. Несколько минут он простоял неподвижно, поглощенный своими мыслями, смертельно побледнев. Наконец он на что-то решился и, не сказав ни слова Чеккато и его безутешной семье, отправился к прокуратору-казначею. Он и не собирался обвинять вельможу в беззаконном аресте его сыновей. Старик был покладист по натуре и считал, что подозревать в ошибке или предубеждении должностное лицо – значит не уважать закона. Он был недоволен сыновьями, готов был обвинить их и в лени и в том, что они заносчиво отвечали прокуратору, но хотел любой ценой узнать, что с ними стало. Итак, он смиренно подошел к толстяку прокуратору-казначею, который только и думал, как уберечься от чумы, и сейчас особенно был занят собственной особой. Его окружали пузырьки и всяческие благовония, очищающие воздух, которым он дышал. Старик поклонился ему с такой учтивостью, что Мелькиоре принял его, против обыкновения, довольно снисходительно.
– Довольно, довольно, – сказал он, прикрывая нос большим платком, пропитанным соком можжевельника, и знаком приказывая Дзуккато держаться поодаль. – Ни шагу дальше, милейший! Не подходите так близко и задерживайте дыхание! Клянусь колпаком дожа, проклятые времена – не знаешь, с кем разговариваешь. А не больны ли вы? Ну-ну, что там у вас?
– Ваша высокочтимая милость, – отвечал старик, втайне несколько уязвленный таким бесцеремонным приемом, – вы видите перед собой старосту цеха художников, мастера Себастьяно Дзуккато, своего смиренного раба, отца…
– A-а, узнаю, – подхватил Мелькиоре, не двигаясь и делая только вид, будто хочет поднести дряблую руку к черной шелковой скуфейке, надвинутой на его приплюснутый, оплывший жиром затылок. – Утешительного мало, мессер Дзуккато. Вы человек честный, а вот сыновья у вас неслыханные мошенники.
– Ваша милость! Это чересчур, хотя я не отрицаю, что сыновья мои порядочные сорванцы, очень легкомысленны, очень упрямы и заняты пустым, никчемным делом. Я знаю, они навлекли на себя немилость господ магистров и вашу в особенности. Я уверен, что они совершили какую-то серьезную ошибку, ибо ваше доброе отношение к ним сменилось строгостью. И я пришел не оправдывать их, но постараться смягчить вашу суровость и просить о милосердии. Прошу вас принять во внимание, что воздух заражен, стоит непогода, у моего старшего слабое здоровье – пребывание в тюрьме так пагубно отразится на нем, что сын мой навсегда запомнит наказание и исправится.
– Ваш сын действительно болен, как мне говорили, – возразил прокуратор. – Но кто же не подвержен заразе! Я сам чувствую себя прескверно, и, если б не заботы моего лекаря, я бы погиб. Но необходимо беречься, очень беречься! Клянусь колпаком дожа! Я советую вам, господин Себастьяно, тоже беречься.
– Ваша милость изволили сказать, что сын мой Франческо болен? – перебил его испуганный Себастьяно.
– О, пусть это вас не тревожит: в тюрьме больных не больше, чем повсюду. Нам известно по точным подсчетам, что под «Свинцовыми кровлями» узников умирает не больше, чем в других тюрьмах республики.
– Под «Свинцовыми кровлями», ваша милость? – воскликнул старик. – Ваша светлость сказали – под «Свинцовыми кровлями»? Неужели мои сыновья там?
– Клянусь колпаком, да, там, и они не заслуживают меньшего за воровство и все свои жульнические проделки.
– Бог ты мой! Монсеньер, вы просто решили меня припугнуть! – произнес старик Дзуккато твердым голосом, отступая на шаг. – Быть не может, что мои сыновья – узники «Свинцовых кровель».
– Они именно там, повторяю, – отвечал прокуратор, – и я не выпущу их оттуда, пока не закончится расследование и не произойдет суд. Ими займутся, как только моровая язва утихнет. Но, клянусь колпаком дожа, боюсь, что им грозит участь похуже, ибо они преступники: расхищение общественной казны карается пожизненной ссылкой.
– Что за дьявольщина! – крикнул старик, приблизившись к прокуратору. – Знайте же, мессер, те, кто это говорит, лгут, а те, кто упрятал моих сыновей под «Свинцовые кровли», поплатятся! Я этого не оставлю, пока есть во мне хоть капля сил!
– Не приближайтесь! – завопил Мелькиоре, суетливо поднимаясь и отодвигая кресло. – Не дышите мне в лицо. Если вы заражены чумой, держите ее при себе и убирайтесь ко всем чертям со своими плутами сыновьями. Знайте – их повесят, если вы вмешаетесь, подняв вокруг их дела шум. Честное слово, все эти Дзуккато – неслыханные злодеи! Вы заражаете воздух, сударь! Вон отсюда!
Говоря это, Мелькиоре пятился назад, а старик Дзуккато, неподвижно стоя на месте, смотрел на него таким взглядом, что тот леденел от ужаса.
– Была бы у меня чума, – ответил старик с угрожающим видом, – я бы сжал в объятиях всех, кто говорит, что мои сыновья – воры. Надеюсь, эта мысль никогда никому не приходила в голову и что должностное лицо, с которым я имею честь разговаривать, сам болен и вне себя от нынешнего бедствия. Да, да, монсеньер, чума заставляет вас говорить, что Дзуккато расхищают общественную казну. Знайте же: Дзуккато – благородного рода, в их жилах течет кровь чище, чем та, что течет в жилах родственников дожа. Знайте, Франческо и Валерио можно погубить пытками, но обесчестить их нельзя. Ваша светлость хорошо сделает, если вызовет своего врача, ибо тлетворный яд распространился по его венам.
С этими словами Себастьяно стремительно вышел из здания Прокурации и побежал во Дворец дожей. Мелькиоре в тревоге стал звонить в колокольчик, позвал лекаря, и всю ночь ему делали кровопускания, растирали его, пичкали всякими снадобьями, ибо он вообразил, что старик Дзуккато с помощью колдовства напустил на него чуму. Несколько раз он падал в обморок и чуть не умер от страха.
XVII
Себастьяно Дзуккато бросился в ноги дожу, взывая к справедливости со всем красноречием отцовской любви и оскорбленной чести. Мочениго милостиво выслушал его и выказал ему знаки самого высокого уважения. Он посетовал, узнав о том, как долго подвергают мукам сыновей старика, и повелел перевести их в другую, не такую страшную тюрьму. Он даже разрешил старику Себастьяно видеться с ними ежедневно и окружить их отечески нежными заботами. Но дож не скрыл от него, что над братьями нависли самые тяжелые обвинения, а судебное разбирательство будет длительным и серьезным.
Однако благодаря неусыпным хлопотам старика Дзуккато, влиянию Тициана, Тинторетто и других великих художников, стараниям всех друзей братьев Дзуккато, а также благосклонности дожа Совет Десяти, из-за чумы вот уже несколько месяцев прекративший свою деятельность, наконец собрался, и первым делом, назначенным на рассмотрение этого беспощадного судилища, был процесс братьев Дзуккато, обвиняемых:
1. В том, что они даром получали свое жалованье, выполняя работу наспех и небрежно; так, например, они работали в неположенное время года, то есть во время заморозков, когда мастика не держится, чтобы наверстать время, потраченное летом на прогулки, всякого рода развлечения и кутежи.
2. В том, что фигуры ими дурно вырисованы и диковинно раскрашены, потому что работали они главным образом по ночам, дабы наверстать время, упущенное из лени.
3. В том, что их работа никуда не годна, потому что они совершенно несведущи в ремесле, причем Валерио Дзуккато способен делать лишь одни побрякушки – украшения для дам и молодых людей, и таковые ребяческие безделки занимали его беспрерывно и даже стали для него выгодным промыслом в мастерской Сан-Филиппо, в то время как республика дорого платила ему за работу, которую он не выполнял и не мог выполнить.
4. В том, что, прибегнув к гнусному жульничеству, они во многих местах заменили смальту и камни деревом и картоном, разрисованными кистью, дабы показать, как тонка их работа, для которой непригоден материал, идущий на мозаику, и тем самым желая прослыть при жизни великими художниками, хотя работы их недолговечны.
Материалы этого нелепого судебного процесса и поныне хранятся в архиве Дворца дожей, и синьор Кадри сделал из них точнейшие выписки, которые можно прочитать в статье «О мозаике» – он поместил ее в конце своего превосходного труда о венецианской живописи.
Обвинителями были: прокуратор-казначей Мелькиоре, Бартоломео Боцца, трое Бьянкини, Джованни Византини и другие ученики школы Бьянкини и, наконец, Клод де Корреджио, органист собора святого Марка, который терпеть не мог шумливых подмастерьев и готов был равно показать и в пользу Дзуккато и против Бьянкини, лишь бы правительство, наскучив всеми этими дрязгами и хищениями казны, отказалось от разорительных работ по восстановлению мозаики; причем самым большим злом органист считал неумолчный шум, мешавший его ученикам заниматься церковным пением под звуки органа.
Свидетелями в пользу Дзуккато были Тициан и его сын Оразио, Тинторетто, Паоло Веронезе, Марини, Чеккато и добродушный Альберто Дзио. Все они предстали перед Советом Десяти и восхваляли выдающийся талант, прекрасную мозаику, превосходное поведение, трудолюбие и безукоризненную честность братьев Дзуккато и их учеников.
На суд были приведены и братья Дзуккато. Валерио обеими руками поддерживал своего дорогого брата, едва оправившегося после долгой и тяжелой болезни, слабого, удрученного, безразличного к тому, чем кончится испытание, которое он уже не в силах был выдержать. Валерио за это время побледнел и исхудал. Его снабдили одеждой, но длинная борода, спутанные волосы, неуверенная походка, судорожная дрожь, пробегавшая по его телу, – все это говорило о том, сколько довелось ему перенести страданий и невзгод. Он равнодушно принимал все беды, обрушившиеся на него самого, но негодовал на несправедливость, учиненную по отношению к брату, и наконец-то стал серьезно смотреть на жизнь. Гневом и ненавистью сверкал его взор. Мрачным огнем горели глаза, глубоко запавшие от голода, усталости и тревоги. Направляясь к скамье подсудимых и проходя мимо Бартоломео Боцца, он приподнял руки, закованные в кандалы, словно грозя его уничтожить. Лицо Валерио вспыхнуло от негодования, и было видно, что он готов стереть Боцца с лица земли. Стражники оттащили его, и он сел, не выпуская руку Франческо из своей холодной и дрожащей руки.
– Франческо Дзуккато, – произнес судья, – вы обвиняетесь в том, что обворовывали и обманывали республику; что вы на это ответите?
– Я отвечу, – сказал Франческо, – что с таким же успехом могу быть обвинен в убийстве и в отцеубийстве, если так будет угодно моим преследователям.
– А я, – вскипев, крикнул Валерио и вскочил с места, – я отвечу, что над нами тяготеет ложное обвинение и что нас мучают целых три месяца под «Свинцовыми кровлями», где мой брат чуть не умер, а вся причина в том, что Бьянкини нас ненавидят, а Бонна, наш ученик, – негодяй; но главным образом в том, что прокуратор-казначей Мелькиоре допустил ошибку в латыни, а мы позволили себе ее исправить. Впервые так случилось, что два гражданина брошены под «Свинцовые кровли» за то, что не пожелали примириться с безграмотностью.
Запальчивость молодого Дзуккато не понравилась судьям. Старый Дзуккато, видя, какое неблагоприятное впечатление произвели несдержанные слова Валерио, поднялся и сказал:
– Замолчи, сын мой! Твои слова безумны и дерзки. Не так добропорядочный гражданин должен защищать себя перед отцами отечества. Монсеньеры, извините его заблуждение. Рассудок несчастных юношей помрачен горячкой. Вникните с присущей вам справедливой беспристрастностью в их дело и, если они виновны, покарайте их без снисхождения: их отец первый воздаст вам хвалу за справедливый приговор и благословит строгие законы, пресекающие обман. Да, да, если бы мне самому пришлось пролить их кровь, я бы это сделал, отцы мои, только бы не была поколеблена священная власть республики. Но если они невиновны, в чем я уверен, в чем я убежден, то, свершив скорый и правый суд, великодушно помилуйте их, ибо мой старший сын дышит на ладан, а младший, видите сами, – в бреду.
Сказав это твердым голосом, старец упал на колени, и слезы в два ручья полились по его длинной седой бороде.
– Себастьяно Дзуккато! – произнес судья. – Республика знает твою честность и преданность; ты говорил как добрый отец и добрый гражданин, но, если тебе больше нечего сказать в защиту своих сыновей, удались.
По знаку судейского чиновника родственник, сопровождавший Себастьяно, помог ему выйти. Уходя, старик с отчаянием посмотрел на сыновей. Затем, обернувшись в последний раз к судьям, умоляюще сложил руки и возвел глаза к небу с таким горестным выражением, что, казалось, оно должно было растрогать и мраморные столбы огромного зала, но Совет Десяти был еще холоднее и еще непреклоннее. Когда трое Бьянкини клятвенно подтвердили свое обвинение, потребовали показаний и от Бартоломео Боцца. Положив руку на распятие, он произнес:
– Клянусь именем Христа, что я провел под «Свинцовыми кровлями» три месяца за то, что не пожелал дать ложное свидетельство.
Все собравшиеся вздрогнули от неожиданности. Мелькиоре нахмурил брови, Бьянкини Рыжий заскрежетал зубами, а юный Валерио порывисто вскочил и крикнул:
– Да неужели это правда! Так, значит, ты достоин жалости и уважения! Ах, эта мысль облегчает все мои муки!
– Замолчи, Валерио Дзуккато, – проговорил судья, – и не мешай говорить свидетелю.
Бартоломео был так же удручен и так же болен, как и братья Дзуккато. Его тоже подвергли долгой пытке – неволе. Он сказал, что за несколько дней до праздника святого Марка Винченцо Бьянкини повел его на леса, где работали Дзуккато, заставил его рассмотреть вблизи их мозаику и ощупать ее в нескольких местах – там, где разрисованный картон явно заменял камни, а потом повел его к прокуратору-казначею, дабы Бартоломео засвидетельствовал это, что он и сделал в порыве гнева и искреннего негодования. С этого дня, убежденный в недобросовестности Дзуккато, он не пожелал быть соучастником дела, заслуживающего кары, и перешел в школу Бьянкини. Но вот накануне дня святого Марка Винченцо повел его еще раз к прокуратор и стал уговаривать дать показания, будто бы он – очевидец преступных деяний, в которых обвиняли братьев; но Боцца отказался, ибо, он не присутствовал при этом.
– Если бы это было так, – продолжал он, – я не ждал бы предупреждений Бьянкини, а сам ушел бы из школы Дзуккато. Но я никогда ничего подобного не замечал. Ничто в поведении моих учителей не давало мне основания поверить в правдоподобие того, что я увидел. И я не мог поклясться именем Христа, будто видел, что они пускают в ход картон и кисть. Когда Винченцо Бьянкини убедился, что я не содействую его намерениям, он вознегодовал на меня и обвинил в сообщничестве с Дзуккато.
Монсеньер Мелькиоре осыпал меня угрозами, и я в раздражении посоветовал ему не доверять Бьянкини. В тот же вечер меня задержали и препроводили под «Свинцовые кровли». С того дня я понял, что мои бывшие учителя ни в чем не повинны и что человек, способный вымогать ложную клятву, так же способен ночью, без ведома Дзуккато и всех остальных, разрушить часть их мозаики и заменить камни деревом и картоном, чтобы их погубить. Должен, однако, сказать, что эта подделка выполнена до того искусно, что, если ее не поскребешь, ничего и не приметишь.
Так говорил Боцца, твердым голосом, со своим обычным болонским произношением, очень медленно и очень внятно. Когда от него потребовали, чтобы он рассказал о рассеянном образе жизни Валерио, он признал, что старший брат часто журил младшего за леность и мотовство, но Валерио тотчас же все наверстывал, работая ночи напролет, что ему и поставлено было в упрек обвинением, в котором утверждалось, будто его мозаика непрочна. Он заявил также, что Валерио не так сведущ в ремесле, как его брат, и занимался выделкой предметов роскоши, но в часы досуга. Словом, из свидетельских показаний Боцца было видно, что он не склонен добиваться расположения Дзуккато и не побоялся бы повредить им, говоря правду, но его ужасает клевета, к которой его хотели принудить Бьянкини, и он никогда не простит им того, что они бросили его в тюрьму.
Совет закончил в этот вечер судебное заседание, назначив комиссию художников, которая должна была на глазах у прокураторов проверить работу двух соперничающих школ. Комиссия, состоявшая из Тициана, Тинторетто, Паоло Веронезе, Якопо Пистойя и Андреа Чьявоне, с той поры получила наименование «Medola» [34]34
Medola (итал.) – костный мозг.
[Закрыть]благодаря той тщательности, с какой она «до мозга костей» изучала мозаику.
XVIII
На другой день все эти знаменитые художники в сопровождении своих помощников, прокураторов и служителей святейшей инквизиции явились в собор святого Марка и приступили к изучению работ мастеров мозаики. Начали с изображения генеалогического древа богородицы – огромной работы, выполненной за очень короткий срок: о ней-то в первую очередь и говорилось в доносе Бьянкини. Ко всем порокам Винченцо присоединялось еще невыносимое честолюбие. Он жаждал похвал и неотступно следовал за Тицианом. Рядом с ним шел Доминик Рыжий. Однако Тициан от оценок уклонился. Он, как всегда, был остроумен и учтив, вникал во все внимательно, с интересом, но в вопросах, которые он задавал Бьянкини, нельзя было уловить его мнение – мнение знатока. Его любезность, милая улыбка являлись как бы разительным контрастом мрачному выражению лица Тинторетто и его суровому молчанию. Робусти не был так тесно связан с семейством Дзуккато, как Тициан, но негодовал он гораздо больше на злобные происки их соперников. Тициан сам всегда глубоко ненавидел, терпеть не мог своих противников, и поведение Бьянкини казалось ему если не простительным, то, во всяком случае, заслуживающим снисхождения – он принимал во внимание дух соперничества и честолюбия, царящий среди художников. Быть может, Тинторетто, размышляя о том, что ему самому приходилось сносить от Тициана, хотел косвенно упрекнуть его и выразить презрение к подобным поступкам. Он вышел из часовни святого Исидора, так и не промолвив ни слова и ни разу не взглянув на своих спутников.
Но вот он вошел под главный купол и, увидев работу братьев Дзуккато, тотчас же рассыпался в похвалах. Его прекрасное строгое лицо оживилось, и он с благородным пылом стал говорить о совершенствах этого творения. Тициан, близкий друг старика Себастьяно, преподавший юным Дзуккато много превосходных уроков, присоединил свой голос к похвале, но отнюдь не в ущерб Бьянкини, с которыми по-прежнему держался весьма осторожно. Однако прокуратор-казначей, недовольный успехом братьев Дзуккато, прервал великих мастеров:
– Должен предуведомить вас, что мы явились сюда не ради того, чтобы оценить работы живописцев, а саму мозаику. Государству мало дела до того, лучше или хуже выполнена рука богоматери, соблюдены ли все правила вашего искусства, а еще меньше дела ему до того, чуть ли пониже, чуть ли повыше икра на ноге святого Исидора. Все это годится для ваших споров…
– Клянусь господом нашим богом, – воскликнул Тициан (слова этого неуча заставили его на мгновение забыть осмотрительность и учтивость), – государству, значит, нет дела до того, что мастера мозаики постигли рисунок, нет дела до того, что мозаика с полнейшей точностью передает прелесть творения, живописи! Ничего подобного я в жизни не слышал и, при всем своем уважении к суждению вашему, не могу с ним согласиться.
Ничто так не раздражало прокуратора-казначея, как противоречие.
– Ну, а я, мессер Тициан, – запальчиво воскликнул он, – я повторяю, что все это чепуха и ребячество. В мелкие ссоры между школами и в споры, ведущиеся в мастерских, высокий суд вмешиваться не собирается. Республика поручила прокураторам соблюдать ее интересы, следить за бережливостью, тщательно проверять все расходы, и они не потерпят, чтобы ради прихоти любителей живописи мастера, работающие в соборе святого Марка, пренебрегали своим долгом.
– Вот уж не думал, – возразил Франческо Дзуккато слабым голосом, печально глядя на свои работы, – право, не думал, что я не выполняю своего долга, когда тщательно, насколько возможно тщательно выполнял рисунок моих фигур и по всей совести подчинялся законам моего искусства!
– Я знаю не хуже вас, мессер, законы вашего искусства, – крикнул прокуратор, побагровев от злости. – Нечего уверять, что мастер мозаики – то же, что и живописец! Республика вам платит за то, что вы неукоснительно точно копируете картины художников, и если вы накладываете свои камешки на стену так, чтобы они прочно держались, если вы умеете выбирать хороший материал так, чтобы он подходил к вашей работе, то нечего вам соваться не в свое дело – законы живописи и рисунка вас не касаются. Клянусь колпаком дожа, если б вы были такими выдающимися живописцами, республика могла бы на вас кое-что сберечь. Не пришлось бы платить мессеру Вечеллио и мессеру Робусти за рисунки для ваших мозаик. Вам бы позволили самим придумывать композиции и сюжеты для ваших мозаичных работ. К сожалению, мы далеко не уверены в вашем мастерстве как живописцев и не можем положиться на вас.
– Однако, монсеньер, – заметил Тициан, к которому вернулось спокойствие – он даже согнал презрительную усмешку с губ и любезно улыбнулся, – осмелюсь сказать, что тому, кто пожелает точно скопировать хороший рисунок, должно и самому быть хорошим рисовальщиком, а то можно было бы, пожалуй, поручить картоны Рафаэля первому попавшемуся школяру, достаточно было бы иметь перед глазами прекрасные модели для копирования, чтобы прослыть великим художником. Если ваша милость позволит мне высказать свое мнение со всем полнейшим моим уважением к вашим замечаниям, дело обстоит иначе. Правда, руководить людьми с мудрым величием или развлекать их своими пустяковыми творениями – не одно и то же. Ведь мы, жалкие ремесленники, попали бы в весьма затруднительное положение, если бы нам пришлось, как приходится вам, ваша милость, держать в твердой и благородной руке своей бразды правления государства, однако должен сказать…
– Ты хочешь сказать, льстец, – сказал, смягчившись, прокуратор, – что в живописи и мозаике ты разбираешься лучше нас. Однако ты не станешь отрицать, что прочность – одно из непременных условий мозаичных работ, и если ты, скажем, вместо камня, мрамора и смальты пустишь в дело картон, дерево и масляную краску, то будешь принужден признаться, что деньги из казны республики не пошли по их истинному назначению.
Тут Тициан несколько смешался: ведь он не знал, на чем основывали свое обвинение Бьянкини, и боялся повредить братьям Дзуккато необдуманным ответом.
– Во всяком случае, я отрицаю, – ответил он после недолгого колебания, – что некоторая замена материалов является плодом махинаций, если доказано, как я полагаю, что в нескольких местах мозаики кисть сделала то, что можно сделать смальтой.
– Вот это мы сейчас и увидим, мессер Вечеллио, – возразил прокуратор, – ибо мы не желаем подозревать вас в соучастии в этом деле. А ну-ка, принесите сюда песок и губки; клянусь колпаком дожа, а ну-ка, протрите покрепче все эти стены.
Угасшие глаза Франческо вспыхнули, и он с ненавистью и презрением посмотрел на слово «saxis», заменившее варварское «saxibus». Казалось даже, если его осудят, обвинив в замене одной буквы другой, он утешится в надежде, что невежда прокуратор будет опозорен в глазах общественного мнения. Мелькиоре понял его, уловив его взгляд, и поспешил перевести внимание присутствующих на другие части свода.
Мозаику братьев Дзуккато тщательно терли и мыли, но она выдержала испытание. Ни один кусочек не отвалился, все держалось прочно. Прокуратор-казначей начал было побаиваться, что слепая ненависть братьев Бьянкини и его, Мелькиоре, козни послужат, пожалуй, к его посрамлению, но в этот миг Винченцо Бьянкини подошел к двум архангелам – один из них был портретом Валерио, а другой – Франческо, и уверенно сказал:
– Разумеется, дерево и раскрашенный картон могут устоять перед песком и мокрой губкой, но вряд ли они выдержат действие времени, и вот вам доказательство.
С этими словами он вынул стилет и вонзил его в обнаженную грудь архангела, изображавшего Франческо Дзукката, в то место, где находилось сердце. От стены отвалился кусочек телесного цвета. Винченцо Бьянкини легко разрезал его надвое лезвием стилета и протянул прокураторам. Кусочек переходил из рук в руки, и сам Тициан вынужден был признать, что это дерево.








