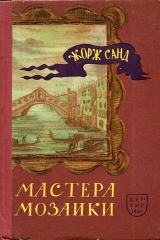
Текст книги "Мастера мозаики"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
VIII
Боцца был художником, не лишенным дарования. Он был талантливее Бьянкини, которые отличались лишь прилежанием и старательностью, и научился от братьев Дзуккато высокому мастерству рисунка и живописи. Линии его рисунка были изящны и точны, оттенки цвета естественны, а в умении подбирать яркие и богатые тона для изображения тканей он, пожалуй, даже превосходил самого Валерио. Учился он с упорством и с успехом овладел мастерством мозаики, однако не получил в дар от неба того священного огня, который может вдохнуть жизнь в произведения искусства, а ведь именно в этом превосходство гения над талантом. Боцца был так умен, с таким беспокойством стремился постичь, вглядываясь в произведения других художников, в чем же тайна их превосходства, что понял наконец, чего ему недостает, и стал со страстным нетерпением добиваться совершенства. Но тщетно пытался он придать своим образам пленительную грацию или ту возвышенную одухотворенность, которая светилась в образах, созданных братьями Дзуккато. Ему удавалось изобразить лишь внешние проявления чувства. В сцене из Апокалипсиса его демоны и грешники, обреченные на муки, были отлично отработаны; но, хотя эта сцена и была лучшей его мозаикой, его настоящим торжеством, ему не удалось сообщить этим символам ненависти и горя той красноречивости, выразительности, которая должна быть присуща подобным произведениям. Грешники, казалось, мучаются только от опаляющего их огня; черты, искаженные ужасом, не выражали ни стыда, ни отчаяния. Восставшие ангелы утратили все небесное. Не скорбь о прежнем величии духа, а какую-то бесчеловечную насмешку выражали их лица, их жестокие улыбки; и, глядя на картины пыток, скорее напоминавшие инквизицию, а не суд божий, зритель испытывал не волнение, а скорее недоумение, не ужас, а отвращение.
Несмотря на все эти недостатки, понятные лишь тонким знатокам, в работах Боцца было нечто выдающееся, и Дзуккато узнавали в произведениях своего ученика плоды своих стараний. Но, когда он захотел испытать свои силы на более возвышенных сюжетах, он потерпел полнейшую неудачу. Движения у него получались не величественными, а угловатыми, лица не вдохновенными, а безжизненными, ангелы тщетно взмахивали сильными и блестящими крыльями – ноги их, казалось, были навсегда прикованы к грунту, их взгляды блестели лишь смальтой и мрамором.
Художники выказывали недовольство тем, что их замыслы не нашли своего подлинного воплощения, хотя рисунки были выполнены с точностью, и братьям Дзуккато пришлось много потрудиться и кое-где переправить мозаичные фигуры, чтобы придать им жизнь и одухотворенность. Как только сцены из Апокалипсиса были закончены, Боцца поручили работу над гирляндой, украшающей свод; он же считал рабское копирование узоров занятием недостойным для себя и внутренне страдал в своей униженной гордости. Однако братья Дзуккато с удивительной мягкостью и чуткостью дали ему понять, что необходимо передать работу над священными сюжетами в более умелые руки, а ему придется кончать детали свода, пока их мастерской не поручат работу, более подходящую для его таланта. Боцца находил, что с ним мало занимаются рисованием и живописью – братья Дзуккато давали ему уроки в часы досуга. Он находил, что самое главное – это забота о будущей его славе, и втайне упрекал Валерио за любовь к развлечениям, которые мешали ему посвящать Боцца все свободное время; а Франческо он упрекал за то, что, работая над собственными сложными этюдами, тот иной раз раньше времени кончал урок или откладывал на следующий день. Он внушал себе, что учителя боятся, как бы он их не опередил, и мешают ему быстро овладеть приемами искусства мозаики, чтобы подольше пользоваться его трудом для своей выгоды. Его душу втайне терзали недоверие и ненависть. Иной раз (а такие минуты бывали еще мучительнее) ему открывалась истина, и он понимал, что, несмотря на превосходные уроки и бескорыстные советы учителей, он не делает должных успехов. Он с горечью замечал недостатки своей работы и с ужасом вопрошал себя: а что, если, несмотря на некоторый талант, он так никогда ничего и не создаст? Он понимал, чего ему недоставало, и не мог ничего поделать; рука его, казалось, переводила на грубый язык все его поэтические замыслы, и он даже был готов поверить в завистливую волю нечистой силы, влиявшей на его судьбу. Валерио часто говорил ему:
«Бартоломео, больше всего мешает развиваться твоим способностям тревога, снедающая тебя. Прекрасное и великое не могут расцвести без плодотворного вдохновения пылкого сердца и свободного ума. Чтобы создать произведение, исполненное жизни, надо быть здоровым и телом и духом, а вымыслы больного воображения жить не будут. Если бы ты ночи напролет не грезил о почете и славе, а радостно засыпал бы после свидания с возлюбленной; если бы в тоске не лил иссушающие сердце слезы, а плакал бы от умиления и нежности, припав к груди друга; наконец, если бы в часы усталости, когда уже ты не в силах держать в руке инструмент и распознавать оттенки цветов, ты не утомлял зрение, не перенапрягал волю, а искал в развлечениях, свойственных твоему возрасту, в невинных удовольствиях молодости средство для восстановления сил, необходимых художнику, давая душе на время иную пищу, ты, право, поразился бы, когда, вернувшись к работе, почувствовал, как сильно бьется твое сердце и все существо твое переполнено какой-то неведомой радостью и всепобеждающей надеждой. А ты, словно нарочно, все делаешь по-иному, вечно грезишь и с каждым часом угасаешь под бременем бытия; как же ты хочешь придать своему творению жизнь, если ее нет в тебе самом! Если будешь так продолжать, то подорвешь силу своего таланта раньше, чем заставишь его служить искусству. Постоянно размышляя о цели и преувеличивая ценность победы, ты так и не познаешь волнения и чистых радостей творчества. Искусство отомстит за то, что ты его не любишь ради него самого, и предстанет лишь издалека твоим обманутым и ослепленным глазам; и, если тебе удастся окольными путями добиться пустых рукоплесканий толпы, ты не ощутишь того благородного самоудовлетворения, которое испытывает истинный художник, с улыбкой наблюдая невежество грубых судей, находя утешение в своей скорби, если ему удастся скрыться от всех в какой-нибудь каморке или темнице вместе со своей музой и обрести радость, не известную человеку заурядному».
Несчастный художник прекрасно понимал, как справедливы эти замечания, но он не верил, что Валерио обращается к нему с чистой душой и с добрыми намерениями, желая направить своего ученика на верный путь, и приписывал ему низкие побуждения – скрытое злорадство и жестокое презрение к его страданиям. Обескураженный, отчаявшийся, он восклицал; «О, как это верно, Валерио! Я погиб. Я погасну, как факел под порывами ветра, не успев разгореться и осветить все вокруг. Вы это хорошо знаете и растравляете мою рану. Вы хорошо знаете, в чем секрет вашей силы и моей слабости. Что ж, торжествуйте, унижайте меня, презирайте мои мечты, мешайте осуществлению моих замыслов и насмехайтесь над моими надеждами. Вы умело пользуетесь своими силами – вы управляли скакуном, вы его укротили; я же без конца подхлестываю его, и он несет меня, и я вижу, что разобьюсь при первом же препятствии». Тщетно оба Дзуккато старались успокоить его, вселить в него надежду; он отвергал все их заботы, уязвленный их сочувствием, и прятал свои горести от чужих взглядов, избегая утешений. Его молодые учителя заметили, что их сердечность, их советы только раздражают и терзают его Израненную душу, и мало-помалу перестали говорить с ним о нем же. Боцца решил, что они его разлюбили и не дают ему советов, боясь его успеха. Досадная необходимость бросить благородную и увлекательную работу, чтобы к сроку закончить мозаику скучных орнаментов, озлобила его вконец. И вот он решил покинуть своих учителей, как только истечет срок его обязательства, ибо не верил, что они подготовят его к испытаниям на звание мастера. По договору с прокураторами они имели право представить к званию мастера одного ученика в год, но ему казалось, что братья гораздо лучше относятся к двум другим молодым подмастерьям – Чеккато и Марини. Он задумал отправиться в Феррару или же Болонью, получить там звание мастера и открыть свою школу; пусть он и был одним из последних в Венеции, зато он мог рассчитывать, что станет одним из первых в городе менее богатом и прославленном. Ссора с Валерио, казалось ему, представляла двойную выгоду: она вернет ему свободу и послужит предлогом для мести. Работы еще не были закончены, день святого Марка приближался, минуты были считанные. В обеих мастерских работали с удвоенным рвением, чтобы не нарушать договора. Отсутствие или уход одного из учеников грозил сейчас настоящим провалом и помешал бы успеху после всех неслыханных усилий, которые были сделаны до нынешнего дня, во имя того, чтобы не обогнала мастерская-соперница.
IX
Бьянкини очень скоро приметили, что Боцца так и не вернулся, а Валерио приуныл. Винченцо со злорадной усмешкой рассказывал братьям о своей вчерашней хитрости, и все трое пришли в восторг от первой удачи и решили приложить все усилия, только бы сорвать работы под главным куполом и погубить братьев Дзуккато. Собравшись в питейном заведении, они обо всем сговорились, а затем Винченцо отправился на розыски Боцца и отыскал его под вечер в предместье Санта-Киара, где по берегам лагуны тянутся обширные фруктовые сады.
Боцца медленно прохаживался вдоль сплошной зеленой стены – лишь кое-где дивные плодовые деревья ласково склонялись к мирным водам. Глубокая тишина царила в предместье, утонувшем в садах. Гасли последние лучи заходящего солнца, отражаясь вдали на сельской колокольне острова Чергоза. Пейзаж Венеции здесь дышит наивностью и сельской простотой, – во всех же иных местах он изыскан, горделив или же грозен. Здесь только видишь, как причаливают лодки, полные водорослей или фруктов, здесь только слышишь, как шуршат грабли, расчищая дорожки в садах, да жужжат прялки в руках женщин, сидящих в кругу детей на пороге теплиц. Монастырские часы отбивают время – льются чистые, похожие на женский голос звуки, и ничто не заглушает протяжного и печального звона. Сюда в иные, более поздние времена часто приходил певец «Чайльд-Гарольда» [25]25
Певец «Чайльд-Гарольда» – английский поэт Байрон, посвятивший IV песнь поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда» Венеции, где он прожил три года (1816–1819).
[Закрыть], стараясь постичь некоторые тайны природы. И, когда он размышлял здесь над скрытым смыслом слов «милосердие», «кротость», «умиротворение», «покой», природа, то ли не в силах на него воздействовать, то ли неумолимо жестокая, вместо них подсказывала ему слова печали, тоски, скуки, безнадежного уныния.
Боцца, равнодушный к умиротворяющему действию чудесного вечера, позабыв все на свете, следил за стремительным полетом и неистовой битвой больших морских птиц; в вечерний час одни дрались из-за последней добычи, другие спешили в свои никому не ведомые убежища. Только такие картины – борьбы и смятения – доставляли удовольствие Боцца. И всякий раз ему казалось, что побежденный олицетворяет его соперников. И, когда в воздухе раздавался яростный и торжествующий крик победителя, Боцца чудилось, будто он сам взмывает на широких крыльях и несется к цели по зову своего ненасытного честолюбия.
Бьянкини с наигранным чистосердечием и, сказав, будто уже давно замечает, что братья Дзуккато строят ему, Боцца, козни, попросил поведать по секрету, уж не решил ли он покинуть их школу.
– Скрывать это нет надобности, – отвечал Бартоломео, – ибо дело уже сделано.
Бьянкини сдержанно выказал радость и стал уверять Боцца, что и десять лет службы у Дзуккато ни на шаг не продвинули бы его к званию мастера; вот, например, Марини, одаренный художник, работает у братьев уже шесть лет, а какое у него вознаграждение? Только скромное жалованье да звание подмастерья.
– Марини хвалился, – добавил Бьянкини, – что будет представлен к званию мастера в день святого Марка, – так ему обещал Франческо Дзуккато. Но…
– Он ему обещал? Это верно? – спросил Боцца, и глаза его блеснули.
– Я сам слышал, – ответил Винченцо. – Уж не обещал ли он и вам? О, братьям Дзуккато обещать ничего не стоит: с учениками они обходятся, как с прокураторами. Больше болтают, чем делают. Они весьма красноречиво втолковывают ученикам-простофилям, что искусство, видите ли, требует длительного срока ученичества; будто художника погубишь в расцвете сил, если слишком рано позволишь ему творить по воле его причудливого воображения; что и большие таланты терпели неудачу, поспешив отказаться от рабского копирования моделей, и так далее. Да чего только они не наговорят! Назубок выучили в школе своего папаши (когда их папаша держал школу живописи) пять-шесть наставлений, которые там твердили Тициану да Джорджоне, и теперь воображают, будто стали великими мастерами, и вещают, как непогрешимые судьи. Потеха, право! Не понимаю, как ваш дьявол – кстати, он блистательно выполнен и получился презабавным; удачны рога и веселое выражение, я на него не могу смотреть без смеха, – так вот, я не понимаю, как он до сих пор не сорвался со стены и своим львиным хвостом не хлестнул их по ушам, когда они несут чепуху, столь неуместную в их устах.
Хотя Боцца и был задет этими грубыми похвалами, расточаемыми самой главной части его работы – фигуре, которой он намеревался придать страшный, а отнюдь не смешной облик, – он втайне обрадовался, услышав, как высмеивают и унижают Дзуккато. А Бьянкини решил, что он завоевал доверие Боцца, излив целебный бальзам на его рану, и пригласил его к себе в школу и даже пообещал жалованья побольше, чем тот получал у Дзуккато. Он был поражен, когда Боцца, не выразив и признака радости, отказался. Бьянкини подумал, что молодой подмастерье хочет поднять себе цену и добиться наивысшей денежной мзды. Братья Бьянкини не видели в жизни художника иной цели, иной надежды, иной славы, кроме обогащения.
Он попытался соблазнить Боцца еще более блестящими предложениями, но все было тщетно – пришлось отказаться от мысли переманить его к себе, и Бьянкини, словно это его ничуть не трогало, продолжал спокойно беседовать с ним и расхваливать его, стараясь выведать причины его отказа и тайные тщеславные помыслы. Оказалось, что сделать это было нетрудно. Боцца, такой недоверчивый, такой замкнутый, что даже самая искренняя дружба не могла заставить его признаться в своих слабостях, поддался, как ребенок, на обольщения грубой лести: похвала была нужна ему, как воздух, без нее он страдал и чах. Боцца владела лишь одна мысль – стать мастером. Подстрекаемый мелким самолюбием, он хотел добиться славы, положения, независимости, звания, – и ради этого он готов был поступиться денежной выгодой и терпеть нужду. Заметив все это, Бьянкини проникся презрением к такому бескорыстному честолюбию, чуждому ему самому, и он без стеснения высмеял бы Боцца, если б не понимал, что может воспользоваться его услугами во вред братьям Дзуккато.
– Ах, мой молодой друг, вам хочется приказывать, а не прислуживать! Да этого не трудно добиться такому талантливому художнику. Что ж: viva! [26]26
Viva (итал.) – да здравствует; здесь; прекрасно.
[Закрыть]Нужно сделаться мастером, но не в жалком провинциальном городишке, где вам придется в поте лица трудиться день и ночь, лет двадцать оставаясь в безвестности. Нет, нужно сделаться мастером в самой Венеции, в соборе святого Марка, вытеснить и заменить Дзуккато.
– Ну, это только на словах легко, – возразил Боцца, – Дзуккато всемогущи.
– Может статься, не так уж всемогущи, как вы думаете, – произнес Бьянкини, – дайте слово, что вы доверитесь мне и будете помогать во всех моих намерениях. Клянусь, не пройдет и полугода, как Дзуккато будут изгнаны из Венеции, а мы с вами вдвоем станем полновластными хозяевами в базилике.
Винченцо говорил с уверенностью, а было известно, что он настойчив, ловок, удачлив во всех своих начинаниях, избежал множество опасностей, всегда выпутывался из беды, гибельной для всякого другого. И Боцца затрепетал от радости. Си вспыхнул, испарина покрыла его лицо, как будто солнце вновь взошло из-за моря и коснулось его своими теплыми, живительными лучами.
Бьянкини, почуяв, что одержал победу, взял его за руку и повлек за собой.
– Идемте, – сказал он, – сейчас вы кое-что увидите собственными глазами – верный путь к гибели наших врагов. Но прежде дайте клятву, что не поддадитесь глупой чувствительности и не разрушите моих замыслов. Вы мне необходимы как свидетель. Уверены ли вы, что не отступите, как бы тяжки ни была последствия для ваших бывших учителей?
– Но что же им грозит? – спросил, оторопев, Боцца.
– Только не смерть. Им грозит изгнание, бесчестье, нищета, – ответил Бьянкини.
– Для этого я не гожусь, – сухо сказал Боцца, отшатнувшись от своего искусителя. – Оба Дзуккато, вопреки всему, порядочные люди. Я ими недоволен, но не могу их возненавидеть. Оставьте меня, мессер Бьянкини, вы злой человек.
– Да вам это только кажется, – ответил Винченцо (его ничуть не оскорбили слова Боцца, он уже давно разучился краснеть). – Вы испугались, потому что верите в порядочность братьев Дзуккато. С вашей стороны это очень мило и очень наивно. Но, если вам докажут (говорю вам, вы увидите все собственными глазами), что они недобросовестны, обманывают республику, присваивают ее деньги, получают даром жалованье, занимаясь подделками, – словом, что вы скажете, если я вам это покажу? А когда вы это сами увидите, и я, когда придет время, в надлежащем месте потребую, чтобы вы засвидетельствовали истину, как вы поступите?
– Если увижу собственными глазами, то скажу, что более страшных лицемеров и чудовищных лжецов я никогда не встречал. И, если меня вынудят дать свидетельство, я это сделаю, потому что они низко обманывали меня, а я ненавижу людей, которые считают себя вправе сметать с дороги других, и еще больше ненавижу тех, кто ложью присваивает себе это право… Неужели они воры и бесчестные люди? Не верю! Но как бы мне хотелось, чтобы это было так! Как хорошо было бы бросить им в лицо: «Нет, вы не имели права презирать меня!»
– Ступайте за мной, – сказал Бьянкини, злобно усмехаясь. – Ночь темна – впрочем, нам-то можно в любой час проникнуть в базилику, не возбудив ничьих подозрений. Идемте, и, если вы не отступите, то через каких-нибудь полгода вы сделаете на плафоне [27]27
Плафон (архитект.) – потолок.
[Закрыть], на самом верху базилики огромного желтого черта. Он будет хохотать громче всех остальных и отвалит вам сто дукатов золотом.
Говоря это, он неслышно шагал между благоухающими деревьями, а Боцца, неуверенно ступая и топча грядки с тмином и укропом, шел за ним следом и дрожал так, будто ему предстояло совершить преступление.
X
На следующий день Боцца с жаром работал в мастерской Бьянкини над рисунками для часовни святого Исидора. Франческо, которому брат накануне подробно рассказал о поступке Боцца, был глубоко оскорблен. Он просил Валерио не предпринимать никаких попыток, чтобы разузнать о причинах странного поведения подмастерья. Он был очень взволнован, но молчал, гораздо острее чувствуя оскорбление, нанесенное его любимому брату, чем оскорбление, которое получил бы сам, и не мог постичь, как можно было не поверить искренности и доброте, с какой старался все разъяснить Валерио. Франческо притворялся, что не замечает Боцца, и с того дня проходил мимо, будто и не видя его. Валерио превосходно понимал, как важно было для брата вовремя закончить работу над украшением купола и как его обеспокоил уход Боцца, поэтому он решил не жалеть сил и превозмочь все трудности. У Франческо было слабое здоровье, но он был горд и чувствителен, не мог допустить и мысли, что можно нарушить обязательства. Дело было не в славе – он и так упрекал себя в том, что слишком много думает о ней и задерживает заказанную ему работу, – дело шло о чести художника. Он знал о кознях, которые уже начали строить братья Бьянкини, чтобы запятнать его доброе имя. Когда он согласился на эту огромную работу, старик Дзуккато считал, что сын не справится с ней за три года, как было договорено, и пытался отговорить его. Тициан также думал, что при рассеянном образе жизни Валерио и недугах старшего брата задачу выполнить невозможно, и не раз советовал им помириться с братьями Бьянкини и упросить прокураторов заключить новый договор. Но братья Бьянкини, сами вышедшие из школы Франческо, не обладая большими талантами, были невыносимо заносчивы. Франческо ни за что на свете не доверил бы им труд, который начал с таким старанием, такой любовью.
Чтобы вы поняли, отчего Франческо не мог опоздать ни на день, расскажем о событиях, совершившихся раньше. Дело в том, что в базилике святого Марка много лет подряд работали неумелые и нерадивые мастера. На содержание бесчестных тунеядцев тратились огромные средства, причем много денег уходило на переделку их работ. Альберто и Риццо, превосходные мастера мозаики, много раз говорили прокураторам о том, что необходимо навести порядок и в расходах и в самих работах. Не раз мастеров меняли, наконец во главе мозаичной мастерской поставили Франческо Дзуккато. Работы Винченцо Бьянкини и его братьев отличались изрядной прочностью, и у Винченцо, хотя он и провел четырнадцать лет на каторге по обвинению в изготовлении фальшивых монет и убийстве нескольких человек, в том числе цирюльника, нашелся заступник, сам прокуратор-казначей, который назначил его помощником братьев Дзуккато. Однако между обеими семьями царила вражда, и Франческо попросил, чтобы ему самому позволили сыскать себе помощников. Это ему удалось. Совет художников, стремясь положить конец распрям и не перечить прокуратору – покровителю братьев Бьянкини, решил поверить им на слово и позволил, работать самостоятельно, на свой страх и риск. Поручили им работу попроще, отвели другую часть собора и дали более долгий срок, чем братьям Дзуккато. Бьянкини сами выговорили себе все эти условия и получили возможность показать, на что они способны. С того дня они, не переставая, всюду расхваливали себя, пытаясь склонить на свою сторону совет художников, который, впрочем, не разбирался в мастерстве мозаики, и унизить школу Франческо, а тот был так скромен и мягок, что не мог с ними бороться; члены же совета главным образом пеклись о том, чтобы было поменьше расходов, и надеялись, что после открытия реставрированного храма сенат осыплет их похвалами и денежными премиями.
Франческо с тревогой видел, что близится роковой день, а он тщетно тратит все свои силы в работе; надежда его покидала. Видел он также, что Валерио ничуть не тревожится и настаивает лишь на том, чтобы в тот же торжественный день было основано «Веселое братство». Франческо совсем приуныл, когда Боцца покинул его в такую трудную минуту. «Даже если Валерио, – раздумывал он, – с душой возьмется за дело, все равно толку будет мало. Пусть же себе веселится, раз, на свое счастье, он так беспечен и мысль о нашем поражении не вызывает у него никакого стыда».
Однако Валерио смотрел на все это совсем иначе. Он слишком хорошо знал благородную совестливость брата и понимал, что Франческо никогда не утешится после провала. И вот однажды Валерио собрал своих любимых учеников – Марини, Чеккато и еще двух юношей, – поведал им о состоянии духа Франческо, об унынии, воцарившемся во всей школе, и о том, чего ждет от них общественное мнение. Он стал заклинать их, чтобы они взяли с него пример, не теряли надежду и, не отказываясь ни от работы, ни от удовольствий, стойко держались до конца, даже если на следующий день после праздника святого Марка нм суждено будет погибнуть от изнеможения. Юноши с горячностью дали клятву без устали помогать ему и действительно слово сдержали. Франческо всегда огорчался, что Валерио не бережет свое здоровье, поэтому, чтобы не тревожить его, друзья прикрыли досками ту часть купола, которую он решил оставить под конец, и трудились там по ночам. Притащили на леса легонькую подстилку, и тот, кто изнемогал от усталости, ложился и засыпал глубоким сном; немного погодя спящего будило веселое пение художников и скрип досок. Работали весело и уверяли, что нет сна крепче, чем когда тебя убаюкивает на лесах шум молотков. Неиссякаемое веселье Валерио, его забавные рассказы, песенки и добрая чарка кипрского вина, которую распивали вкруговую, поддерживали чудесное вдохновение. И вдохновение увенчалось успехом. Под вечер, накануне праздника святого Марка, когда Франческо, стараясь сдержать немой упрек, делал вид, будто примирился со своей участью, что было далеко от истины, Валерио сделал знак своим друзьям. В мгновение ока они разобрали доски, и их учитель увидел гирлянду, которую поддерживали прекрасные ангелы, – ему это показалось просто чудом.
– О, милый мой Валерио! – воскликнул Франческо вне себя от радости и благодарности. – Недаром же я нарисовал крылья на твоем портрете – ведь ты мой ангел-хранитель, мой спаситель!
– Ты знаешь, я очень старался доказать тебе, – отвечал Валерио, обнимая брата, – что можно сочетать дело с развлечениями. Ну, раз ты мною доволен, все мои труды вознаграждены. Обними же наших верных товарищей – ведь они не покладая рук помогали мне, и все они достойны звания мастера. Выбирай же помощника.
– Милые, дорогие мои ученики, – сказал Франческо и сердечно обнял каждого, – вам всем пришлось пожертвовать очень многим из-за молодого человека, наделенного болезненным честолюбием. Вы решили доказать ему, что он возвел на вас напраслину, считая вас врагами и соперниками. Я рад, что вы усвоили мои уроки и не пошли по его следам в погоне за славой, к которой он так жадно стремился, и с готовностью показали ему пример добродетели и бескорыстия, добровольно уступая ему место мастера, чего он сам не ожидал. Неблагодарный не дождался этого счастливого дня – ведь он принужден был бы поблагодарить вас, он невольно должен был бы восхищаться вами. Он бежал как трус от учителей, которых не понял, от друзей, которых не оценил. Забудьте же о нем. Он уже достаточно наказан: ему не найти более искренних друзей, более бескорыстных учителей. Ныне место моего помощника свободно, выбирайте же сами того, кто может его занять: моя воля – ваша воля. Упаси меня бог сделать выбор между моими учениками, ибо я всех уважаю одинаково и всех нежно люблю. Выбирайте же сами. Тому из вас, кто получит больше голосов, я отдам свой голос.
– Долго выбирать не придется, – сказал Марини. – Мы так и знали, дорогой учитель, что в этом году, как и прежде, ты предложишь нам этот выбор, и мы уже предвосхитили твою мысль. Я получил больше всех голосов в нашей школе. Чеккато отдал мне свой голос. И я уже избран. Но право же, это или несправедливо, или неверно. Чеккато работает лучше меня; у Чеккато жена и двое маленьких детей. Он больше нуждается в звании мастера, и у него больше прав на это. Мне торопиться некуда, я еще холост. Я счастлив, что я твой ученик, и мне еще многому надо научиться. Я передаю Чеккато все голоса, я отдаю ему и свой голос и прошу тебя, учитель, присоедини к нему и свой.
– Обними меня, брат мой! – воскликнул Франческо, сжимая Марини в объятиях. – Твой прекрасный поступок исцеляет душевную рану, которую нанес мне неблагодарный Бартоломео. Да, есть еще среди художников люди великой души, способные на благородное самоотречение. Чеккато, принимай эту благородную жертву без смущения: все мы знаем, что на месте Марини ты поступил бы так же. Можешь гордиться собой сегодня. Тот, кто внушает такую дружбу, достоин своего друга.
Чеккато со слезами на глазах бросился в объятия Марини, а Франческо тотчас же отправился к прокураторам, чтобы получить грамоту мастера, которую ежегодно выдавали одному из его учеников.
– Мы тебя будем ждать за столом! – крикнул ему Валерио. – Ведь после таких трудов надо подкрепить силы. Поскорее возвращайся, братец, ведь мне полночи придется провести в Сан-Филиппо, чтобы подготовиться к завтрашнему празднику, а мне хочется с тобой еще чокнуться.








