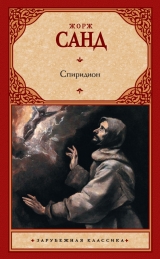
Текст книги "Спиридион"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Осторожность, однако, заставляла меня скрывать сочувствие к Спиридиону. Монахи-инквизиторы не оценили бы чистоты моей симпатии. Решение Фульгенция, избравшего меня своим другом и утешителем, удивило меня не меньше, чем всех остальных. Иных решение это оскорбило, но никто не счел возможным поставить его мне в вину; я не искал дружбы Фульгенция, и потому никто не заподозрил меня в сговоре с ним. В ту пору я был самым правоверным и ревностным католиком; больше того, я с такой горячностью исполнял все католические обряды, что снискал если не расположение, то, по крайней мере, уважение настоятеля и его присных. Прошло уже четыре года с тех пор, как я принес обеты, но я еще не утратил пресловутой пылкости новообращенного.Я любил католическую религию со страстью, она казалось мне священным ковчегом, в котором я всю жизнь смогу чувствовать себя недосягаемым для волн и ураганов моих страстей; страсти между тем бурлили в моей душе, и я чувствовал, что они способны разбить все доводы мудрости, словно стеклянную перегородку; принудить меня к повиновению могли лишь те идеи, что скрывались за словом таинство,ибо они одни были способны приказывать моему воображению или, по крайней мере, усыплять его. Я лелеял мысль о божественном откровении, которое кладет конец всем спорам и обещает людям даровать в обмен на покорность ума вечное блаженство души. Откровение это казалось мне несравненно выше всех мирских философий, творцы которых тщетно ищут счастья в скоротечном мире и не умеют с помощью своих рассуждений побороть отпущенные ими же самими на волю инстинкты физические! Я овладел едва ли не всеми построениями схоластики и проповедовал богословие с воодушевлением апостола, употребляя все имевшиеся у меня способности к спору и анализу для прославления веры, не признающей ни анализа, ни споров.
Итак, на первый взгляд не было человека, менее подходящего для того, чтобы унаследовать тайну Эброния. Однако был в моей жизни поступок, доказавший старому Фульгенцию твердость моего характера. Один послушник рассказал мне о совершенном им проступке, и я посоветовал ему покаяться в содеянном своему духовнику. Он моего совета не послушался, прегрешение его сделалось известно, равно как и моя о том осведомленность. Молчание мое сочли едва ли не соучастием и, чтобы дать мне возможность обелить себя, попытались склонить меня к более подробному рассказу о прегрешении этого юноши, иначе говоря, к доносу. Вместо этого я предпочел взять вину на себя. В конце концов он во всем признался, а меня оправдали. Однако запирательство мое было сочтено великим грехом, и настоятель в присутствии всей братии бросил мне упреки в выражениях весьмах оскорбительных, особенно для человека с нравом гордым и обидчивым. Настоятель наложил на меня суровую епитимью и, видя изумление и уныние, которые этот приговор вызвал у собравшихся вокруг меня испуганных послушников, прибавил:
– Нам жаль карать так строго монаха, который до сих пор отличался столь исправным поведением и столь ревностным исполнением своего долга. Мы охотно простили бы вам этот проступок, ставший первым серьезным прегрешением в вашей монашеской жизни. Мы сделали бы это с радостью, если бы вы выказали больше доверия к нам, если бы вы смиренно склонились перед нашей отеческой властью и, признав свою неправоту, торжественно пообещали никогда более не выказывать такой строптивости, согласной лишь с мирскими представлениями о честности и порядочности.
– Отец мой, – отвечал я, – по всей вероятности, грех мой велик, раз вы осуждаете меня; однако Господу не угодны дерзкие обеты, и если мы не желаем его оскорбить, то должны возносить к небесам не клятвы, но смиренные пожелания и пламенные молитвы. Его проницательности нам все равно не обмануть, слабость же наша и самонадеянность не вызовут у Него ничего, кроме смеха. Итак, я не могу обещать вам того, чего вы требуете.
Такие речи монахам вести не пристало; однако вспыхнувшее в моей душе возмущение помогло мне ощутить, сколь велика разница между самой верой и тем, как используют ее люди в сутанах. Настоятель не знал, как опровергнуть мои слова. Поэтому он сказал мне с лицемерным состраданием и плохо скрытой досадой:
– Я буду вынужден оставить в силе свой приговор, раз вы не хотите обещать мне, что в будущем не совершите подобного проступка вторично.
– Отец мой, – отвечал я, – я предпочту принять наказание вдвое более суровое за то, что совершил сейчас.
Я исполнил обещание; я умерщвлял свою плоть так безжалостно, что мне приказали прекратить эти истязания. Карая себя сам по велению собственной гордыни, я становился неуязвим для кар, измышленных другими людьми, и таким образом, не подозревая об этом или, во всяком случае, этого не желая, настраивал против себя настоятеля с присными и вселял в их сердца тревогу. Характер мой благодаря этому эпизоду открылся с совершенно неожиданной стороны, и Фульгенций поразился моему упорству. У него даже вырвались удивительные слова: во времена аббата Спиридиона, сказал он, ничего подобного произойти не могло.
Тут уже поразился я и, оставшись наедине с Фульгенцием, спросил у него объяснения этих слов.
– Слова эти означают две вещи, – отвечал Фульгенций, – во-первых, что аббат Спиридион никогда не стал бы требовать от монаха, чтобы он выдал чужую тайну, а во-вторых, что, если этого попытался бы потребовать кто-нибудь другой, Спиридион покарал бы любителя доносов и вознаградил их ненавистника.
Я был донельзя удивлен этим признанием – быть может, единственным, на какое отважился Фульгенций за долгие годы монастырской жизни. Вскоре старик занемог и призвал меня ходить за ним. Поначалу он чувствовал себя со мною весьма принужденно и не желал объяснить, по какой причине выбор его пал именно на меня. Я же, хотя и очень хотел проникнуть в ход его мыслей, чувствовал, как нескромно было бы расспрашивать его на этот счет, и, не требуя объяснений, старался дать ему понять, что горжусь оказанной мне честью. Он был мне благодарен за отказ от расспросов, и вскоре отношения наши приняли характер нежной привязанности: он любил меня, как сына, я был предан ему, как отцу. Однако он по-прежнему не мог решиться доверить мне свою тайну, хотя мы с ним говорили о многом и по видимости совершенно непринужденно. Доброму старцу, судя по всему, нравилось вспоминать о годах его молодости и делиться с учеником тем восхищением, которое некогда вызывал в нем самом его возлюбленный учитель Спиридион. Я слушал Фульгенция с удовольствием, не испытывая ни малейшей тревоги относительно крепости моей веры; вскоре предмет этот сделался мне до такой степени интересен, что, когда старец заговаривал о чем-нибудь другом, я сам просил его вернуться к брошенному рассказу. Конечно, упоминания о таинственных трудах, каким посвятил Спиридион последние годы своей жизни, могли бы меня насторожить, не повествуй о них такой правоверный католик, как Фульгенций; однако все, что исходило от этого человека, казалось мне достойным полного доверия, а чем больше я узнавал из его рассказов о Спиридионе, тем с большей охотой отдавался тому странному и всепоглощающему чувству симпатии, какое внушал мне характер этого человека, и нимало не задумывался о его богословских убеждениях. Непритворная истовость и неподкупная прямота, какую выказывал Спиридион во всех своих поступках, затрагивала неведомые мне самому струны моей души. Постепенно я проникся к этому славному покойнику таким же нежным чувством, какое испытывал бы к другу, избранному среди живых. Фульгенций говорил о Спиридионе и событиях шестидесятилетней давности так, как если бы все это случилось вчера; очарование и правдивость нарисованных им картин были так велики, что я не мог им сопротивляться; в конце концов я начинал верить, что учитель находится среди нас или вот-вот к нам вернется. Подчас я оставался во власти этой иллюзии очень долгое время, а когда она наконец рассеивалась и я возвращался к реальности, то ощущал неподдельную печаль и сокрушался о своей ошибке с простодушием, которое вызывало у доброго Фульгенция и смех, и слезы.
Несмотря на смиренное терпение, с каким монах этот переносил свой недуг, несмотря на мое присутствие, скрашивавшее его жизнь и доставляшее ему радости откровенной беседы, было очевидно, что его непрестанно грызет какая-то забота; чем острее предчувствовал он свою кончину, тем невыносимее, кажется, становилась эта тяготившая его душу таинственная тоска. Наконец, когда смерть подошла совсем близко, он полностью открылся мне и сказал, что благодаря твердости принципов и характера я единственный, кто достоин узнать священную тайну. Твердость принципов должна была, по его мнению, уберечь меня от погружения в бездны ереси, а твердость характера – от искушения выдать секрет Спиридионовой рукописи. Фульгенций желал уберечь меня от знакомства с нею, однако добавил, что, по мнению Спиридиона, если бы я окончательно потерял веру и предался атеизму, рукопись его, хотя и сама не свободная от мыслей еретических, несомненно возвратила бы меня к вере в Бога и к основам истинной религии. В этом отношении рукопись представляла собою сокровище, которое не следовало оставлять под спудом, поэтому Фульгенций взял с меня клятву, что, если у меня самого не возникнет потребности познакомиться с творением Спиридиона, я не унесу его тайну в могилу и перед смертью передам ее надежному другу. Признания доброго старца были путанны и противоречивы. Казалось, его мучили сразу две совести: одну тревожил неисполненный долг дружбы, другую – боязнь адских мук. Тревога Фульгенция умиляла меня, и мне не приходило в голову строго судить его в минуту столь торжественную и столь мучительную. С другой стороны, я начинал ощущать себя в том же положении, что и он. Я был католиком и еретиком одновременно; творя одной рукой крестное знамение по законам Римско-католической церкви, я погружал другую руку в могилу Спиридиона, дабы напитаться духом мятежа и анализа или, по крайней мере, дабы стать этому духу защитником. Понимая вполне муки умирающего Фульгенция, я скрывал от него те муки, какие испытывал сам. Старый монах сохранял ясность ума до тех пор, пока потребность в признании боролась в его душе с сомнениями верующего. Однако лишь только он сделал выбор, как начал дряхлеть на глазах: память его ослабела, и очень скоро он, кажется, забыл все, вплоть до имени своего друга. На смертном одре он стремился в точности исполнить мельчайшие предписания Церкви, а я, оставаясь подле него, беспрестанно читал молитвы и пел псалмы. Он засыпал с четками в руках, а просыпался со словами: Miserere nobis [8] . Можно было подумать, что этими наивными мелочами он желал искупить то колоссальное усилие, какое совершил, исполняя последнюю волю своего друга. Зрелище это меня печалило. Чего же стоит целая жизнь, прожитая в покорности и ослеплении, думал я, если, дожив до восьмидесяти лет, человек обречен умирать, объятый ужасом? Как же переходят в мир иной распутники и безбожники, если святые встречают смерть, бледнея от страха и не веруя в справедливость Господнего суда?
Однажды ночью Фульгенцию стало хуже; его мучили кошмары. Он попросил меня посидеть рядом с ним и разбудить его, если он забудется сном. Ему постоянно мерещился приближающийся к его постели призрак; впрочем, спустя какое-то время он признавался, что никакого призрака не видел и те смутные и зыбкие формы, которые проплывали перед его глазами, порождены одни лишь страхом. Ночь стояла лунная, и это обстоятельство пугало Фульгенция особенно сильно. Именно в ту ночь, движимый эгоистическим любопытством, я вырвал у него признание, которое он не решался сделать прежде, и заставил его рассказать о встречах с призраком Спиридиона. Рассказ этот, однако, был весьма сбивчивым, ибо разум умирающего мутился. Мне удалось узнать только одно: призрак не являлся Фульгенцию больше пятидесяти лет, но примерно за год до начала смертельной болезни видение стало повторяться вновь. При полной луне Фульгенций просыпался и видел аббата Спиридиона. Тот сидел возле его постели, не говоря ни слова, и смотрел на ученика с видом печальным и суровым, словно упрекая его в забывчивости и напоминая ему о данном некогда обещании. Заключив из этого, что смерть близка, Фульгенций стал искать человека, которому смог бы доверить свою тайну, и понял, что выбор должен пасть на меня. Он не хотел говорить мне об этом заранее, чтобы не привлекать к нашим отношениям внимания настоятеля с присными и не подвергать меня гонениям с их стороны.
Ночь прошла спокойно; призрак не появился. На заре Фульгенций грустно покачал головой и сказал:
– Кончено; больше он не придет. Он приходил мучить меня, потому что был мною недоволен; теперь я исполнил его волю, и он меня покинул! О учитель, учитель! ведь ради вас я рисковал спасением моей души; быть может, любя вас сильнее, чем самого себя, я обрек себя на вечные муки!
Этот последний порыв любви, одолевшей страх, растрогал меня до чрезвычайности. Кто же был этот человек, который через шесть десятков лет после смерти продолжал внушать такой сильный ужас, оставаться предметом столь великой преданности и столь нежных сожалений? Фульгенций заснул и проснулся около полудня.
– Надежды нет, – сказал он, – с каждой минутой я все яснее чувствую, что жизнь оставляет меня. Возлюбленный брат мой, я хотел бы собороваться. Созови скорее братьев и скажи, что мне надобно причаститься святых тайн. Увы! – добавил он озабоченно. – Значит, я умру, так и не узнав, простила ли меня его душа! Я спал глубоким сном и не слышал его голоса. Сомнений быть не может, свою книгу он любил больше, чем меня! Я знал это и раньше! Я говорил ему, когда он еще жил среди нас: «Учитель, все ваши привязанности – от ума; сердцу вашему мы безразличны. Люди сильные не чета людям слабым. Сильные снисходят до того, чтобы просить нашей помощи, когда их дух доволен нами; мы – другое дело; одобряем мы спекуляции их ума или нет, сердце наше все равно хранит им верность».
– Не говорите так, отец Фульгенций, – воскликнул я и, охваченный невольным порывом, сжал его в своих объятиях; впрочем, я и не подумал принять на свой счет упрек, ко мне не относившийся. – Иначе вы в первый и единственный раз в своей жизни впадете в ересь. Люди, наделенные настоящей силой, способны на страстную любовь, и вы любили так сильно именно потому, что принадлежите к их числу. Не теряйте мужества в свой последний час. Если вы даже преступили законы Церкви ради того, чтобы сохранить верность дружбе, Господь простит вас, ибо для Него любовь выше ума.
– Ах! ты говоришь точно так же, как говорил наш учитель, – воскликнул Фульгенций. – За последние шестьдесят лет я впервые слышу слова, которые мне по душе. Благословляю тебя, сын мой. Повторю тебе благословение Спиридиона: «Да подарит тебе Всемогущий в старости друга верного и нежного, каким был ты для меня!»
Он соборовался, как самый набожный сын Церкви. У смертного его одра собралась вся братия. Те монахи, для которых не нашлось места в келье, преклонили колени на галерее; они вытянулись в два ряда от кельи отца Фульгенция до главной лестницы. Впереди были монахи, а за их спинами – послушники. Внезапно Фульгенций, который, казалось, впал уже в блаженное беспамятство, оживился и, привлекши меня к себе, прошептал мне на ухо: «Он пришел, он поднимается по лестнице; ступай ему навстречу». Не понимая этого приказания, но повинуясь ему с той покорностью, с какой мы обязаны исполнять волю умирающих, я тихонько вышел из кельи и, стараясь не обеспокоить молящихся монахов, устремил свой взор в сторону лестницы, которая в эту пору плавала в солнечной дымке. Внезапно глазам моим предстал человек, быстро поднимавшийся по ступеням. Походка его была разом и легка, и величава, как у человека деятельного и облеченного властью. По высокому росту и изящному облику, по развевающимся светлым волосам и старинному платью я сразу узнал его. Он был в точности такой, каким мне его не раз описывал Фульгенций. Пройдя сквозь двойной ряд молящихся монахов, которые вполголоса читали молитвы, он остался никем не замеченным, хотя я видел его так же ясно, как солнце на небе, и совершенно отчетливо слышал мерный звук его быстрых шагов.
Он вошел в келью. В ту минуту, когда он проходил мимо меня, я упал на колени. Не останавливаясь, он повернул голову и пристально посмотрел на меня. Я по-прежнему не сводил с него глаз. Он подошел к постели, взял Фульгенция за руку и сел подле него. Фульгенций не шевелился. Рука его бессильно покоилась в руке учителя; рот был полуоткрыт, взгляд мутен и неподвижен. Все то время, что звучали молитвы, призрак, не двигаясь, сидел подле умирающего. Когда же молитвы смолкли, Фульгенций внезапно сел и, судорожно сжав руку того, кто находился с ним рядом, громко выкрикнул: «Sancte Spiridion, ora pro nobis» [9] , после чего упал на постель бездыханным. В то же мгновение призрак исчез. Я огляделся, чтобы узнать, какое впечатление эта сцена произвела на остальных, однако их лица обличали такое спокойствие, что я тотчас понял: видеть призрака было дано мне одному.
Двадцать четыре часа спустя тело Фульгенция опустили в могилу; я был одним из четырех монахов, которым выпало поместить его гроб в склеп, находящийся в поперечном нефе нашей церкви. Ты, должно быть, не раз видел в центре этого нефа длинный узкий камень, украшенный странной надписью: «Hie est veritas».
– Надпись эта, – перебил я отца Алексея, – не однажды привлекала мой взор и занимала мои мысли во время молитв. Помимо воли я пытался разгадать смысл этой фразы, которая казалась мне противоположной духу христианства. Как, спрашивал я себя, может быть истина скрыта во гробе? Каких уроков могут живые ждать от праха умерших? Разве после того, как искра жизни покинет нашу бренную плоть, а душа освободится от земных уз, не к небесам должны мы обращать наши взоры?
– Теперь, – отвечал Алексей, – ты можешь понять таинственный смысл этой надписи. Спиридион, в ту пору восторженный поклонник Боссюэ, приказал художнику, рисовавшему его портрет, вложить ему в руку книгу епископа из Мо и начертать на ее переплете эти слова. Затем, когда, повинуясь своей неизменно прямой душе, он в последний раз переменил убеждения, то, дабы засвидетельствовать, что, какие бы метаморфозы ни претерпевал его ум, сердце его остается прежним, он решил сохранить этот девиз и повелел выбить его на своей надгробной плите. Благородная ревность отважного ума, который ничто не способно разлучить с его добычей и который желает покоиться в могиле вместе с открытой им истиной, как победоносный полководец – со своим военным трофеем! Монахи не поняли, что этот возглас умирающего никак не связан с учением Боссюэ; у некоторых, правда, слова эти вызвали смутные подозрения, однако почтение и страх, какие аббат продолжал внушать даже после смерти, были так велики, что никто не осмелился возвысить против его последнего желания свой святотатственный голос.
В день похорон Фульгенция плиту подняли, и мы спустились в склеп, где рядом с гробом Спиридиона было, согласно его воле, оставлено место для его друга. Дубовый гроб, который мы несли, весил очень много, ноги наши поскальзывались на крутых ступенях, братьев, помогавших мне, хилых подростков, пугала мрачная торжественность погребальной церемонии. Факел в руке монаха, шедшего первым, дрожал. Один из тех, кто нес гроб, оступился и, вскрикнув, покатился по ступенькам лестницы; крик его товарищей был ему ответом. Монах, показывавший дорогу, выронил факел, тот наполовину погас, и свет его сделался тускл и еще более мрачен. Робких юношей, вскормленных предрассудками грубой веры и заранее предубежденных против памяти аббата из-за распространявшихся в монастыре нелепых слухов, охватил ужас. По всей вероятности, они решили, что перед ними вот-вот предстанет призрак Спиридиона или что злой дух, пробужденный их криками, начнет изрыгать бледный огонь из темной могилы.
Что до меня, то я был более крепок телом и более стоек духом и потому ощутил волнение, но не испытал страха; мысль, что я приближаюсь к месту последнего упокоения великого человека, пробуждала в моей душе почтительную радость. Когда один из моих товарищей оступился и упал, я продолжал удерживать на своем плече гроб со священными останками учителя, однако после того как двое других монахов последовали примеру первого, я также не сумел устоять и рухнул вместе с гробом Фульгенция на гроб Спиридиона. Я тотчас поднялся, но, вставая, оперся рукой на свинцовый саркофаг, в котором покоился прах аббата, и был поражен тем, что вместо холодного металла ощутил тепло, казавшееся теплом жизни. Быть может, все дело в было в том, что при падении я слегка расшиб лоб и на саркофаг упали несколько капель моей собственной крови. Однако в первое мгновение я не заметил своей раны и, повинуясь странному, неизъяснимому влечению, припал губами к этому гробу с такой же страстью, как если бы прижимал к своей трепещущей груди останки родного отца. Впрочем, заметив, что в подземелье спустился еще один монах и что он, подобрав с земли факел, наблюдает за этой страшной сценой, я поспешил оторваться от саркофага.
О той ночи, что последовала за похоронами, я не могу вспоминать без смущения. Я преклонил колени на могильной плите Фульгенция, но мысли мои были заняты Спиридионом: пораженный бесстрашием его ума и чудесной силой, не иссякнувшей и через много лет после его смерти, я внезапно ощутил в себе страстное желание последовать его примеру. Юность надменна и дерзка, и дети мнят, будто им довольно протянуть руку, чтобы завладеть скипетром предшественников. Я воображал себя во всем подобным Спиридиону – настоятелем монастыря, обладателем таинственной книги, средоточием познаний и мудрости, способных перевернуть мир. Сущность доктрины Спиридиона была мне неизвестна, однако, что бы в ней ни содержалось, я принимал ее заранее, ибо знал, что она создана величайшим мыслителем своего века. Движимый этими чувствами, я был готов тотчас отправиться за книгой Спиридиона и уже начал обдумывать способы приподнять могильный камень, однако боязнь запятнать себя поступком святотатственным остановила меня, и все сомнения, внушенные религией, вновь проснулись в моей душе. Я был зачарован, измучен, напуган. Гордыня человеческая и христианское смирение сошлись в схватке, и я не знал, за кем останется победа, однако подозревал, что истребить чувство, которое за один час забрало надо мною такую власть, какую другое завоевывало в течение десяти лет, будет непросто. Внутренняя борьба эта длилась несколько дней. Наконец ум мой пришел на помощь гордыне, и вместе они победили. Вера уступила разуму, а покорство не устояло перед тщеславием.
Впрочем, я отрекся от католической веры не сразу, а по здравом размышлении. В ту пору, когда я дал уму моему право анализировать мою веру, я был еще так сильно привязан к этой обессилевшей религии, что льстил себя надеждой укрепить свои верования, переплавив их в тигле ученых штудий и серьезных раздумий. Если она рухнет от первого же натиска ума, говорил я себе, значит, она выстроена из материала чересчур ненадежного и непрочного. Закон, предписывающий разуму покорно склоняться перед таинствами и не стремиться их разгадать, был, надо думать, писан для умов слабых и беспомощных. Эти божественные таинства, по всей вероятности, суть не что иное, как возвышенные образы, смысл которых слишком обширен и слишком ужасен для умов ограниченных. Но возможно ли, чтобы Господь судил уму человеческому, Им же самим и порожденному, влачиться в потемках, имея путеводною нитью один только страх? Нет, подобное предположение оскорбительно для Господа; пророкам буква была так же внятна, как и дух. Отчего же душе, которая воспаряет над землей и жаждет вознестись к высотам мысли, не последовать примеру пророков? Чем больше тайн она раскроет, тем более твердо и мудро сможет отвечать атеистам. Ведь атеизм – дитя, которое боится себя самого, пусть даже воля его непреклонна, а цель величественна.
Вдобавок, говорил я себе, кто знает, не воздвиг ли Спиридион в своей книге памятник католицизму? Фульгенцию недостало мужества; быть может, осмелься он вступить в наследство, оставленное ему учителем, выяснилось бы, что все опасения напрасны. Быть может, обнаружилось бы, что после долгих колебаний и мучительных исканий Эброний, озарив свой разум светом нового знания, припав к неведомому прежде источнику силы, провозгласил в последнем своем сочинении победу тех самых идей, которые он в течение десяти лет подвергал всестороннему рассмотрению. Думая об этом, я вспоминал басню о крестьянине, который, желая, чтобы сыновья его работали не покладая рук, уверил их, будто на поле его зарыт клад, меж тем как истинным кладом была сама земля, нуждавшаяся, однако, в тщательной обработке. Спиридион, говорил я себе, рассуждал следующим образом: не стоит полагаться на чужие мнения, не стоит, подобно неразумным тварям, тупо следовать по пути, проложенному впереди идущими. Каждый обязан искать собственную дорогу к небу; того, чьи намерения чисты, а взор не затуманен гордыней, всякий путь приведет к истине. Вера только тогда по-настоящему действенна, когда избрана свободно, и только тогда подлинно тверда, когда удовлетворяет все потребности души и занимает все ее силы.
Итак, я решил приняться за серьезное и глубокое изучение природы Бога и человека, к книге же Эброния прибегнуть лишь в самом крайнем случае, иначе говоря, лишь если мои собственные силы окажутся недостаточны для исполнения дела столь нелегкого, если сомнения сменятся в моей душе отчаянием, а иссякшие способности не позволят мне продолжать начатый труд.
Решение это позволяло примирить потребности моего разума, которые влекли меня к постижению тайн науки, с потребностями моей души, которая оставалась по-прежнему привержена католической религии. Прежде чем утвердиться в своем намерении, я пережил множество тревог, изведал множество мук. Когда же решение было наконец принято, я в порыве радостного одушевления пожелал присягнуть своей новой философии на манер совершенно католический. Я дал обет, а именно обещал самому себе, что, какие бы жгучие сомнения ни терзали меня, какие бы блистательные прозрения меня ни осеняли, не стану прибегать к книге Эброния до тех пор, пока мне не исполнится тридцать лет. Именно столько лет было аббату Спиридиону, когда, отрекшись уже от двух предшествующих исповеданий, он страстно предался католицизму и поклялся ему в нерушимой верности. Мне было двадцать четыре года, и я полагал, что шести лет мне достанет для проникновения во все тайны и раскрытия всех загадок. Пребывая в этой уверенности, я вновь преклонил колени на могильном камне, которому в монастыре присвоили название Hic est, и там, в тишине и уединении, произнес вполголоса страшную клятву: прикоснувшись к книге Эброния прежде зимы 1766 года, я обрек бы свою душу на вечное проклятие. Памятуя о смятении, в которое приводит ум человеческий скорбная возвышенность ночных часов, я не захотел давать эту клятву во мраке ночи; я вознамерился сделать это в полдень, при ярком свете солнца. Стояла невыносимая жара; настоятель, как это случается летней порой, позволил всем обитателям монастыря предаться отдыху. Я остался в церкви совсем один; кругом царило абсолютное безмолвие; садовники прекратили работу, поэтому из сада также не доносилось ни единого звука; замолкли даже птицы, погрузившиеся в некое восторженное забытье.
Душа моя преисполнилась горделивого восторга, и я храбро вверил себя Провидению; в моем уме теснились мысли самые веселые и самые поэтические. Все предметы, по которым скользил мой взгляд, расцветали, казалось, неведомой красой. Золотые стенки дарохранительницы сверкали, как если бы на святыню снизошел божественный свет. Цветные витражи, вспыхивая от солнца и отражаясь в плитах пола, образовывали между колоннами целые мозаики из брильянтов и самоцветов. Мраморные ангелы, казалось, изнемогали от жары и от тяжести карнизов; они клонили лица долу, стремясь, подобно прекрасным птицам, спрятать прелестные головки под крыло. Мерный и таинственный ход башенных часов напоминал биение сердца, охваченного страстью, а тусклый белый свет лампады, ни на минуту не гаснущей перед алтарем, соперничал с сиянием солнца и служил мне эмблемой человеческого ума, который прикован к земле, но всякую минуту мечтает раствориться в немеркнущем свете ума божественного. Именно в это мгновение, объятый блаженством равно и умственным и физическим, я принялся произносить вполголоса слова своей клятвы. Однако при первых же моих словах дверь из сада тихонько отворилась и под сводами храма с неизъяснимой гармонией раздался звук шагов, которые я тотчас узнал, ибо ни одно человеческое существо не способно ступать таким образом. Шаги приблизились ко мне и смолкли лишь возле того места, где я преклонил колени. Исполненный почтения и радости, я возвысил голос и продолжил произносить свою клятву громко и внятно. Договорив, я обернулся, надеясь увидеть за своей спиной того, кого уже видел однажды у смертного одра Фульгенция, однако церковь была пуста. Дух явил себя лишь одному из моих чувств. По всей вероятности, я еще не был достоин вновь увидеть его. Он продолжил свое невидимое движение, и вскоре шаги его смолкли в отдалении. Тогда я пожалел о том, что не заговорил с ним. Быть может, думал я, ему не понравилось мое молчание; быть может, он ожидал от меня изъявления чувства более пылкого и не ответил мне лишь оттого, что ожидания эти остались тщетны. Тем не менее я не дерзнул последовать за ним, не осмелился просить его возвратиться; неудержимое влечение к нему смешивалось в моей душе с великим страхом. То был не ребяческий страх, какой испытывают люди слабые, сталкиваясь с явлением, нарушающим привычный ход событий и непостижимым для умов ограниченных. Эти редкие, выходящие из ряда вон случаи, какие совершенно напрасно именуют чудесными или сверхъестественными, какими бы необъяснимыми ни казались они мне по причине моего невежества, нисколько меня не страшили. Аббат был человеком столь выдающимся, что и после смерти внушал мне почти такое же безграничное почтение, с каким я бы отнесся к нему, будь он жив. Я не допускал, что некая невидимая сила наделила его правом вредить мне или меня пугать; я знал, что этот чистый дух читает в моей душе и понимает все происходящее в ней еще более ясно и глубоко, чем понял бы в ту пору, когда был еще скован узами материи. В отличие от людей пугливых и робких, которые дрогнули бы при его появлении, я боялся лишь одного – как бы он не счел, что я недостоин лицезреть его вторично. Потеряв надежду увидеть его в день моей клятвы, я опечалился и уверился в своем ничтожестве. К тому времени я уже убедил себя, что Спиридион перед смертью отринул ересь и что душа его не мучается в чистилище, но, напротив, пребывает на небесах и вкушает вечное блаженство. В его явлениях я видел знак милости Господней, небесное благословение, чудо, свершившееся ради Фульгенция и ради меня; память об этом наполняла мою душу радостью и гордостью, просить же о большем я не дерзал.








