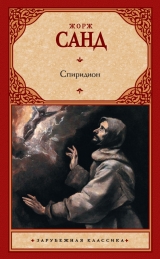
Текст книги "Спиридион"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Annotation
Самый необычный роман Жорж Санд.
Им восхищались Лермонтов и Герцен, Достоевский и русские философы-богоискатели.
До недавнего времени его ни разу не публиковали в России – ни до революции, когда он казался слишком вольнодумным, ни в советские времена, когда его считали чересчур религиозным. История поисков Бога, изложенная в романе, – вне официальных норм религии.
Она вызывает восторг – или возмущает, в зависимости от позиции читателя. Однако каждого из нас она заставляет задуматься о вечных вопросах веры и бытия…
Перевод: Вера Мильчина
Жорж Санд
От автора
Спиридион
О романе «Спиридион»
Жорж Санд
Спиридион
От автора
Я писала «Спиридиона» в картезианской обители Вальдемоза, под завывания северного ветра, гулявшего под полуразрушенными монастырскими сводами. Конечно, эти романтические места достойны лучшего поэта. Однако радости творчества, к счастью, измеряются не достоинствами творения, но чувствами творца; когда бы не заботы и тревоги, подчас весьма горькие, жизнь в келье величественного монастыря, куда меня привел случай или, скорее, нужда и отсутствие другого приюта, доставила бы мне наслаждения самые возвышенные; лучшее место для завершения этой книги, начатой в Ноане, найти было трудно.
Ноан, 25 августа 1855 года
Спиридион
Г-ну Пьеру Леру
Друг и брат по возрасту, отец и наставник по добродетели и мудрости, примите одну из моих повестей – не как труд, достойный вас, но как залог дружбы и преклонения.
Жорж Санд
Когда я поступил послушником в бенедиктинский монастырь, мне едва минуло шестнадцать лет. Поначалу мой мягкий и смирный нрав, казалось, снискал мне доверие и приязнь монахов; однако очень скоро их благожелательность сменилась холодностью, а отец казначей, единственный, кто сохранил ко мне хоть немного сочувствия, несколько раз отводил меня в сторону и шепотом внушал мне, что если я не буду более сдержан, то непременно навлеку на себя немилость настоятеля.
Напрасно пытался я добиться от него разъяснений; он прикладывал палец к губам и вместо ответа говорил с таинственным видом:
– Вы прекрасно понимаете, сын мой, что я хочу сказать.
Тщетно старался я отгадать, чем провинился. Как бы строго ни судил я свое поведение, я не находил никаких оснований для упреков. Шли недели, месяцы, а монахи по-прежнему взирали на меня с молчаливым неодобрением. Напрасно удваивал я усердие и послушание, напрасно следил за всеми своими словами, за всеми своими мыслями, напрасно был истовее всех на молитве и ревностнее всех в труде; с каждым днем окружающие отдалялись от меня все сильнее. Все друзья покинули меня. Никто со мной не разговаривал. Самые ленивые и недостойные из послушников, кажется, считали себя вправе презирать меня. А иные, проходя мимо, даже прижимали к себе полы сутаны, словно боясь коснуться прокаженного. Хотя я отвечал уроки без единой ошибки и делал большие успехи в церковном пении, лишь только мой робкий голос стихал, как в классной комнате воцарялось глубочайшее молчание. Для меня у наставников и учителей не находилось ни единого одобряющего взгляда, а между тем самые беспечные и бездарные послушники утопали в похвалах и наградах. Настоятель при виде меня отворачивался, как если бы сама мысль о моем приветствии была ему омерзительна.
Я исследовал все движения собственного сердца, я строго спрашивал себя, не вызваны ли мои страдания уколами оскорбленного самолюбия. Возможно, в чем-то я ошибался, но во всяком случае знал наверное, что сделал все возможное для подавления любых ростков тщеславия и что если сердце мое объято глубокой печалью, то причиной тому – одиночество, на которое обрекли меня окружающие, и отсутствие любви, а не недостаток забав и похвал.
Я решился искать помощи у единственного монаха, который не мог отвергнуть мои признания, – у моего духовника. Я бросился к его ногам, я поведал ему о моих муках, о стараниях заслужить участь менее горькую, о борьбе с духом роптанья и обиды, рождавшимся в моем сердце. Каково же было мое отчаяние, когда духовник отвечал мне ледяным голосом:
– До тех пор пока вы не откроете мне свое сердце с полной искренностью и совершенным смирением, я ничем не смогу вам помочь.
– О отец Эжезип! – отвечал я ему. – Сердце мое открыто вам всецело, ибо я никогда ничего от вас не скрывал.
Тогда он встал и произнес устрашающим тоном:
– Жалкий грешник! Низкая и подлая душа! Вы прекрасно знаете, что скрываете от меня страшную тайну и что совесть ваша есть бездна лжи. Но вам не обмануть Господа, не спастись от Его карающей десницы. Ступайте прочь, я не в силах более слушать ваши лицемерные песни. До тех пор пока стыд не тронет вашего сердца и вы не искупите искренним раскаянием пороки вашего ума, я отрешаю вас от исповеди.
– О отец мой! Отец мой! – воскликнул я. – Не отталкивайте меня, не предавайте во власть отчаяния, не заставляйте усомниться в милости Господней и в мудрости Его приговоров. Я невинен перед Богом; имейте жалость к моим страданиям…
– Дерзкая тварь! – вскричал он громовым голосом. – Как смеешь ты святотатствовать и призывать имя Господне в подтверждение своим лживым клятвам; прочь с моих глаз, ты, закосневший в грехе! Вид твой мне отвратителен!
С этими словами он стал вырывать из моих рук свою сутану, за край которой я схватился, моля его о пощаде. Я, однако, в некоем помрачении ума не выпускал его платья, тогда он изо всей силы оттолкнул меня, и я упал ничком. Он вышел из ризницы, где разыгралась вся эта сцена, хлопнув дверью. Я остался в потемках. Оттого ли, что я сильно ударился при падении, или оттого, что слишком велико было мое горе, но какой-то сосуд лопнул у меня в горле, и я стал харкать кровью. Подняться я не мог, силы очень скоро оставили меня, и я потерял сознание.
Не знаю, сколько времени пролежал я без чувств в луже крови. Придя в себя, я почувствовал приятную прохладу; свежий ветерок обдувал мне лицо и ерошил волосы, потом улетал и, казалось, еле слышно высвистывал под потолком какую-то неясную мелодию, а затем возвращался ко мне, словно для того, чтобы вдохнуть в меня силы и заставить подняться.
Я, однако, никак не мог решиться это сделать, ибо испытывал неизъяснимое блаженство и, пребывая в каком-то бездумном забытьи, упивался шепотом этого летнего ветерка, украдкой проникавшего в комнату сквозь решетчатые ставни. И тут мне показалось, что из глубины ризницы доносится чей-то голос; звучал он, однако, так тихо, что слова различить было невозможно. Я не шевелился и весь обратился в слух. Незнакомец, казалось, произносил одну из тех отрывистых молитв, которые мы называем «горячими». Наконец я четко различил слова: «Дух истины, спаси жертв невежества и лжи». «Отец Эжезип! – произнес я еле слышно. – Это вы вернулись за мной?» Ответа не последовало. Я приподнялся на локтях и стал прислушиваться, но больше ничего не услышал. Тогда я встал на ноги и огляделся; я упал так близко от единственной двери, ведущей в эту небольшую комнатку, что после ухода моего духовника никто не мог бы зайти сюда, не споткнувшись о мое бесчувственное тело; вдобавок дверь эта, запиравшаяся на задвижку старинной конструкции, открывалась только внутрь. Я подергал ее и убедился, что она закрыта. Несколько мгновений я стоял, не решаясь тронуться с места. Прислонившись к двери, я всматривался в полумрак, царивший в углах комнаты. Из слухового окошка, закрытого дубовым ставнем, на середину комнаты падал бледный солнечный луч. Ветерок, терзавший ставень, то раскрывал его пошире, то почти совсем захлопывал, лишая комнату даже и этого слабого источника света. В этой полуосвещенной части ризницы я разглядел скамеечку для молитвы, украшенную изображением черепа, несколько разбросанных на полу книг и висящий на стене белый стихарь; все они, казалось, колыхались вместе с тенью листвы за окном, которую колебал ветер. Удостоверившись, что, кроме меня, в ризнице никого нет, я устыдился своей робости; осенив себя крестом, я собрался было полностью открыть ставень, как вдруг глубокий вздох, раздавшийся с той стороны, где стояла скамеечка для молитвы, пригвоздил меня к полу. Ведь я достаточно хорошо различал эту скамеечку, чтобы сказать с уверенностью, что она пуста. Тут мне в голову наконец пришла успокоительная мысль: я решил, что кто-то стоит в саду рядом с окном и молится, не подозревая, что я его слышу. Но какой же смельчак мог высказывать пожелания столь дерзновенные?
Любопытство, единственная страсть и единственное развлечение, дозволенные в монастыре, овладело мною. Я направился к окну, однако лишь только я сделал шаг, как черная тень, отделившаяся, как мне показалось, от скамеечки для молитвы, метнулась в том же направлении. Тень эта, которую я принял за человеческое тело, промелькнула передо мной, как молния, и движение ее было столь стремительным, что я даже не успел посторониться и едва не лишился чувств вторично, на сей раз от ужаса. Однако я ровным счетом ничего не почувствовал; впору было подумать, что я в самом деле имел дело с тенью, которая пролетела сквозь меня, а затем исчезла где-то в левом углу.
Я подбежал к окну, поскорее открыл ставни и осмотрел ризницу; кроме меня, в ней никого не было; я осмотрел сад; он был пуст, и только цветы покачивались под дуновением полуденного ветра. Постепенно ко мне возвратилось мужество, я осмотрел все углы ризницы, заглянул – поскольку она была немалых размеров – за скамеечку для молитвы, встряхнул священнические одежды, развешанные на стенах; ни в чем не было ничего необычного, ни в чем не мог я найти объяснения случившемуся. Увидев, сколько я потерял крови, я решил, что ослабел и стал жертвой галлюцинации. Я удалился в свою келью и не покидал ее до следующего утра.
День и ночь я провел в слезах. Истощение, потеря крови, пустые страхи, пережитые в ризнице, – от всего этого я чувствовал себя совершенно разбитым. Никто не пришел меня поддержать и утешить, никто не поинтересовался, что со мною сталось. Из окошка я увидел, как в сад высыпала толпа послушников. Сторожевые псы, охранявшие монастырь, весело бросились навстречу людям, и послушники принялись их ласкать. Сердце мое сжалось при виде этих животных, с которыми люди обращались во сто крат лучше, чем со мной, и которые были во сто крат счастливее меня.
Я так свято верил в свое призвание, что даже не помышлял о бунте или бегстве. В своем одиночестве, во всех унижениях и несправедливостях, какие выпали мне на долю, я видел испытание, посланное мне небесами, и возможность заслужить их одобрение. Я молился, клялся в своей покорности, бил себя в грудь, вверял себя покровительству Господа и всех святых. И к утру забылся сладким сном. Разбудило меня странное видение. Мне привиделся отец Алексей: грубо тряся меня за плечо, он повторил мне почти те же слова, которые произнесло таинственное существо в ризнице: «Вставай, жертва невежества и лжи!»
Но какое отношение мог иметь отец Алексей к этим словам? Этого я понять не мог. Все дело в том, решил я, что сцена в ризнице постоянно занимает мои мысли, вот я и приписал услышанные там слова отцу Алексею, который – я мог видеть это из окна своей кельи – за час до рассвета, как раз когда на небе гасла луна, возвратился в монастырь из сада.
Столь ранняя прогулка отца Алексея ничуть меня не удивила. Отец Алексей был самым образованным из наших монахов: он прекрасно разбирался в астрономии и умел обращаться с многочисленными измерительными инструментами и физическими приборами из монастырской обсерватории. По ночам он проводил опыты и наблюдал за светилами; он жил по своему собственному расписанию и был освобожден от обязанности посещать заутреню и службу после заутрени. Но раз уж отец Алексей явился мне во сне, я задумался о нем и сообразил, что он человек загадочный, вечно чем-то озабочен, часто произносит непонятные фразы, бродит по монастырю как неприкаянный – одним словом, решил я, очень возможно, что именно отец Алексей стоял подле окошка ризницы, именно он пробормотал поразившие меня слова и именно его тень промелькнула по стене, испугав меня, о чем сам отец Алексей и не подозревал. Я замыслил поговорить с ним об этом и, пытаясь предугадать, как он воспримет мои расспросы, обрадовался поводу свести с ним знакомство. Я вспомнил, что этот мрачный старец был единственным, кто ни разу не оскорбил меня ни словом, ни взглядом, единственным, кто ни разу не отвернулся от меня с омерзением, и вообще единственным, кто вовсе не считал для себя обязательными решения, принятые монастырской общиной. Правда, я никогда не слышал от него и ласкового слова, никогда не встречался с ним глазами; похоже, что он вообще не помнил о моем существовании, однако с тем же безразличием взирал он и на других послушников. Он жил в собственном мире, погруженный в мысли о науке. Никто не знал, как он относится к религии; он обсуждал только мир внешний и видимый и, кажется, очень мало заботился о мире ином. Никто не говорил о нем ни плохо, ни хорошо, если же послушники позволяли себе отпустить на его счет какое-нибудь замечание или задать какой-нибудь вопрос, монахи самым суровым тоном советовали им замолчать.
Быть может, подумал я, узнав о моих мучениях, он даст мне добрый совет; быть может, он, чья жизнь так же одинока и печальна, не останется равнодушен к послушнику, который впервые за долгие годы явился к нему с просьбой о помощи. Несчастные тянутся друг к другу и друг друга понимают. Быть может, он тоже несчастен; быть может, он посочувствует мне. Прежде чем отправиться к отцу Алексею, я зашел в трапезную. Один из послушников резал хлеб; я сказал ему, что голоден, и он швырнул мне ломоть хлеба, как швырнул бы его бродячей собаке. Я предпочел бы любые оскорбления этой молчаливой и грубой снисходительности. Меня считали недостойным человеческого слова и бросали мне пищу на землю, уравнивая меня, отверженного, с животными.
Съев этот горький хлеб, смоченный моими слезами, я направился в келью отца Алексея. Располагалась она вдали от всех остальных, на самом верхнем этаже, рядом с астрономической лабораторией. Чтобы попасть туда, нужно было пройти по узкому балкону, опоясывающему купол собора. Я постучал в дверь; никто не ответил; я вошел. Отец Алексей спал в кресле с книгой в руке. Во сне он имел вид столь мрачный и задумчивый, что я едва не отказался от своего намерения. Отец Алексей был старик среднего роста, крепкий, широкоплечий, согбенный не столько под тяжестью лет, сколько под грузом познаний. Лысый его череп окаймляли сзади завитки темных волос. Волевое лицо было, однако, не лишено известной тонкости и отличалось непостижимым смешением дряхлости и мощи. Я постарался пройти мимо его кресла бесшумно, боясь разбудить спящего и тем рассердить; однако, несмотря на все предосторожности, он заметил мое присутствие и, не поднимая отяжелевшей головы, не открывая впалых глаз, не выказывая ни раздражения, ни удивления, произнес:
– Я тебя слышу.
– Отец Алексей… – робко начал я.
– Почему ты зовешь меня отцом? – спросил он, не меняя ни позы, ни тона. – Обычно ты обращаешься ко мне иначе. Я тебе не отец, а скорее сын, хотя меня иссушили годы, а ты – ты вечно молод, вечно прекрасен!
Эти странные речи смутили меня. Я хранил молчание. Монах продолжал:
– Ну что же, говори, я тебя слушаю. Ты знаешь, что я люблю тебя, как сына, которого произвел на свет, как отца, который дал мне жизнь, как солнце, которое меня освещает, как воздух, которым я дышу, и даже больше, чем все это, вместе взятое.
– О отец Алексей! – воскликнул я, изумленный и растроганный столь ласковыми словами, слетевшими с уст столь суровых. – Ваши нежные речи относятся не ко мне. Я слишком жалок и недостоин такой любви, нет на свете существа, кому бы я сумел ее внушить; но раз уж я пришел к вам в ту минуту, когда вы видите счастливый сон, раз память о друге согревает вашу душу, молю вас, добрый отец Алексей, не оставьте меня вашей благосклонностью и по пробуждении взгляните на меня без гнева: я смиренно склоняю перед вами голову, посыпанную пеплом в знак горя и раскаяния.
С этими словами я опустился на колени перед отцом Алексеем, ожидая, что он бросит на меня взгляд. Однако не успел он увидеть меня, как вскочил, объятый разом яростью и ужасом. Глаза его сверкали гневом, по безволосым вискам струился холодный пот.
– Кто вы такой? – воскликнул он. – Что вам нужно от меня? Что вы здесь делаете? Я вас не знаю!
Тщетно я пытался успокоить его своей смиренной позой и молящим взором.
– Вы послушник, – сказал он, – а я с послушниками дела не имею. Я не духовник, не раздатчик милостей и поблажек. Зачем вы явились шпионить за мной во время моего сна? Проникнуть в мои мысли вам не удастся. Ступайте назад к тем, кто вас послал, скажите им, что мне недолго осталось жить и что я прошу напоследок оставить меня в покое. Ступайте, ступайте прочь; у меня много дел. В мою лабораторию посторонним вход воспрещен; отчего вы нарушили запрет? Вы подвергаете опасности свою жизнь и мою тоже; ступайте прочь!
Я печально повиновался и медленным шагом, объятый отчаянием, полуживой от горя, пошел назад. Отец Алексей проводил меня до конца внешней галереи, словно желая удостовериться, что я в самом деле ухожу. Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей вниз, я обернулся и увидел, что он следит за мной: в глазах его по-прежнему сверкала ярость, губы кривились в недоверчивой усмешке. Властным жестом он приказал мне удалиться поскорее. Я попытался исполнить приказание, но у меня не было сил идти, не было сил жить. Потеряв равновесие, я упал и покатился вниз по лестнице; еще немного, и я перевалился бы через перила и рухнул с самого верха на мощенный камнями монастырский двор. С кошачьим проворством отец Алексей бросился ко мне, с силой схватил меня за плечи и, прижав к себе, спросил резко, но участливо:
– Да что с вами такое? Вы больны, отчаялись, лишились разума?
Я пробормотал что-то невнятное и, спрятав голову у него на груди, разрыдался. Тогда он взял меня на руки, словно младенца, отнес к себе в келью, усадил в свое кресло, растер мне виски спиртом, а потом смочил им же ноздри и похолодевшие губы. Затем, увидев, что я постепенно прихожу в себя, он принялся осторожно меня расспрашивать. Я открыл ему всю душу: рассказал о тревогах, с которыми мне приходится сражаться в одиночку, ибо мне отказывают не только в помощи и сочувствии, но даже в праве исповедаться. Я уверял его в моей невинности, добрых намерениях и терпеливости, я горько жаловался на тяжесть выпавших на мою долю испытаний и отсутствие хотя бы одного друга, способного утешить меня и укрепить мои силы.
Поначалу он слушал меня с прежним страхом и недоверием, но постепенно его суровое чело просветлело, а когда я закончил рассказ о своих злоключениях, крупные слезы покатились по его впалым щекам.
– Бедное дитя! – сказал он. – Точно так же они мучили и меня! О несчастная жертва, жертва невежества и лжи!
Те же самые слова я слышал в ризнице; мне показалось, что я узнал голос, их произнесший, и, довольный тем, что разгадал эту загадку, я не стал рассказывать новому другу о том, что пережил давеча; однако смысл этого восклицания поразил меня, и, видя, что отец Алексей глубоко погрузился в собственные размышления, я попросил его еще немного поговорить со мной: среди моих бедствий мне было так сладко слышать голос дружеский и сочувственный.
– Юноша, – сказал он, – понимали ли вы, что делаете, когда уходили в монастырь? Отдавали ли вы себе отчет в том, что сделаться монахом – значит смолоду заживо похоронить себя, обвенчаться со смертью?
– О отец мой, – отвечал я ему, – я это понял, я отдавал себе в этом отчет, я этого хотел и хочу до сих пор; но я хотел умереть для жизни мирской, жизни светской, жизни плотской…
– И ты поверил, дитя, что тебе оставят жизнь духовную? Ты, предавший себя в руки монахов, мог в это поверить?
– Я хотел возродить свою душу, хотел возвысить и очистить свой дух, дабы жить Богом и в Боге; и вот, вместо того, чтобы приветить меня и протянуть мне руку помощи, меня безжалостно разлучают с Господом и ввергают во тьму сомнения и отчаяния…
– «Gustans gustavi paululum mellis, et ecce morior!» [1] – мрачно произнес монах; усевшись на свою постель, он скрестил худые руки на груди и погрузился в размышления.
Через некоторое время он встал и принялся мерить келью быстрыми шагами.
– Как ваше имя? – спросил он.
– Брат Анжель, готовый славить Господа и чтить вас, – отвечал я.
Он, однако, не слушая моего ответа, промолвил, помолчав несколько мгновений:
– Вы совершили ошибку; если вы желаете быть монахом, если желаете жить в монастыре, вам нужно отказаться от вашего образа мыслей; иначе вы погибнете.
–Неужели мне в самом деле суждено умереть из-за того, что я однажды вкусил благодати, что я уверовал, проникся надеждой, воззвал к Господу и молил у Него любви?
– Да, из-за этого ты погибнешь! – громко и свирепо вскричал монах, а затем вновь предался своим грезам, не обращая на меня ни малейшего внимания. Мне сделалось не по себе; отрывистые слова, срывавшиеся с уст отца Алексея, его грубость и раздражительность, всплески чувствительности, сменявшиеся глубочайшим безразличием, – все в нем обличало умственное расстройство. Внезапно он повелительным тоном повторил давешний вопрос:
– Ваше имя?
– Анжель, – отвечал я кротко.
– Анжель! – повторил он, глядя на меня с видом человека, на которого снизошло вдохновение. – Мне было сказано: «К скончанию дней твоих ниспошлют тебе ангела, и узнаешь ты его по стреле, пронзившей его сердце. Придет он к тебе и попросит: «Извлеки стрелу из сердца, ибо причиняет она муку смертную». И если извлечешь ты эту стрелу, тотчас отпадет та, коя мучает тебя, и затянется рана твоя, и будешь жив».
– Отец мой, – сказал я, – эти слова мне незнакомы, я нигде их не читал.
– Все дело в том, что ты еще очень мало знаешь, – отвечал он, ласково погладив меня по голове, – все дело в том, что ты еще не встретил человека, способного исцелить твою рану; а я умею понимать речи Духаи знаю тебя. Ты тот, кто должен был явиться мне; теперь я узнаю тебя; волосы твои светлы, как у того, кто тебя послал. Сын мой, будь благословен, и пусть исполнишься ты волею Духа…Ты сын мой возлюбленный, и тебе отдам я всю свою любовь.
Он прижал меня к своей груди и поднял очи горе; лицо его приняло выражение донельзя возвышенное. Мне доводилось видеть такое выражение лишь у святых и апостолов на фресках в монастырской церкви. То, в чем я прежде подозревал умственное расстройство, теперь обернулось в моих глазах вдохновением. Мне показалось, что передо мной архангел, и я пал перед ним на колени, а затем простерся ниц.
Он возложил руки мне на голову со словами:
– Страданиям твоим настал конец! Да прекратит острие боли терзать твою душу; да прекратит ядовитое жало несправедливости и гонений впиваться в твою грудь; да прекратит кровь твоего сердца орошать бесчувственный мрамор. Утешься и исцелись, будь силен и благословен. Встань!
Я встал; душу мое залило такое безмерное счастье, ум мой укрепился столь безграничной надеждой, что я вскричал:
– Да, свершилось чудо, и теперь я признаю, что вы святой перед Господом.
– Не говори так, дитя мое, о человеке слабом и несчастном, – отвечал он печально, – я всего лишь невежественное и ограниченное существо, к которому Духв милосердии своем порой выказывает снисхождение. Восславим его, ибо ныне он дал мне силу исцелить тебя. Ступай с миром; будь осторожен, никто не должен видеть, как мы разговариваем, никто не должен догадываться, что ты бываешь у меня.
– Не гоните меня так скоро, отец мой, – попросил я, – кто знает, когда я смогу вернуться? Послушников, которые приближаются к вашей лаборатории, карают так сурово, что я, возможно, еще очень долго не смогу вновь насладиться беседой с вами.
– Мне надобно покинуть тебя и размыслить, –отвечал отец Алексей. – Может случиться так, что за доброе отношение ко мне тебя станут преследовать; но Духдаст тебе силы преодолеть все препятствия, ибо он предсказал мне твое появление, а что сказано,должно сбыться.
Он снова сел в кресло и погрузился в глубокий сон. Долго я любовался его лицом, исполненным покоя и сверхъестественной красоты; теперь оно казалось мне совсем не таким, каким предстало вначале. Наконец, поцеловав край его серой сутаны, я тихонько вышел из кельи.
Присутствие отца Алексея производило на меня действие поистине колдовское; когда же я расстался с ним и чары рассеялись, все случившееся начало казаться мне сном. Какими же словами пленил он меня, такого набожного, такого правоверного в мыслях и делах, меня, содрогающегося от ужаса и отвращения при одном только упоминании о ереси? Каким заклинанием заставил меня встать на путь тайный, обречь себя судьбе неведомой? Алексей вселил в меня мятежный дух, восстановил меня против моих наставников, людей, которых я был обязан считать и всегда считал безупречными. Он говорил мне о них с глубоким презрением, с еле сдерживаемой ненавистью, а я поддался его темному красноречию. Теперь память моя подсказывала мне все то, что должно было заставить меня усомниться в вере Алексея, и я с ужасом вспоминал, как он на каждом шагу поминал и призывал Духа,ни разу не прибавив к этому имени священный эпитет, каким обозначаем мы третье лицо святой Троицы. Быть может, он возложил руки на мою голову от имени духа зла. Быть может, принимая ласки и утешения от этого подозрительного монаха, я заключил союз с духами тьмы. Я пребывал в смятении, в тревоге; за ночь я не сомкнул глаз ни на минуту. Как и прошлой ночью, заснул я только под утро и проснулся поздно. Со стыдом поняв, как давно не исполнял я долг благочестия, я направился в церковь и вознес к Святому Духу пламенную молитву, прося его просветить меня и избавить от лукавого.
Молитва ничуть не укрепила меня, а печаль лишь сильнее завладела моим сердцем, так что из церкви я вышел, пребывая в твердой уверенности, что вот-вот погублю свою душу, и решил исповедаться. Я написал записку отцу Эжезипу, умоляя выслушать меня; он отказался, передав мне свое мнение на словах через одного из самых грубых послушников, и притом в выражениях донельзя пренебрежительных. В то же самое время от послушника этого я узнал, что настоятель запрещает появляться в церкви прежде окончания вечерней службы. Более того, если кто-нибудь из монахов задержится на молитве в хоре [2] или пожелает исполнить какой-либо обет, мне надлежало немедленно избавить Божий храм от своего нечистого присутствия, дабы место мое занял истинный служитель Божий.
Этот несправедливый приговор так больно ранил меня, что мною овладела безрассудная ярость. Как одержимый, принялся я колотить кулаком по стенам храма. Послушник вытолкал меня вон из церкви, браня богохульником и святотатцем.
Выходя из хора в сад, я от горя и гнева вновь едва не лишился чувств. Какая-то пелена поплыла у меня перед глазами, я покачнулся, однако гордость придала мне сил; я устремился в сад и на пороге едва не столкнулся с внезапно возникшим передо мной незнакомцем. То был юноша изумительный красоты, одетый на иностранный манер. Он, правда, был облачен такую же черную сутану, как и настоятели нашего ордена, но поверх нее имел жакет из тонкого сукна, перетянутый кожаным поясом с серебряной пряжкой, вроде тех, какие носили в старину немецкие студенты. Обут он был вместо монашеских сандалий в плотно облегающие ногу ботинки, также напоминавшие обувь немецких школяров; на отложной воротник его белоснежной рубашки падали светлые кудри – прекраснейшие из всех, какие мне довелось видеть. Почтение и робость боролись в моей душе, и потому я поклонился нерешительно и неловко. Он не поклонился мне вовсе, но улыбнулся так доброжелательно, а прекрасные голубые глаза, прежде столь строгие, так явственно смягчились при виде меня и глянули на меня с такой добротой и таким сочувствием, что черты его навеки врезались мне в память. Я остановился, надеясь, что он заговорит со мной, и не сомневаясь, что человек столь величественной внешности сумеет стать мне защитником; однако послушник, шедший за мной следом и, кажется, не обративший на незнакомца никакого внимания, вынудил его отступить к стене, а меня толкнул так грубо, что я едва не упал. Не желая вступать в борьбу с этим подлым хамом, я поспешил выйти в сад, но, сделав несколько шагов, обернулся и увидел, что незнакомец стоит на прежнем месте и провожает меня взглядом сочувственным и заботливым. Кудри его сияли в солнечных лучах. Он вздохнул и, подняв прекрасные глаза к небесам, словно для того, чтобы заступиться за меня перед вечным судией и поведать ему о моих несчастьях, медленно повернулся к храму, вошел внутрь и растворился во тьме – ибо день стоял такой солнечный, что внутренность храма казалась темной. Несмотря на запрет, мне хотелось воротиться в храм, подойти к благородному чужестранцу и рассказать ему о моих бедах; но был ли он расположен знать о них и мог ли положить им конец? Вдобавок, хотя душа моя влеклась к нему, он внушал мне некий страх, ибо в лице его было ничуть не меньше суровости, чем доброты.
Я поднялся к отцу Алексею и рассказал ему о постигших меня новых гонениях.
– Отчего же вы поддались сомнениям, о маловер? – грустно спросил он. – Вы зоветесь Анжель, а сами, вместо того чтобы прислушаться к духу жизни, который трепещет внутри вас, вознамерились пасть к ногам человека невежественного, стали просить жизни у трупа! Безграмотный духовник отталкивает вас и унижает. Вы наказаны по грехам вашим, причем в мученичестве вашем нет ни благородства, ни пользы, ибо вы приносите все силы вашего разума в жертву идеям ложным или скудным. Впрочем, я предвидел все это; вы боитесь меня, вы не знаете, слуга ли я ангелов или раб демонов. Всю ночь вы обдумывали мои слова, а утром решили выдать меня моим врагам в обмен на отпущение грехов.
– О нет, не думайте так обо мне! – воскликнул я. – Я говорил бы только о себе самом и не произнес бы вашего имени. Увы! неужели и вы тоже будете ко мне несправедливы? Неужели мне суждено быть отверженным всегда и везде? Доступ в храм Господень для меня закрыт, неужели так же закроется для меня и ваше сердце? Отец Эжезип обвиняет меня в безбожии; а вы, отец мой, обвиняете меня в трусости и низости!
– Я обвиняю вас, потому что вы в самом деле вели себя трусливо и низко, – отвечал отец Алексей. – Могущество монахов смущает вас, ненависть их вас пугает. Вы завидуете их ничтожным любимчикам. Вы не умеете жить в одиночестве, страдать в одиночестве, любить в одиночестве.








