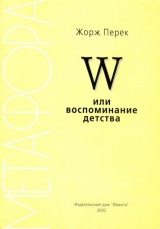
Текст книги "W или воспоминание детства"
Автор книги: Жорж Перек
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
XXIX
Наступило Освобождение; у меня не осталось никаких впечатлений ни от его перипетий, ни даже от приступов энтузиазма, которые его сопровождали и за ним следовали, и к которым, более, чем вероятно, я был причастен. Я вернулся с бабушкой в Виллар и прожил вместе с ней несколько месяцев в крохотной комнатке, которую она занимала в старой части города.
С началом учебного года я пошёл в муниципальную школу, и именно этот школьный год (возможно, «второй год начальной школы», во всяком случае, эквивалент восьмого[12]12
…эквивалент восьмого класса – нумерация классов во французской школе идёт по убывающей.
[Закрыть] класса) по сей день является отправной точкой моей хронологии: восемь лет, восьмой класс (как любой другой ребёнок, начавший ходить в школу в нормальных условиях), что-то вроде нулевого года, которому предшествовало неизвестно что (когда же я научился читать, писать, считать?), но из которого я могу машинально вывести всё, что за ним следовало: 1945 год, улица Бош, конкурс на стипендию, с которым связана моя непреходящая неприязнь к дробям[13]13
…неприязнь к дробям – слово fraction (дробь) имеет и другие значения: например фракция (парламентская; партийная) или подразделение (воен.).
[Закрыть] (как их сокращать); 1946 – лицей Клод-Бернар, 6-ой класс, латынь; 1948 – греческий; 1949 – колледж Жоффруа-Сент-Илэр, в Этамп, я остаюсь в 4-ом классе на второй год, бросаю греческий, выбираю немецкий и т. д.).
Я практически не помню школу, не считая того, что она была местом яростной торговли американскими значками (самыми ходовыми были круглая бляха из жёлтого металла с рельефными инициалами US и подобие медали с изображением двух перекрещённых ружей) и платками из парашютного шёлка. Помню, что одного моего одноклассника звали Филиппом Гардом (об этом я уже рассказывал), и от него я узнал, что, похоже, в этом классе учился ещё и Луи Аргу-Пюи.
Вероятно, именно в эту зиму, я в первый и последний раз в своей жизни скатился, как в настоящем бобслее, по большому спуску вдоль дороги, идущей от Изморози к центру Виллара. До конца мы не докатились: примерно на середине спуска, на уровне фермы де Гард, когда вся команда (в санях нас было семь или восемь человек; сани были помятые и ржавые, но впечатляли своими размерами) наклонилась, чтобы вписаться в вираж, вправо, я наклонился влево, и мы, после падения с высоты в несколько метров (к счастью смягчённого толстым слоем снега), очутились в овраге, подходившем в этом месте к дороге. Не знаю, действительно ли я пережил это происшествие или, как это уже случалось при других обстоятельствах, выдумал его или позаимствовал, но, в любом случае, оно остаётся для меня одним из любимых примеров моей «нарушенной леворукости»: похоже, я и впрямь был левшой от рождения; в школе меня заставляли писать правой рукой; это выразилось не в заикании (кажется, нередком явлении), а в лёгком наклоне головы влево (заметным ещё несколько лет назад), но более всего в почти хронической и до сих пор устойчивой неспособности не только отличить левое от правого (ей я обязан своим провалом на экзамене по вождению: инструктор попросил меня повернуть направо, и я чуть не врезался в грузовик слева; это сказывается и на моей репутации посредственного гребца: я не понимаю, каким веслом надо грести, чтобы, допустим, повернуть лодку налево), но также акцент грав от акцента эгю[14]14
…акцент грав от акцента эгю – надстрочные знаки, ставящиеся над гласными для указания их характера: accent aigu (é) – досл, острое или высокое ударение, accent grave (è) – досл, тупое, тяжёлое, низкое.
[Закрыть], вогнутое от выпуклого, знак «больше» (>) от знака «меньше» (<), да и вообще различать все формулировки, с тем или иным основанием использующие латеральность и/или дихотомию (гипербола/парабола, числитель/знаменатель, афферентный/эфферентный, делимое/делитель, каудальный/ростральный, метафора/метонимия, парадигма/синтагма, шизофрения/паранойя, Капулетти/Монтекки, виги/тори, гвельфы/гибелины и т. д.); это объясняет и мою склонность к мнемотехническим приёмам, служат ли они для того, чтобы различать левый борт и правый борт, думая о батарее[15]15
…левый борт и правый борт, думая о батарее – bâbord и tribord > batterie.
[Закрыть], правую сторону и левую сторону сцены, думая о Иисусе Христе[16]16
…правую сторону и левую сторону сцены, думая об Иисусе Христе – cour и jardin > Jesus-Christ.
[Закрыть], вогнутое и выпуклое, представляя себе погреб[17]17
…вогнутое и выпуклое, представляя себе погреб – concave – вогнутое > cave – погреб.
[Закрыть], или, более обобщённо, запоминать число Пи (как я хочу и люблю повторять то нужное число для умных…), римских императоров (ЦезАвТиКа, КлавНеГаЛо, ВиВесТиДо, НерТраАдАн, МарКо) или простое орфографическое правило (акцент сирконфлекс с вершины падает в пропасть[18]18
…акцент сирконфлекс с вершины падает в пропасть – надстрочный знак (^), ставящийся над гласными в данном случае из двух слов cime (верхушка, вершина) и abîme (пропасть) отмечает только второе.
[Закрыть]).
Довольно скоро моя бабушка и моя тётя Эстер вернулись в Париж. Я поехал жить к тёте Берте, золовке Эстер; у неё был пятнадцатилетний сын Анри, и она жила в доме, находившемся в нижней части Виллара, около катка и короткой лыжни, которую называли, по-моему, «Купальни» (была и вторая, «Колокольчики», и третья, «Отметка 2000», намного труднее и намного длиннее). Кажется, дом был большой; что-то вроде шале с большим деревянным балконом. У меня была хорошая комната с кроватью посередине. Как-то я заболел, и вместо лекарства Берта поила меня отваром из вишнёвых черенков, который мне очень не нравился. В другой раз она ставила мне на спину банки, и эта операция остаётся запутанно связанной с регулярными кулинарными занятиями Берты: она вырезала с помощью стакана и в строгом порядке, чтобы экономнее использовать тесто, маленькие кружки, которые раскладывала потом на промасленный противень, его отправляла в печь, и кружки превращались в песочные пирожные или, после ещё более деликатных манипуляций – в маленькие рогалики с начинкой.
XXX
Ребёнок W почти ничего не знает о мире, в котором будет жить. Первые четырнадцать лет жизни ему позволяли, так сказать, вести себя по своему усмотрению и не старались внушать ни одну из традиционных ценностей общества W. Ему не прививали любви к Спорту, его не убеждали в необходимости усилий, его не подчиняли жёстким законам соревнования. Он – дитя среди детей. Никто не воспитывал в нём желание обогнать, перегнать других; его естественные потребности удовлетворялись; никто не противостоял ему, никто не возводил перед ним стену порядка, логики, Закона..
Все дети W воспитываются вместе; первые месяцы матери держат их рядом с собой, в обволакивающем тепле яслей, установленных в гинекеях. Затем их отправляют в Дом Детей. Это длинное одноэтажное здание с широкими окнами, в стороне от Крепости, посреди большого парка. Внутри – огромный зал без перегородок, одновременно спальня, игровая комната и столовая; в одном конце – кухни, в другом – душевые и туалеты. Мальчики и девочки растут здесь бок о бок, в полнейшей и счастливой тесноте. Их может быть до трёх тысяч, пятьсот девочек и две тысячи пятьсот мальчиков, но и неполного десятка воспитателей обоих полов вполне достаточно, чтобы надзирать за ними. Слово «надзирать» здесь, впрочем, не годится. Дети не подлежат никакому надзору; нельзя даже сказать, что они существуют в каких-то рамках; взрослые не исполняют никаких педагогических функций, даже если иногда им приходится давать советы и что-то объяснять; их главная задача – соблюдение санитарного порядка: медицинский контроль, диагностика, профилактика, простейшие хирургические операции: аденоиды, миндалины, аппендицит, вправление и т. д. Самые старшие из детей, подростки тринадцати-четырнадцати лет, заботятся о самых маленьких, учат их убирать постель, стирать бельё, готовить пищу и т. д. Каждый самостоятельно выбирает себе распорядок дня, занятия и игры.
О том, что происходит в деревнях и на стадионах, они имеют самое смутное, почти целиком выдуманное представление. Их владение огромно, его границы заросли колючим кустарником, и дети даже не подозревают, что непреодолимые препятствия – рвы, заграждения под электрическим током, минные поля – отделяют их от взрослого мира. Порой они слышат вдали крики, взрывы, звуки труб, они видят, как в небе пролетают тысячи разноцветных воздушных шаров или торжественно выпущенные голуби. Они знают, что это отголоски грандиозных праздников, на которые они однажды будут допущены. Иногда они подражают им радостными массовыми фарандолами, или же ночами, потрясая горящими факелами, устраивают безумные кавалькады и, запыхавшись, опьянев от счастья, падают вперемешку друг на друга.
Дети навсегда покидают свой Дом на пятнадцатом году жизни; девочек отправляют в гинекеи, откуда они будут выходить лишь по случаю Атлантиад, мальчиков – в деревню, где они станут атлетами.
Нередко у подростка складывается волшебное представление о мире, который его ожидает: грусть, которую он, возможно, испытывает при расставании со своими товарищами, развеивается от уверенности, что вскоре он снова их увидит, и он с радостным нетерпением, а то и с воодушевлением садится в прилетевший за ним вертолёт.
Не менее трёх лет приписанный к какой-либо деревне ребёнок будет оставаться в ней новобранцем, прежде чем станет её Атлетом. Он будет участвовать в утренних тренировках, но не в чемпионатах. Первые шесть месяцев он проведёт в наручниках, в колодках, прикованный по ночам к кровати, иногда и с кляпом во рту. Это так называемый Карантин, и можно без всякого преувеличения сказать, что это самый тяжёлый период в жизни Спортсмена W, а всё последующее – унижения, оскорбления, несправедливость, побои – почти ничто; его невозможно сравнить с этими первыми часами, этими первыми минутами. Знакомство с жизнью W и впрямь ужасающее зрелище. Новобранец пробегает Стадионы, тренировочные лагеря, гаревые дорожки, казарменные проходы; пока ещё он – спокойный и доверчивый подросток, для которого жизнь перемешана с братским теплом тысячи его товарищей, и всё, что ассоциировалось для него с образами пышных празднеств, – крики, триумфальная музыка, взлёт белых птиц – предстаёт перед ним в невыносимом свете. Потом он увидит, как возвращается когорта серых от усталости и шатающихся под тяжестью дубовых колодок побеждённых Атлетов; он увидит, как, открывая рты и издавая хрипы, они внезапно валятся с ног; он увидит, как чуть позднее они бьются, разрывая друг друга на части, за кусок колбасы, за глоток воды, за затяжку сигареты. На заре он увидит, как, напичканные свиным салом и накачанные скверным алкоголем, возвращаются и падают в свою блевотину Победители.
Так пройдёт его первый день. Так же пройдут и следующие. Сначала, он ничего не поймёт. Старшие новички попробуют ему объяснить, рассказать, что происходит, как происходит, что нужно делать и чего не нужно делать, но скорее всего у них ничего не получится. Как объяснить, почему то, что ему открывается, есть не что-то чудовищное и кошмарное, отчего он внезапно проснётся и что сумеет отогнать от себя; как объяснить, почему это и есть жизнь, реальная жизнь, почему каждый день будет именно это, почему существует именно это и ничто другое, почему бесполезно верить, что существует что-то другое, делать вид, что веришь в другое, почему даже не стоит пытаться это скрыть или приукрасить, почему даже не стоит делать вид, что веришь во что-то, что было бы за этим, под этим, над этим? Есть это, и это всё. Есть ежедневные соревнования, есть Победы, есть поражения. Чтобы жить, надо сражаться. Выбора нет. Другой альтернативы нет. Невозможно закрыть глаза, невозможно отказаться. Не от кого ждать помощи, жалости, спасения. Невозможно даже надеяться, что время это уладит. Есть это, есть то, что он видел; порой, это будет менее страшно, чем то, что он видел, а порой, это будет ещё страшнее, чем то, что он видел. Но куда бы он ни обратил свой взор, он увидит это и ничто другое, и только это будет настоящим и истинным.
И всё же даже самые старые Атлеты, даже впавшие в детство ветераны, которые корчат из себя клоунов на дорожке между двумя состязаниями и которых веселящаяся толпа забрасывает гнилыми огрызками, даже они продолжают верить, что есть что-то другое, что небо может быть голубым, суп вкусным, Закон мягким, верят, что заслуга будет вознаграждена, верят, что победа им улыбнётся и что она будет прекрасна.
Быстрее! Выше! Сильнее! Медленно, на протяжении месяцев Карантина, гордый олимпийский девиз впечатывается в умы новобранцев. Немногие пытаются покончить собой, очень немногие по-настоящему сходят с ума. Некоторые всё время воют, но большинство упрямо молчит.
XXXI
Мои первые чтения, о которых я помню, относятся к этому времени. Лёжа на животе на кровати, я пожирал книги, которые мой кузен Анри давал мне читать.
Одной из этих книг был роман с продолжениями. Думаю, он назывался «Кругосветное путешествие маленького парижанина» (это название существует, но есть и много других, очень на него похожих: «Путешествие по Франции маленького парижанина», «Кругосветное путешествие в пятнадцать лет», «Путешествие по Франции двух детей» и т. д.). Это была не одна из больших красных книг Жюля Верна в коллекционном издании Эцеля, а толстый том, объединяющий множество брошюр, каждая с иллюстрированной обложкой. На одной из таких обложек был изображён подросток лет пятнадцати, который шёл по очень узкой тропинке, выбитой посреди высокой скалы, нависающей над бездонной пропастью. Эта классическая картинка приключенческого романа (и вестерна) стала для меня настолько привычной, что я всегда считал, что видел похожие картинки в книгах, прочитанных намного позже, таких как «Замок в Карпатах» или «Матиас Шандорф» – где, совсем недавно, тщетно пытался их отыскать.
Вторая книга была «Микаэль, цирковая собака». По крайней мере, один эпизод из неё врезался в мою память, тот, где четыре лошади вот-вот разорвут атлета на части; на самом деле лошади тянут не его конечности, а четыре стальных троса, связанных буквой х и скрытых под одеждой атлета: он улыбается под этой мнимой пыткой, а директор цирка требует, чтобы он демонстрировал признаки самых ужасных страданий.
Третья книга была «Двадцать лет спустя», впечатление от которой моя память чрезмерно преувеличивает, возможно, потому, что это единственная из трёх книг, которую я с тех пор перечитывал и которую мне случается перечитывать даже сейчас: мне кажется, будто я знал эту книгу наизусть и запомнил столько подробностей, что перечитывать означало проверять, остались ли они на прежнем месте: позолоченные углы стола Мазарини, письмо Портоса, пролежавшее пятнадцать лет в кармане камзола д’Артаньяна, монастырский шпинат Арамиса, футляр с инструментами Гримо, благодаря которому обнаруживается, что бочки наполнены не пивом, а порохом, кусочек бумаги для благовонных курений, который д’Артаньян вложил в ухо лошади, крепкая рука Портоса (размером, насколько я помню, с баранье ребро), которая превращает каминные щипцы в штопор, книга с картинками, которую рассматривает юный Людовик XIV в тот момент, когда д’Артаньян приходит за ним, чтобы вывезти его из Парижа, Планше, скрывающийся у хозяйки д’Артаньяна и говорящий по-фламандски, чтобы сойти за её брата, крестьянин, везущий брёвна и на безукоризненном французском указывающий д’Артаньяну направление замка де Ла Фер, неумолимая ненависть Мордаунта, который просит Кромвеля предоставить ему право заменить палача, выкраденного мушкетёрами, и сотня других эпизодов, целые пласты истории или простые обороты речи, которые, кажется, не только были всегда мне знакомы, но и чуть ли не служили историей: неисчерпаемый кладезь припоминания, повторения, уверенности: слова были на своём месте, книги рассказывали истории; можно было им следовать; можно было перечитывать, и, перечитывая, обретать возвеличенное уверенностью в их обретении изначально полученное впечатление: это удовольствие никогда не иссякало: я читаю мало, но перечитываю постоянно, я читаю Флобера и Жюля Верна, Русселя и Кафку, Лейриса и Кено; я перечитываю книги, которые люблю, и люблю книги, которые перечитываю, и всякий раз с одинаковым наслаждением, будь то двадцать страниц, три главы или целая книга: с наслаждением соучастия, с наслаждением сговора, и даже больше: с наслаждением наконец-то обретённого родства.
В этих трёх книгах было нечто поразительное, а именно, все три были неполными и подразумевали другие книги, отсутствующие и неуловимые: приключения «маленького парижанина» были не окончены (не хватало второго тома), у «цирковой собаки» Микаэля был брат по имени Джерри, герой островных приключений, о котором я ничего не знал, а у моего кузена Анри не было ни «Трёх мушкетёров», ни «Виконта де Бражелона», представлявшихся мне библиографическими редкостями, бесценными книгами, об ознакомлении с которыми когда-нибудь я мог только мечтать (относительно «Трёх мушкетёров» эта мечта довольно скоро сбылась, что же касается «Виконта де Бражелона», то она не могла осуществиться ещё на протяжении несколько лет: помню, что брал его в городской библиотеке и был изрядно удивлён, когда увидел в книжном магазине первые карманные издания, сначала в серии Марабу, а затем в серии Карманная Книга).
Сам Анри уже читал «Трёх мушкетёров» и «Виконта де Бражелона», а также, кажется, «Графиню де Монсоро»; «Трёх мушкетёров» он помнил плохо (но, думаю, достаточно для того, чтобы объяснить мне всё необходимое для понимания «Двадцати лет спустя», например, кто такой Рошфор, Бонасье («эта каналья Бонасье») и леди Винтер, за которую Мордаунт мстит с таким остервенением), зато он находился под сильным впечатлением от чтения «Виконта де Бражелон»: благодаря ему я узнал, как умерли (за исключением Арамиса, ставшего епископом) персонажи, предыдущие и последующие приключения которых мне были неизвестны: Портос, раздавленный скалой, которую он не мог сдвинуть, Атос в своей постели, в тот момент, когда в Алжире умирает его сын Рауль, д’Артаньян, сметённый ядром при осаде Маастрихта, сразу же после того, как его назначили маршалом.
Больше всего меня потрясала смерть д’Артаньяна, потрясала, впрочем, в прямом смысле слова, поскольку Анри рассказывал её, передавая основные перипетии в лицах и с моим участием, на ходу, усадив меня в маленькую ручную тачку, во время долгих поездок, совершаемых вокруг Виллара, к местным крестьянам, чтобы раздобыть яйца, молоко и масло (я помню деревянные формы, используемые для изготовления брикетов масла, и чёткость оттисков – коровка, цветок, розетка – которые они оставляли на масле ещё покрытом белёсыми капельками).
* * *
Проявив настойчивость, я, в конце концов, заставил Анри научить меня играть в подвижный морской бой. Однажды, желая доставить мне особое удовольствие, он принялся мастерить из бумаги две большие доски и корабли, что позволило бы нам устраивать серьёзные сражения. Он почти довёл до конца свою кропотливую работу, выполняя её с тщательностью, которая казалась мне лихорадочной, несомненно, потому, что она отвечала лихорадочности моего ожидания, как вдруг, однажды утром, когда я, вероятно, был особенно несносным, в охватившем его столь же необъяснимом, сколь и яростном гневе, он разорвал и растоптал эти бесценные доски. В последующие годы, я неоднократно рассказывал Анри об этом происшествии, всякий раз напоминая ему, до какой степени оно показалось мне невозможным, нелогичным, почти нереальным, всякий раз вспоминая ощущение чего-то невероятного, испытанное перед этими бумажными досками, превратившимися в клочки. И всякий раз Анри удивлялся тому, насколько его подростковая ярость меня поразила: но, как мне кажется, из этого невероятного поступка я заключаю не то, что Анри был всего лишь ребёнком, а скорее, и в более скрытой форме, то, что он не был, что он уже больше не был тем непогрешимым существом, тем примером для подражания, тем хранителем знания, тем распорядителем уверенности, каким я и дальше хотел его, хотя бы его, видеть.
XXXII
После шести месяцев Карантина вновь прибывший официально объявляется новобранцем. Присуждение звания становится поводом для двух мероприятий. Первое – церемония возведения на престол, которая происходит на Центральном Стадионе в присутствии всех Атлетов: с юношей снимают наручники, цепи и колодки, и вручают знак их новой должности: широкий треугольник из белой ткани, который они пришивают, вершиной вверх, на спине своей формы. Заместитель Руководителя забега или Хронометрист произносит небольшую речь, выражения которой почти не меняются от одной церемонии к другой и от одного Официального лица к другому, и в которой он, приветствуя будущих Атлетов, превозносит ценности Спорта и напоминает о великих принципах олимпийского Идеала W. В завершение церемонии Атлеты и новобранцы проводят дружескую встречу, то есть соревнование, результаты которого не служат основанием для какой-либо аттестации и не дают права на какие-либо награждения.
Второе мероприятие, характера намного более интимного, проходит в казарме деревни. Сначала тайное и подпольное, оно было в конце концов признано Администрацией, которая, согласно своей традиционной политике, даже не пыталась его запретить, а довольствовалась систематизацией его проведения. Цель этого мероприятия – выбрать среди Атлетов того, кто станет покровителем новобранца, то есть возьмётся за его тренировку, будет сопровождать его на Стадионах, обучать спортивным приёмам, социальным правилам, внешним проявлениям уважения, обычаям деревни. Именно он будет приходить новобранцу на помощь всякий раз, когда тот окажется в опасности. Со своей стороны новобранец будет верой и правдой служить своему уполномоченному титулованному опекуну: застилать каждое утро его кровать, приносить порцию каши, стирать его бельё и мыть посуду, прислуживать за обедом; он будет следить за состоянием его спортивного снаряжения, формы, обуви. Помимо этого, он будет служить ему наложником.
Разумеется, чтобы иметь честь покровительствовать новичку, необходимо быть классифицированным спортсменом. Достаточно вспомнить, что личный состав каждой деревни представлен 330 Атлетами, 66 из которых получают регулярную классификацию, то есть выигрывают своё имя в классификационных чемпионатах, и максимум два десятка «чурок», которым удаётся урвать себе личное имя, победив в Спартакиаде. Однако количество новичков колеблется, как мы уже знаем, между 50 и 70. Следовательно, должно быть почти столько же покровительствующих Чемпионов, сколько и покровительствуемых новичков. Но думать, что такое было бы возможно, значит глубоко ошибаться в природе общества W. На самом деле, назначение опекуна определяется результатом поединка, который завязывается между двумя лучшими Чемпионами деревни, то есть теми, кто был олимпийским Чемпионом и чьё имя предваряется артиклем (лё Кекконен, лё Джонс, лё МакМиллан и т. д.). Если в деревне есть несколько Олимпийских чемпионов (частый случай, поскольку на 4 деревни приходится 22 олимпийских Чемпиона), то выбирают преимущественно тех, кто побеждал в так называемых благородных видах спорта: бег на 100 м, 200 м, 400 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, 110 м с барьерами, средние дистанции и т. д., до совсем уж безнадёжного пятиборья и десятиборья.
Таким образом, у большинства новобранцев официальным покровителем, как правило, становится один из двух супер-Чемпионов: случается, что право покровительства оспаривается и отстаивается в беспощадном кровавом бою; но чаще делёж происходит с молчаливого согласия сторон и по очереди: каждый Чемпион выбирает себе новичков, сообразно поступлению, и поединок между Чемпионами ограничивается несколькими топическими ругательствами и имитацией рукопашной схватки.
Таким образом, нетрудно представить, как эта установка, изначально регулирующая только отношения между старшими и младшими и несколько напоминающая то, что постоянно практикуется в школе и армии, послужила в W основой сложной вертикальной организации, иерархической системы, которая увязывает всех спортсменов одной деревни в пирамидальную сеть разыгрываемых взаимоотношений, составляющих социальную жизнь деревни. На самом деле, титулованным покровителям вовсе не требуется чрезмерное количество подшефных; они оставляют себе двух-трёх, и продают услуги остальных другим Атлетам. Так возникает клиентура, которой оба главных Чемпиона манипулируют по собственному усмотрению.
На строго местном уровне власть Чемпионов-покровителей огромна, а их шансы на выживание значительно превосходят шансы других Атлетов. Систематически издеваясь, натравливая своих новобранцев и чурок, мешая принимать пищу и спать, они изнуряют тех своих земляков, которых опасаются больше других, тех, кто классифицируется непосредственно вслед за ними в их спортивном виде, тех, кто преследует их по пятам в каждом забеге, в каждом состязании, кто при первой же Победе – они это прекрасно знают – безжалостно им отомстит.
Но система клиентуры так же хрупка, как и жестока. В одну секунду ярость противника или настроение Арбитра может лишить Чемпиона всех его имён, которые он с таким трудом завоевал и с таким остервенением защищал. И тогда масса его приверженцев обратится против него и уйдёт выпрашивать порцию еды, кусок сахара и улыбку у новых Победителей.








