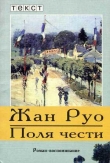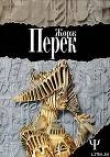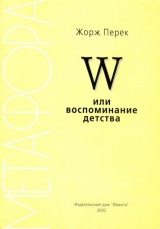
Текст книги "W или воспоминание детства"
Автор книги: Жорж Перек
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
XXI
Как-то в колледж пришли немцы. Это было утром. Мы издали увидели, как два офицера пересекают школьный двор в сопровождении одной из директрис. Как обычно, мы пошли на уроки, и больше их не видели. В полдень прошёл слух, что они всего-навсего просмотрели классные журналы, после чего ушли, реквизировав откармливаемую поваром свинью (я помню эту свинью: она была огромной и питалась исключительно очистками).
В другой раз ко мне пришла тётя Эстер. Нас сфотографировали вместе. На обратной стороне фотографии надпись, незнакомым мне почерком: 1943. На заднем плане видны Альпы, лес, поле, деревушка и большое деревянное шале с очень покатой, частично усечённой крышей («кровлей в форме гусиной лапы», согласно словарям), характерной для горных домов. Семь существ – четыре, принадлежащих к различным видам животных, три – к роду человеческому, – проявляются на первом плане. Это, справа налево (на фотографии): а) чёрная с белыми пятнами коза, частично обрезанная правым краем фотокарточки; у неё очень длинная борода; вероятно, она привязана к колу и вряд ли замечает, что её фотографируют; б) моя тётя; на ней серые шерстяные брюки с узкими отворотами и чётко отглаженными складками, светлая кофточка (или блузка) с короткими или закатанными рукавами, пиджак из ангорской шерсти, наброшенный на плечи и застёгнутый на одну верхнюю пуговицу. Кажется, на ней совсем нет украшений. Её волосы стянуты и забраны назад, пробор посередине. Она чуть меланхолично улыбается; на руках она держит в) белого чёрноголового козлёнка, который, похоже, не испытывает особого восторга и смотрит направо, в сторону козы, приходящейся ему, несомненно, матерью; г) я сам; левой рукой я ухватил козлёнка за ногу; в правой руке держу, как будто хочу показать внутреннюю часть тому, кто нас фотографирует, большую белую соломенную или полотняную шляпу, которая, вероятно, принадлежит моей тёте; на мне короткие штаны из тёмного драпа, клетчатая рубашка-«ковбойка» с короткими рукавами (несомненно, одна из тех, о которых у меня ещё будет возможность рассказать) и вязаная фуфайка без рукавов. Носки спадают; живот немного вздутый. Волосы подстрижены очень коротко, но несколько неровных прядей спадают на лоб. Уши у меня большие и сильно оттопыренные; я чуть склонил голову вперёд и с упрямым видом смотрю снизу в объектив. Слева и позади группы, образованной тётей, козлёнком и мной, находятся д) белая курица, наполовину скрытая с) крестьянкой лет шестидесяти, одетой в длинное чёрное платье, в широкой соломенной шляпе, которая прячет её лицо; одна рука лежит на бедре; рядом с ней ж) лошадь довольно тёмной масти, в сбруе, в шорах, с крупом, наполовину обрезанным левым краем фотокарточки. В самом низу, справа видна сумка из искусственной или плохой кожи, с длинными ручками, которая, скорее всего, принадлежит тёте.
В другой раз, когда, как мне кажется, мы, целая орава детей, сгребали сено, кто-то прибежал и сказал, что ко мне приехала моя тётя. Я помчался навстречу фигуре в тёмной одежде, которая направлялась к нам от колледжа через поле, и остановился, как вкопанный, в нескольких метрах от неё: я не знал даму, которая стояла напротив и, улыбаясь, приветствовала меня. Это была моя тётя Берта; впоследствии я прожил у неё почти год; быть может, тогда она и напомнила мне о своём посещении, или я сам придумал это событие. Однако я с абсолютной чёткостью сохранил воспоминание, но не о всей сцене, а лишь о чувстве недоверия, враждебности и подозрительности, которое я в тот момент испытал: мне и сейчас трудно его выразить, как если бы это было разоблачение элементарной «истины» (отныне к тебе будут приходить только чужие; ты будешь постоянно к ним стремиться и постоянно их отталкивать; они не будут принадлежать тебе, ты не будешь принадлежать им, ибо сможешь лишь держать их в стороне от себя…), излучины которой я, кажется, продолжаю исследовать до сих пор.
Сгребать сено, означало, прежде всего, собирать его в стог, а затем съезжать с него или спрыгивать, если стог был не очень высок. Нам рассказали о несчастном случае с одной девочкой: она прыгнула с верхушки стога, упала на вилы, которые лежали под сеном, и насквозь проткнула себе ногу одним из зубьев.
А как-то раз мы пошли за черникой. Я сохранил в памяти буколический образ целой ватаги детей, сидящих на корточках по всему склону холма. Ягоду собирали с помощью приспособления, называемого «гребешком», маленьким деревянным ковшиком с зубьями по нижнему краю, который забирал при каждом проходе наполовину раздавленные ягоды, эдакую чернильную кашицу, в которой все мгновенно измазывались.
Всю зиму и даже ранней весной мы катались на лыжах. На протяжение последующих лет до самой середины пятидесятых годов, когда я совсем перестал заниматься «зимним спортом», – я чувствовал себя очень свободно на лыжах; не заботясь ни о стиле, ни о рекомендациях, я беззаботно спускался по любому склону средней трудности, а при случае мог замахнуться и на самый опасный. Помню, что начал даже учиться прыгать с крохотных трамплинов из утрамбованного снега.
Катание на лыжах оказалось целой наукой; за два года, проведённых в колледже Тюренн, я смог изучить её основы и получить навыки, пусть бесполезные сегодня, но с поразительной свежестью сохранившие в памяти самые мельчайшие подробности. Так, я знаю, что самые красивые лыжи делаются из канадского дерева гикори, которое я всегда считал одним из самых редких материалов на свете (редкость гикори была одним из доказательств его существования, тогда как другие вещи напрочь отсутствовали, и было непонятно, как они вообще могут существовать, например, апельсины (часть первая – металл ценнейший, вторая – небожитель, всё вместе – фрукт вкуснейший[11]11
…часть первая – металл ценнейший, вторая – небожитель, всё вместе – фрукт вкуснейший – шарада, где загаданное слово orange (апельсин) состоит из двух слогов: or (золото) и ange (ангел).
[Закрыть]), о которых у меня будет ещё возможность рассказать, или шоколад с начинкой, или совсем уж непонятная фольга, в виде обёрточной бумажки или волнистых корзиночек, в которую этот шоколад завёрнут…). Я знаю также, что идеальная длина лыж определяется следующим образом: нужно встать прямо, вытянуть руки вверх, как бы продолжая линию тела, и кончик поставленной вертикально лыжи должен оказаться на уровне середины ладони. Чтобы определить идеальную длину лыжных палок, нужно взять их в ладони, встать, согнуть руки в локтях, а локти прижать к туловищу – наконечники палок должны при этом касаться пола. Я мог бы привести ещё немало примеров: об утрамбовке лыжни (дети со всего лагеря встают в шеренгу, развернув лыжи перпендикулярно направлению склона, и поднимаются прыжками), о смазке (разные назначения мази определяются по цвету картонной упаковки: голубой – для сухого снега, зелёный – для нормального, красный – для спуска, белый – для бега и т. д.; мазь разогреть перед употреблением; наложить слой прозрачного парафина, соскоблить старую мазь, не смазывать серединную часть лыж, не наносить мазь на рёбра, но наоборот заострять их и т. д.), о подъёме в гору (во времена, когда «механический подъёмник» был исключительной редкостью: подъём перпендикулярно склону (утрамбовка), подъём зигзагом, подъём параллельно склону (лыжи обвязывают специальными ремешками из тюленевой шкуры или ставят буквой V, отчего центр тяжести смещается назад, на палки и т. д.), об экипировке (особое значение ботинок; смазывать их жиром, а в случае его отсутствия, натирать скомканной в шар газетной бумагой; рейтузы и куртки, варежки, шерстяная шапочка или головная повязка, очки и т. д.), наконец и особенно – о системах крепления: мои лыжи крепились на щиколотках; крепления застёгивались с трудом (в качестве рычага использовался железный наконечник палки), едва держались на ногах и расстёгивались на каждом шагу; я мечтал о сужающихся спереди застёжках, крепко сжимающих носок ботинка металлическим тросиком, который, попадая в специальную выемку в каблуке, принимал форму пики, или о креплениях высшего сорта, предназначенных для профессионалов (я был невероятно удивлён, увидев однажды, что ими пользуется моя кузина Эла), чрезвычайно сложной системы шнуровки, использующей один единственный, но невероятно длинный ремешок, завязываемый и перевязываемый вокруг ботинка бесчисленное количество раз по вроде бы неизменному, раз и навсегда установленному образцу, эта процедура производила на меня впечатление самой главной церемонии (такой же главной и решающей, какой мне, впоследствии могла показаться шнуровка пояса в «Кровавых аренах» Бласко Ибаньеса, или смена одеяния, превращавшая кардинала Барберини в Урбана VIII в «Галилее» Берлинского Ансамбля), которая гарантировала лыжнику нерасторжимый союз лыж и ботинок, преумножая как опасность серьёзного перелома, так и шанс на исключительные достижения…
Мы оставляли лыжи в длинном и узком бетонном коридоре с деревянной стойкой (в 1970 году я увидел его без малейших изменений). Как-то одна лыжа выскользнула у меня из рук и задела по лицу мальчика, который ставил свои лыжи рядом со мной, и тот в порыве опьяняющей ярости, схватил лыжную палку и, ударив меня наконечником по лицу, распорол верхнюю губу. Кажется, он ещё сломал мне один или два зуба (всего лишь молочных, но это не облегчило рост коренных). Шрам, появившийся в результате этого нападения, хорошо заметен и сегодня. По плохо выясненным причинам, этот шрам, кажется, имеет для меня исключительную важность: он стал личной меткой, отличительным знаком (однако, в моём удостоверении личности среди «особых примет» он не указан, а в военном билете указан, да и то, думаю, только потому, что я сам постарался обратить на это внимание): вряд ли я ношу бороду из-за шрама, но, похоже, именно для того, чтобы не скрывать его, я не ношу усов (в отличие от одного из моих школьных товарищей, – я потерял его из виду почти двадцать лет тому назад, – который, удручённый, иначе и не скажешь, отметиной на своей губе, по его мнению, слишком характерной, – как мне кажется, это был не шрам, а скорее бородавка, – очень рано отпустил усы, чтобы её скрыть); именно из-за этого шрама, всем картинам, собранным в Лувре, а точнее в так называемом «зале семи мастеров», я предпочитаю работу кисти Антонелло де Мессине «Портрет неизвестного мужчины» («Кондотьер»), который стал центральной фигурой моего первого более или менее завершённого романа: сначала он назывался «Гаспар не мёртв», затем «Кондотьер»; в конечном варианте его герой, Гаспар Винклер – гениальный фальсификатор, которому никак не удаётся подделать картину Антонио де Мессине и который по причине этой неудачи вынужден убить своего заказчика. Кондотьер и его шрам сыграли важную роль и в романе «Человек, который спал» (например, на стр. 105: «…невероятно энергичный портрет мужчины эпохи Возрождения с совсем маленьким шрамом слева над верхней губой, то есть слева для него, для тебя справа…»), и даже в фильме, который в 1973 году я снял по этому роману вместе с Бернаром Кейзанном и в котором у единственного актёра Жака Списсёра шрам на верхней губе почти в точности напоминал мой: это случайное совпадение стало для меня, втайне от окружающих, определяющим фактором.
XXII
Законы Спорта суровы, а жизнь W ужесточает их ещё больше. Привилегиям, предоставляемым во всех областях победителям, противопоставлены, почти в чрезмерной форме, притеснения, унижения, насмешки, узаконенные для побеждённых; иногда они доходят до жестоких испытаний, как в случае с обычаем (в принципе запрещённым, но на который Администрация смотрит сквозь пальцы, поскольку болельщики на стадионах к нему очень привязаны), согласно которому пришедший в забеге последним должен пробежать ещё один круг в обуви, надетой наоборот, упражнение, на первый взгляд, безболезненное, но, на самом деле, оказывается, чрезвычайно мучительное, последствия которого (сбитые пальцы, мозоли, язвы на подъёмах стопы, пятках, стопах) практически лишают жертву всякой надежды добиться почётной классификации в соревнованиях следующих дней.
Чем пышнее празднуются победители, тем суровее караются побеждённые, как если бы счастье одних оказывалось изнанкой несчастья других. В обычных забегах – классификационных и местных чемпионатах, – праздники скудны, и наказания почти безобидны: грубые шутки, свист, насмешки, ничуть не серьёзнее, чем фанты для проигравших в салонных играх. Но чем важнее соревнование, тем весомее ставка, как для одних, так и для других: последствием триумфа, ожидающего победителя Олимпиады, особенно того, кто выиграл забег забегов, то есть 100 м, может стать смерть того, кто пришёл последним. Это последствие одновременно непредсказуемо и неизбежно. Если Боги не покинут его, если никто на Стадионе не протянет в его сторону кулак с опущенным вниз большим пальцем, его жизнь будет наверняка спасена, и он понесёт лишь наказание, предусмотренное для остальных проигравших; как и они, он вынужден будет обнажиться и пробежать между двух рядов Судей, вооружённых прутьями и плетьми; как и они, он будет выставлен к позорному столбу, а затем проведён по деревням с тяжёлым деревянным ошейником, утыканным гвоздями. Но если поднимется хотя бы один зритель и укажет на него, требуя кары, предназначенной для трусов, тогда он будет умерщвлён; толпа закидает его камнями, и его раздробленный труп будут демонстрировать в течение трёх дней по деревням, цепляя его за крючья мясников на главных портиках под пятью сплетёнными кольцами и гордым девизом W – FORTIUS! ALTIUS! CITIUS! – после чего бросят собакам.
Случаи смерти такого рода – редки, увеличение их числа привело бы к нулевому эффекту воздействия. Она традиционна для 100 м на Олимпиаде, и почти не встречается в остальных спортивных дисциплинах и на остальных соревнованиях. Конечно, может случиться и так, что, возложив свои надежды на какого-нибудь Атлета, болельщики испытают особое разочарование от его посредственного выступления и дойдут до прямой агрессии, обычно забрасывая его булыжниками и прочими метательными предметами, кусками шлака, железными обломками и бутылками, что может оказаться чрезвычайно опасным. Но чаще всего Организаторы выступают против подобных превышающих полномочия действий и вмешиваются, чтобы оградить Атлетов от смертельной опасности.
Неравенство в обхождении, предусмотренное для победителей и побеждённых, – далеко не единственный пример систематической несправедливости в жизни W. Особенностью, которая выявляет всю оригинальность W, придаёт соревнованиям уникальную изюминку и делает их непохожими ни на какие другие, является то, что непредвзятость объявляемых результатов (неумолимыми гарантами которой выступают, в порядке их ответственности, Судьи, Арбитры и Хронометристы) зиждется на организованной, фундаментальной, элементарной несправедливости, с самого начала устанавливающей среди участников забега или состязания дискриминацию, которая чаще всего оказывается решающей.
Эта официальная дискриминация есть проявление сознательной и неукоснительной политики. Если господствующее впечатление от зрелища забега – впечатление полной несправедливости, то это потому, что Официальные лица несправедливости не противятся. Напротив, они считают, что несправедливость – самый действенный фермент в борьбе, и что Атлет, уязвлённый и возмущённый произволом решений, предвзятостью судейства, превышением власти, нарушением прав, явным фаворитизмом, которые ежесекундно практикуют Судьи, будет в сто раз боеспособнее, чем Атлет, убеждённый в том, что он заслужил своё поражение.
Даже сильнейший не должен быть уверен в том, что он выиграет; даже слабейший не должен быть уверен в том, что он проиграет. Оба должны рисковать в равной степени, ждать победу с одинаковой надеждой, а поражение – с одинаковым ужасом.
Практическое осуществление этой дерзновенной политики привело к целой серии дискриминационных мер, которые можно разбить на две основные группы: первые, которые можно было бы назвать официальными, объявляются перед самым началом состязания; обычно это позитивные или негативные гандикапы, устанавливаемые для Атлетов, для команд, а иногда и для целой деревни. Так, например, во время соревнования W и Норд-Вест-W (то есть, отборочной встречи) команде 400 м W (Хогарт, Моро, Перкинс) придётся бежать 420 м, а команде Норд-Вест-W – всего лишь 380. Или, например, на Спартакиаде все бегуны Вест-W будут оштрафованы на пять очков. Или, допустим, 3-й толкатель ядра из Норд-W (Шанцер) получит право на дополнительную попытку.
Дискриминационные меры второй группы непредсказуемы; они возникают по прихоти Организаторов и, в частности, Руководителей забегов. Болельщики, хотя и в значительно меньшей степени, тоже могут в этом участвовать. Суть заключается в том, чтобы ввести в забег или одиночное соревнование нарушающие элементы, которые могут ослабить или усилить эффект полученного на старте гандикапа. Например, в соревновании по бегу с препятствиями барьеры иногда чуть сдвигают на дорожке одного из соперников, который не может пройти их сразу и сбивается из-за этого с ритма, отчего страдает его результат. Или в самый разгар забега какой-нибудь лукавый Арбитр может вдруг крикнуть: СТОП! В этом случае соперники должны остановиться, замереть в момент рывка, чаще всего в неустойчивой позе, и тот, кто удержится в ней дольше других, будет, вероятно, объявлен победителем.
XXIII
В один из весенних или летних четвергов 1944 года, во второй половине дня мы отправились на прогулку в лес со своими полдниками или, скорее, наверняка с тем, что называлось полдниками, в школьных ранцах. Мы дошли до поляны, где нас ждала группа партизан и отдали им свои ранцы. Помню, как я был горд, когда догадался, что наша встреча была вовсе неслучайной и что обычная по четвергам прогулка была на этот раз лишь удачным поводом для снабжения провизией участников Сопротивления. Кажется, их было человек двенадцать: нас, детей, не меньше тридцати. Для меня, они, конечно же, были взрослыми, но, как я теперь понимаю, им было чуть больше двадцати. Многие носили бороды. Лишь у немногих было оружие; у одного из них, в частности, на ремне висели гранаты, и эта деталь потрясла меня более всего. Сейчас я знаю, что это были защитные гранаты, которые бросают при отступлении, и стальной гильошированный корпус которых разрывается на сотни смертоносных осколков, а не наступательные, которые бросают перед собой, когда идут на штурм и от которых куда больше испуга и шума, чем действительного ущерба. Не помню, была ли та прогулка единственной или она повторялась несколько раз. Лишь много лет спустя я узнал, что директрисы колледжа «были в Сопротивлении».
Более чёткое воспоминание у меня осталось от другой, послеполуденной прогулки, устроенной за несколько дней до Рождества, несомненно, в 1943 году. Нас было гораздо меньше, возможно, человек пять-шесть, кажется, я был единственным ребёнком (на обратном пути я устал, и преподаватель физкультуры нёс меня на плечах). Мы пошли в лес за рождественской ёлкой. Именно тогда я узнал, что сосны и ели – совершенно разные деревья, что я называл ёлкой сосну, что настоящие рождественские деревья – ели, и что ни в Виллар-де-Лан, ни даже во всей провинции Дофине ели не растут. Ель выше, прямее и темнее, чем сосна; чтобы её найти, надо было ехать в Вож. Итак, мы срубили всё-таки сосну, точнее, верхушку сосны, нижняя часть ствола которой была совсем без веток. Кажется, в нашей группе, кроме преподавателя физкультуры, был ещё повар и сторож колледжа, мастер на все руки; нашим лесорубом пришлось стать, конечно, ему: он прицепил к своим горным ботинкам огромные крюки дугообразной формы и забрался под самую вершину, обхватывая ствол кожаным ремнём, который удерживал в руках (много позднее, лет в двенадцать-тринадцать, я увидел идентичный манёвр, но на этот раз так действовал электромонтёр, забиравшийся на телефонный столб).
В канун Рождества, мы установили дерево в большом, выложенном плитками зале колледжа. Мы украсили его и замаскировали удерживающую его в вертикальном положении деревянную опору мхом и коричневой бумагой, которая изображала камень; ей же мы устлали дно яслей. Я помню эти сокровища, звёзды, гирлянды, свечи и шары (в остальное время года они спали на чердаке колледжа), но тогдашние шары были не такие, как сейчас, очень тонкие стеклянные пузыри, покрытые очень блестящей серебряной амальгамой; раньше их делали из папье-маше и раскрашивали чаще всего в довольно тусклые цвета.
Ночью, вероятно, после полуночной мессы, во всяком случае, в моём воспоминании, уже очень поздно, мы подшутили над преподавателем физкультуры, который, как и все мы, поставил свои ботинки под дерево (пару огромных лыжных ботинок, которые могли быть вместилищем разве что для сногсшибательного подарка), положив в один из них гигантский пакет наверченной обёрточной бумаги, внутри которого, в качестве единственного и высшего подарка, лежала одна крохотная морковка.
Я ушёл спать. В спальне я был один. Посреди ночи я проснулся. Не думаю, что вопрос, который меня мучил, непосредственно касался Деда Мороза, но мне не терпелось узнать, досталось ли мне что-нибудь в подарок.
Я поднялся с кровати, бесшумно открыл дверь и босой направился по коридору, ведущему к галерее, которая шла по всему периметру зала. Я опёрся о балюстраду (она была почти такой же высоты, как я: в 1970 году, приехав в колледж, я хотел принять ту же самую позу и был ошарашен тем, что балюстрада доходила мне всего лишь до пояса…). Полагаю, что в моей голове вся сцена застыла, закоченела: окаменевшая, неподвижная картина, воспоминание о которой сохранилось у меня на телесном уровне, вплоть до ощущения, когда я вцепился руками в решётку, до осязания холодного металла, когда я прижался лбом к перилам балюстрады. Я посмотрел вниз: света было немного, но спустя какое-то время мне удалось различить большое украшенное дерево, наваленную вокруг него обувь и торчащую из моего ботинка большую прямоугольную коробку.
Это был подарок, который отправила мне тётя Эстер: две клетчатых рубашки-ковбойки. Они кололись. Я терпеть их не мог.