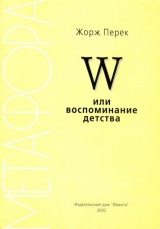
Текст книги "W или воспоминание детства"
Автор книги: Жорж Перек
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
17. Речь может идти только о моей тёте Фанни; возможно, её официальное имя было Сура; не помню, из какого источника я получил эти сведения.
18. Разумеется, сегодня я бы говорил об этих вещах по-другому.
19. Мне не удаётся точно определить происхождение этой игры воображения; наверняка, один из источников – «Маленькая продавщица спичек» Андерсена; другой, пожалуй, – эпизод с Козеттой у Тенардье; но всё вместе, возможно, отсылает к какому-то определённому сценарию.
20. На самом деле Аарон (или Арон) Щюлевиц, которого я знал столько же или так же мало, как и другого своего дедушку, был не ремесленником, а уличным торговцем овощей и фруктов.
21. На этот раз образ чётко соотносится с традиционными иллюстрациями Мальчика-с-Пальчика и его братьев или многочисленных детей Луи Жувэ в рассказе «Странная драма».
22. Во Франции моя мать научилась писать по-французски, но делала много ошибок; моя двоюродная сестра Бьянка давала ей во время войны уроки.
23. На самом деле, моя мать приехала в Париж со своей семьёй, когда была совсем маленькой, то есть, наверное, сразу после окончания Первой мировой войны.
24. Эти детали, как и большинство предыдущих, даны совершенно наобум. Зато почти на всех пальцах обеих рук, на стыке средней и ногтевой фаланг у меня до сих пор остались следы происшествия, случившегося со мной, когда мне было несколько месяцев: глиняная грелка, подготовленная матерью, открылась или разбилась и ошпарила мне обе руки.
25. Речь идёт о Промышленной Компании часовых механизмов, более известной под названием «Жаз». Мать работала здесь на должности станочницы с 11 декабря 1941 года по 8 декабря 1942 года.
26. На самом деле существовало несколько французских постановлений, призванных защищать определённые категории граждан: вдов участников войны, стариков, и т. п. Мне было очень трудно понять, как моя мать, да и многие другие могли хотя бы на миг в это поверить.
Мы так и не смогли отыскать следы ни матери, ни её сестры. Возможно, сначала их отправили в Освенцим, а потом перевели в другой лагерь; возможно, вся их группа попала по прибытии в газовые камеры. Двух моих дедушек тоже отправили в концлагерь; Давид Перец, говорят, умер от удушья ещё в поезде; от Арона Щюлевица никаких следов не осталось. Мою бабушку по отцу Розу не арестовали лишь по случайности: когда за ней пришли жандармы, она была у соседки; какое-то время она укрывалась в монастыре Сакре-Кёр и впоследствии сумела перебраться в свободную зону, но, вопреки моим представлениям, её спрятали не в сундуке, а в кабине машиниста поезда.
У моей матери нет могилы. Только 13 октября 1958 года было объявлено о её официальной кончине 11 февраля 1943 года в Дранси (Франция). Более позднее постановление от 17 ноября 1959 года уточняло, что, «если бы она была француженкой», она имела бы право на отметку «Погибла за Францию».
* * *
В моём распоряжении есть и другие сведения, относящиеся к моим родителям; я знаю, что это ничуть не поможет мне сказать то, что я хотел бы о них сказать.
Через пятнадцать лет после написания этих двух текстов, мне по-прежнему кажется, что я мог бы разве что повторить их: каковы бы ни были точность подлинных или мнимых деталей, которые я мог бы к ним добавить, ирония, трогательность, сухость или страстность, в которые я мог бы их облечь, вымыслы, которым я мог бы дать свободный ход, игра воображения, которую я мог бы развить, каковы бы ни были успехи, которых я смог добиться в практике литературного письма за эти пятнадцать лет, мне кажется, что опять ничего, кроме безысходного повторения, я не добьюсь. Текст об отце, написанный в 1970 году и оказавшийся ещё хуже, чем первый, – вполне убедительное доказательство для того, чтобы отбить у меня всякую охоту браться за него сегодня.
Вопреки тому, что я долгое время утверждал, это не следствие бесконечной альтернативы между искренностью искомого слова и искусственностью письма, занятого исключительно возведением барьеров: это связано с самой написанной вещью, с замыслом письма, а также с замыслом воспоминания.
Не знаю, действительно ли мне нечего сказать, знаю только то, что я ничего не говорю; не знаю, остаётся ли невысказанным то, что я мог бы сказать, потому что оно – невысказываемо (невысказываемое не скрыто в письме, а есть то, что ещё ранее запустило его механизм); знаю, что сказанное мною есть белизна, есть нейтральность, есть первый и последний знак первого и последнего уничтожения.
Именно об этом я и говорю, именно об этом я и пишу, только это и находится в словах, которые я вывожу, в строчках, нарисованных этими словами, в пробелах, допущенных интервалом между этими строчками: напрасно я буду охотиться за своими оговорками (например, я написал «совершил» вместо «сделал», говоря об ошибках при транскрипции материнской фамилии), или часами размышлять об отцовской шинели, или искать в своих фразах и, разумеется, тут же их находить, милые отзвуки Эдипова комплекса или страха кастрации; в самом своём повторении я никогда не обнаружу ничего, кроме высшего отражения отсутствующего в письме слова, возмущения их и моим молчанием: я пишу не для того, чтобы сказать, что я ничего не скажу, я пишу не для того, чтобы сказать, что мне нечего сказать. Я пишу: пишу, потому что мы жили вместе, потому что я был среди них, тенью меж их теней, телом около их тел; я пишу, потому что они оставили во мне несмываемую метку, и её след – черта письма: воспоминание о них умирает в письме; письмо – это воспоминание об их смерти и утверждение моей жизни.
IX
– А дальше?
– Что дальше?
– Что делаю в этой истории я, кроме того, что у меня есть утонувший однофамилец?
– Пока, ничего. Сейчас речь пойдёт скорее о моей причастности к этой истории. Возможно, после краткого изложения случившегося вы решили, что я был близко знаком с семьёй Винклер или принадлежал к организации, чья помощь позволила вам здесь, под прикрытием новой биографии, обрести безопасность, которой до сих пор ничто не угрожало. Ничего подобного. Ещё пятнадцать месяцев назад, а точнее 9 мая прошлого года, в предполагаемый день кораблекрушения, ваша история, равно как и история вашего фамильного двойника, была мне неизвестна. Как посредственный меломан, я всё же знал, что Сесилия Винклер была великой певицей, и, кажется, даже слушал её в роли Дездемоны в Метрополитэн-опера незадолго до войны. Зато я кое-что знал – хотя и не был непосредственно связан ни с ней, ни с её членами – об организации содействия, которая вам помогала, и высоко ценил значительную работу, которую она вела на всех фронтах земного шара. Это было что-то вроде профессиональной симпатии: я сам заведую – и именно на этом основании сегодня вмешиваюсь в историю Гаспара Винклера, а, следовательно, и в вашу историю – я заведую Обществом помощи потерпевшим кораблекрушение. Эта частная международная организация существует на средства от благотворительных организаций, частных лиц, отдельных правительственных и муниципальных учреждений, таких, например, как Министерство торгового флота или Союз торговых палат Северного моря, но, главным образом, от страховых компаний. В начале это было нечто вроде филиала Бюро Veritas. Вам известно, что такое Бюро Veritas?
– Нет, – признался я.
– Это основанная в начале XIX века организация, которая ежегодно публикует все статистические данные, относящиеся к судостроению, морским перевозкам, кораблекрушениям и авариям. В конце прошлого века один из руководителей Бюро изъявил в своём завещании желание, чтобы часть значительных в то время правительственных средств, ежегодно перечисляемых организации, использовалась не только для подсчёта потерпевших, но и для оказания им помощи. Это предложение было совершенно чуждо статусу Бюро, но спасательные организации были тогда в моде, и Распорядительный Совет решил выделять 0,5 % своего годового бюджета на создание благотворительной организации, которой вменялось в обязанность собирать все сведения о кораблях, потерпевших бедствие, и, по мере её слабых возможностей, оказывать им помощь. Чуть позднее, к этой инициативе присоединились Lloyd’s Register of Shipping и American Bureau of Shipping, две конкурирующие с Бюро Veritas организации, и Общество помощи потерпевшим кораблекрушение смогло в той или иной степени выполнять свою задачу.
– Я не очень понимаю, каким образом вы можете чем-либо помочь судну, которое терпит бедствие. Ведь вас там нет!
Отто Апфельшталь молча взирал на меня на протяжении нескольких секунд. Я заметил, что бар снова опустел; единственный бармен в чёрном пиджаке – не тот, что меня обслуживал, и не один из тех, что появились после, – зажигал в глубине свечи, воткнутые в старые бутылки, и украшал ими столы. Я взглянул на часы; было девять часов вечера. Звали ли меня по-прежнему Гаспаром Винклером? Или мне предстояло ехать за ним на край света?
– Когда судно терпит бедствие, – заговорил наконец Отто Апфельшталь (его голос показался мне на удивление близким, и самое незначительное из его слов западало в меня, как если бы он говорил лично обо мне), – то – в лучшем случае, неподалёку находится другое судно, которое оказывает ему помощь, – или же такого судна нет, и пассажиры набиваются в надувные лодки, забираются на наспех сколоченные плоты или цепляются за обломки, за расколотые рангоуты и шкоты, которые относит течением. Большинство пассажиров погибает в следующие три-четыре часа, но некоторым надежда неизвестно на что даёт силы бороться за жизнь на протяжении дней и даже недель. Несколько лет назад один такой пассажир был найден в восьми тысячах километров от места крушения своего судна; привязанный к бочке, наполовину разъеденный солью, но всё ещё живой после трёхнедельных мучений. Возможно, вы слышали о том, что один стюард британского торгового флота провёл на плоту четыре с половиной месяца, с 23 ноября 1942 года по 5 апреля 1943 года, после того, как его судно было потоплено в Атлантическом океане, недалеко от Азорских островов. Такие случаи встречаются редко, но они есть, подобно тому, как до сих пор бывает, что потерпевших крушение выбрасывает на риф или на пустынный остров, или что они находят хрупкое пристанище на уменьшающейся изо дня в день льдине. Именно в этих случаях наша помощь потерпевшим может оказаться самой действенной. Большие корабли следуют по заранее известным маршрутам, и почти всегда, даже в случае серьёзной аварии или преступной акции, помощь может быть оказана очень быстро. Наша деятельность направлена преимущественно на спасение затерявшихся одиночек, яхт, прогулочных катеров, рыболовецких судов. Благодаря целой сети корреспондентов, находящихся сегодня во всех уязвимых точках, мы можем в кратчайшие сроки собирать необходимые сведения и координировать операции по спасению. В наши отделения поступают брошенные в море бутылки с посланиями и их современный эквивалент, сигналы S.O.S. от терпящих бедствие кораблей. Обычно наши поиски приводят к обнаружению наполовину съеденных морскими птицами трупов – увы, это случается чаще всего, – но бывает и так, что один из наших катеров, самолётов или вертолётов прибывает на место крушения как раз вовремя для того, чтобы спасти одну или две человеческие жизни.
– Но ведь вы сами только что сказали, что крушение «Сильвандры» произошло пятнадцать месяцев назад.
– Это так. Почему вы задаёте этот вопрос?
– Насколько я понимаю, вы надеетесь, что я приму участие в поисках?
– Совершенно верно, – сказал Отто Апфельшталь, – я бы хотел, чтобы вы туда поехали и отыскали Гаспара Винклера.
– Но почему?
– А почему бы и нет?
– Я имел в виду другое: как можно надеяться найти того, кто потерпел кораблекрушение пятнадцать месяцев назад?
– Мы определили положение «Сильвандры» через восемнадцать часов после того, как она послала сигнал бедствия. Она напоролась на подводные скалы у крохотного островка, к югу от острова Санта Иньес, на 54°35′ южной широты и на 73°14′ западной долготы. Несмотря на очень сильный ветер, уже через несколько часов, на следующее утро, спасательной группе чилийской гражданской службы удалось добраться до яхты. На яхте обнаружили пять трупов и сумели их опознать: это были Зеппо и Фелипе, Ангус Пилгрим, Хью Бартон и Сесилия Винклер. Но в списке пассажиров значилось ещё одно имя, принадлежавшее десятилетнему ребёнку, Гаспару Винклеру. Его тело так до сих пор и не нашли.
X
Улица Вилен
Мы жили в Париже, в 20-м округе, на улице Вилен; эта маленькая улочка отходит от улицы де Курон и поднимается, отдалённо напоминая очертание буквы S, до крутых лестниц, ведущих к улицам дю Трансвааль и Оливье Метра (с этого перекрёстка – одной из последних точек, откуда можно, стоя на земле, увидеть весь Париж, – я вместе с Бернаром Кейзаном снимал в июле 1973 года финальный план кинофильма «Человек, который спал»). Сейчас улица Вилен на три четверти разрушена. Больше половины домов снесли, освободив место под пустыри, на которых скапливается лом, старые газовые плиты и каркасы автомашин; большинство устоявших домов встречают взгляд слепыми фасадами. Ещё год назад дом моих родителей, № 24, и дом моей тёти Фанни, № 1, были почти нетронутыми. В доме 24 даже оставалась заколоченной входная деревянная дверь, над которой кое-как можно было прочитать надпись ДАМСКИЕ ПРИЧЁСКИ. Мне кажется, во времена моего детства улица была вымощена деревом. Возможно, где-то даже лежала большая куча красивых деревянных кубиков, из которых мы, подобно героям «Розового острова» Шарля Вильдрака, строили крепости и автомобили.
Первый раз я вернулся на улицу Вилен в 1946 году, со своей тётей. Мне кажется, тогда она разговаривала с одной из соседок моих родителей. Возможно, она пришла туда вместе со мной, чтобы просто повидаться с моей бабушкой Розой, которая по возвращении из Виллар-де-Лан какое-то время жила на улице Вилен, прежде чем уехать к своему сыну Леону в Хайфу. Кажется, я помню, что играл тогда на улице. В последующие пятнадцать лет вернуться сюда у меня не было ни возможности, ни желания. В то время я не сумел бы даже найти эту улицу; я бы искал её, пожалуй, возле станции метро Бельвиль или Менильмонтан, а не возле станции Куронн.
На улицу Вилен я вернулся в один из летних вечеров 1961 или 1962 года вместе с друзьями, которые жили совсем рядом, на улице де л’Эрмитаж. Улица не вызвала во мне никаких воспоминаний и почти никакого ощущения чего-то знакомого. Мне не удалось отыскать ни дом, где жили Щюлевицы, ни дом, как я ошибочно полагал № 7, где я провёл первые шесть лет своей жизни.
С 1969 года раз в год я приезжаю на улицу Вилен для работы над книгой под рабочим названием «Места», где я пытаюсь описать происходящие за двенадцать лет изменения в облике двенадцати парижских мест, к которым по той или иной причине я особенно привязан.
Дом № 24 состоит из череды маленьких двух– и трёхэтажных строений, обрамляющих внутренний дворик довольно мрачного вида. Я не знаю, в каком из них я жил. Я не пытался войти в квартиры, занимаемые сегодня в основном португальскими и африканскими рабочими-иммигрантами; я убеждён, впрочем, что это никак не оживило бы моих воспоминаний.
Мне кажется, Давид, Роза, Изи, Сесиль и я жили вместе. Я не знаю, сколько комнат у нас было, но думаю, не меньше двух. Я также не знаю, где находился продуктовый магазин Розы (возможно, в доме 23 по улице Жюльен-Лакруа, которая пересекает улицу Вилен в нижней её части). Как-то Эстер сказала мне, что Роза и Давид жили в доме 24, но отдельно от моих родителей, в помещении консьержки. Вероятно, это просто означало, что их квартира находилась на первом этаже и была совсем маленькой.
Две фотографии
Первая была сделана в ателье Фотофедер: Париж, 11 округ, бульвар Бельвиль, дом 47. Я думаю, она датируется 1938 годом. На ней крупным планом сняты мы: моя мать и я. Мать и дитя символизируют состояние счастья, которое представляется ещё более восторженным благодаря фотографической тени. Я на руках у матери. Мы прислонились друг к другу щеками. У матери тёмные волосы, взбитые спереди, ниспадающие локонами сзади. На ней корсаж с вытканным цветочным узором, застёгивающийся, вероятно, на кнопках. Её глаза темнее, чем у меня, и более раскосые. Её брови очень тонкие и хорошо очерченные. Лицо овальное, щёки округлые. Мать улыбается, показывая зубы, чуть глуповатой улыбкой, которая, в общем, ей не присуща, но которая, несомненно, отвечает пожеланию фотографа.
У меня светлые волосы с очень красивым завитком на лбу (из всех воспоминаний, которых мне не достаёт, пожалуй, я хотел бы больше всего иметь именно это: мать причёсывает меня, мать ловко завивает мой волнистый локон). На мне застёгнутая до подбородка светлая куртка (или жакет, или пальто), с небольшим простроченным воротничком. У меня легко узнаваемые большие уши, пухлые щёки, маленький подбородок, улыбка и взгляд искоса.
На обороте второй фотографии три надписи: первая, наполовину обрезанная (как-то, по глупости, я отрезал поля на нескольких фотографиях), сделана рукой Эстер и может прочитываться как: Венсен, 1939 год; вторая – моя, синей шариковой ручкой, указывает: 1939 год; третья, чёрным карандашом, незнакомым мне почерком, может означать цифру «22» (скорее всего речь идёт о пометке фотографа, который её проявлял). Осень. Моя мать сидит или точнее откидывается на какую-то металлическую раму, две горизонтальные планки которой угадываются за ней, и это, похоже, продолжение изгороди из деревянных кольев и железной сетки, такие часто встречаются в парижских садах. Я стою рядом с матерью, слева от неё (на фотографии справа), левой рукой в чёрной перчатке она опирается о моё левое плечо. В правой части фотографии – что-то непонятное, вероятно, пальто того, кто нас фотографировал (мой отец?).
У матери большая фетровая шляпа с тесьмой, скрывающая глаза. В мочку уха вдета жемчужина. Она мило улыбается, чуть склонив голову налево. Поскольку этот снимок (как, наверное, и предыдущий) не ретушировали, у матери видна большая родинка у левой ноздри (на фотографии – у правой). На ней расстёгнутое тёмное драповое пальто с широкими отворотами, корсаж, несомненно, в полоску, с круглым воротником, застёгнутый на семь больших белых пуговиц, седьмая почти не видна, серая юбка в очень тонкую полоску до середины икр, возможно, такие же серые чулки и довольно причудливые туфли с рантом, плотной каучуковой подошвой, высокой союзкой и толстыми кожаными шнурками, заканчивающимися какими-то шишечками.
На мне берет, тёмное пальто с воротником «реглан», застёгнутое на две большие кожаные пуговицы и спускающееся ниже бёдер; у меня голые колени, на ногах – тёмные шерстяные носки, закатанные до щиколоток и маленькие, возможно, начищенные, ботинки с одной единственной пуговицей.
Руки у меня полные, щёки – пухлые. Большие уши, лёгкая грустная улыбка и чуть склонённая влево голова.
На заднем плане – деревья, которые потеряли уже немало листьев, и девочка в светлом пальто с совсем маленьким меховым воротником.
Бульвар Делессер
Мои родители работали, моя бабушка тоже. Днём со мной сидела Фанни. Она часто водила меня гулять на бульвар Делессер, где жили моя тётя и её дочь Эла. Скорее всего, мы садились в метро на станции Куронн и делали пересадку на Этуаль, чтобы доехать до Пасси. Именно здесь, на бульваре Делессер Эла попыталась посадить меня на велосипед, и мои вопли переполошили всех соседей.
Исход
Мои первые отчётливые воспоминания относятся к школе. Кажется, маловероятно, что я ходил в школу до 1940 года, до Исхода. Лично у меня нет никаких воспоминаний об Исходе, но его след сохранился на одной фотографии. Я отрезал поля, поэтому прочесть название места, которое, похоже, написала Эстер и которое она с тех пор забыла, невозможно, но дата – июнь 40 – до сих пор хорошо видна.
Я управляю маленьким автомобилем, судя по воспоминаниям – красным, а по фотографии – светлым, возможно, украшенным красными деталями (решётка радиатора по сторонам капота). На мне какой-то свитер на пуговице, с короткими или закатанными рукавами. Мои волосы завиваются совершенно анархическим образом. У меня большие уши, широкая улыбка, зажмуренные от удовольствия глаза. Я чуть склоняю голову налево (на фотографии – направо). За мной – закрытая решётка, усиленная в нижней части металлической сеткой, вдали – двор фермы с телегой.
Я не знаю, где эта деревня. Я долго считал, что она была где-то в Нормандии, но теперь думаю, что она была недалеко, к востоку или к северу от Парижа. И действительно, там много раз бомбили. Подруга моей бабушки бежала туда со своими детьми и захватила меня. Она рассказала моей тёте, что прятала меня под периной всякий раз, когда начинали бомбить, и что занявшие деревню немцы очень меня любили, играли со мной и один из них катал меня на плечах. Она очень боялась, – говорила она моей тёте, которая впоследствии рассказала об этом мне, – что я скажу что-то такое, чего не должен говорить, и не знала, как определить ту тайну, которую я обязан был хранить.
(Это была, сказала мне тётя, очень толстая и очень славная женщина. Она была подшивальщицей брюк. Её сын стал врачом, а её дочь работала нанизывальщицей в мастерской жемчужных украшений моего дяди, потом уехала в Америку, вышла там замуж и вызвала мать к себе.)
Одна фотография
На обратной стороне написано «Парк Монсури 19(40)». В надписи смешаны заглавные и строчные буквы: возможно, писала моя мать, и в таком случае, это единственный образец её почерка, который у меня есть (у меня нет ни одного образца почерка моего отца). Моя мать сидит на садовом стуле, на краю поляны. На заднем фоне деревья (хвойные) и какое-то высокое густое растение. На матери большой чёрный берет. Пальто, судя по пуговице, вероятно, то же самое, что и на фотографии, снятой в Венсенском лесу, но на этот раз оно застёгнуто. Сумочка, перчатки, чулки и туфли на шнурках чёрные. Моя мать – вдова. Её лицо – единственное светлое пятно на фотографии. Она улыбается.
Школа
У меня осталось три школьных воспоминания1.
Первое – самое расплывчатое: в школьном подвале. Мы толкаемся. Нам примеряют противогазы: большие глаза из слюды, впереди болтается какая-то штуковина, отвратительный запах резины.
Второе – самое прочное: я спускаюсь бегом (точнее, не бегом: на каждый шаг я подпрыгиваю на ноге, которая только что приземлилась; этот способ бега, нечто среднее между собственно бегом и прыжками на одной ноге, распространён у детей, но я не знаю, как его назвать), итак, я спускаюсь бегом по улице де Курон, держа на вытянутых руках рисунок, сделанный мною в школе (почти живопись), и изображающий бурого медведя на охристом фоне. Я ошалел от радости и кричу изо всех сил: «Медвежата! Медвежата!»
Третье, похоже, – самое организованное. В школе нам присуждали баллы, – жёлтые или красные квадратные карточки с надписью «1 балл», обрамлённой гирляндой. Если за неделю набиралось определённое количество баллов, это давало право на медаль. Мне очень хотелось получить медаль, и однажды я этого добился. Учительница приколола медаль к моему переднику. После урока на лестнице возникла толчея, которая передавалась от ступеньки к ступеньке, от ребёнка к ребёнку. Я оказался посередине лестницы и сбил одну маленькую девочку. Учительница решила, что я сделал это нарочно; она подбежала ко мне и, не слушая моих возражений, сорвала мою медаль.
Я вижу, как я спускаюсь по улице де Курон тем особым способом бега, который существует у детей, но я до сих пор физически чувствую этот толчок в спину; это проявление явной несправедливости и кенестетическое ощущение нарушения равновесия, навязанного мне другими, спущенного на меня сверху, обрушенного на меня, остаётся столь прочно вписанным в моё тело, что я спрашиваю себя, не скрывает ли на самом деле это воспоминание свою точную противоположность: воспоминание не о сорванной медали, а о приколотой звезде?
1. Почти одновременно с описанием этих трёх воспоминаний обнаружилось четвёртое: воспоминание о бумажных салфетках, которые мы делали в школе: раскладывали параллельно узкие полоски тонкого разноцветного картона и переплетали их такими же полосками, которые пропускали то снизу, то сверху. Помню, что эта игра меня очаровала, я очень быстро понял её принцип и добился в ней блестящих результатов.
Отъезд
Моя мать отвезла меня на Лионский вокзал. Мне было шесть лет. Она доверила меня представителям Красного Креста, которые отправляли эшелон в Гренобль, в свободную зону. Она купила мне книжку с картинками, одну из историй Чарли, на обложке которой Чарли со своей тростью, котелком, туфлями и маленькими усиками прыгал с парашютом. Парашют был пристёгнут к подтяжкам его брюк.
Красный Крест эвакуировал раненых. Я не был раненым. Но меня нужно было эвакуировать. Значит, нужно было сделать так, как если бы я был раненым. Вот почему моя рука была на перевязи.
Но моя тётя почти уверена: моя рука не была на перевязи, не было никаких причин, чтобы моя рука была на перевязи. Красный Крест переправлял меня совершенно законно как «сына погибшего», как «военного сироту».
Зато, возможно, у меня была грыжа, и я носил грыжевой бандаж, суспензорий. Кажется, сразу по приезде в Гренобль, мне сделали операцию (я даже долго считал, подхватив эту деталь, не помню у какого члена моей приёмной семьи, что операцию проводил профессор Мондор), прооперировали одновременно грыжу и аппендицит (могли воспользоваться грыжей, чтобы удалить заодно и аппендикс). Наверняка, это произошло не сразу после моего приезда в Гренобль. По словам Эстер, это случилось позднее и из-за аппендицита. По словам Элы, из-за грыжи, но намного раньше, в Париже, когда у меня ещё были родители1.
Тройная черта проходит через это воспоминание: парашют, рука на перевязи, грыжевой бандаж: все три связаны с подвешенным состоянием, с поддержкой, почти с протезом. Чтобы быть, нужна подпорка. Спустя шестнадцать лет, в 1958 году, когда превратности военной службы сделали из меня эфемерного парашютиста, я сумел прочесть в минуту прыжка расшифрованный текст этого воспоминания: я был устремлён в пустоту; все нити разорваны; я падал один, без всякой поддержки. Парашют раскрылся. Купол распростёрся, хрупкое и надёжное зависание перед покорённым падением.
1. Я и в самом деле носил грыжевой бандаж. Операцию мне сделали в Гренобле, через несколько месяцев, и, воспользовавшись этим, удалили заодно и аппендикс. Это ничего не меняет в самом фантазме, но позволяет прочертить один из путей его происхождения. Что касается воображаемой руки на перевязи, то вскоре мы увидим, сколь любопытным окажется её повторное появление.








