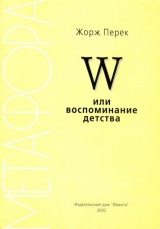
Текст книги "W или воспоминание детства"
Автор книги: Жорж Перек
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Жорж Перек
W
или
воспоминание детства
Переводчик благодарит Г-жу Элу Биненфильд и Г-жу Бьянку Ламблэн за их советы и поддержку
Творчество Жоржа Перека (1936–1982) пользуется все возрастающим успехом. Удивляя своей оригинальностью и разнообразием, оно переосмысливает цели поэтического и повествовательного письма. Так, Перек оказывается исследователем нашей окружающей среды: то лукаво-двусмысленной («Вещи», премия Ренодо за 1965 год), то фантастически-методичной («Виды пространств»), создателем новых автобиографических форм («Темная лавка», «W или воспоминание детства», «Я помню») или хроникером отрицания внешнего мира («Что за маленький велосипед с хромированным рулем в глубине двора?», «Исчезание», «Преведенее») или в литературную лабораторию, открытую как для поэзии («Алфавиты», «Заключение»), так и для философских мечтаний («Думать/Классифицировать»), Перек был одним из активных членов УЛИПО (Цех Потенциальной Литературы). Книга «Жизнь, способ применения» (премия Медиси за 1978 год), включающая в себя сотню романов и тысячу удовольствий и загадок прочтения, предлагает потрясающее обобщение всех его поисков.
посвящается Е [1]1
Посвящается Е – название пятой буквы французского алфавита «е» фонетически совпадает с произнесением ударного личного местоимением 3 лица мн. ч. eux (они). Таким образом, Ж.П. мог посвятить книгу им (родителям?), тёте Эстер (Esther) и кузине Эле (Ela). (Здесь и далее примечания переводчика.)
[Закрыть]
Первая часть
Безумный туман, где мечутся тени, как мне его прояснить?
РЭЙМОН КЕНО
I
Я долгое время не решался взяться за рассказ о своём путешествии в W. Сегодня, подчиняясь властной необходимости, убеждённый в том, что события, свидетелем которых я оказался, должны быть раскрыты и освещены, я на это решаюсь. Я не отбрасывал от себя сомнения – почему-то чуть было не сказал, предлоги – которые могли бы препятствовать публикации. Долгое время я предпочитал хранить в тайне то, что видел; я не считал себя вправе разглашать что-либо о миссии, которую мне доверили, прежде всего, возможно, потому, что эта миссия не была выполнена, – но кто бы смог её завершить? – а еще потому, что тот, кто мне её доверил, исчез.
Долгое время я пребывал в нерешительности. Постепенно я забывал неопределённые обстоятельства путешествия. Но мои сны по-прежнему наполнялись теми призрачными городами, теми кровавыми состязаниями, тысячеголосый гул которых я будто бы продолжал слышать, теми развёрнутыми знамёнами, разрываемыми морским ветром. Непонимание, ужас и зачарованность смешивались в тех бездонных воспоминаниях.
Долгое время я искал следы своей истории, просматривал карты и справочники, ворох архивов. Я ничего не находил и порой думал, что всё это мне приснилось, что всё это было лишь незабываемым кошмаром.
…лет тому назад, в Венеции, в закусочной де ла Гвидекка я увидел мужчину, которого, как мне показалось, я узнал. Я бросился к нему, но, подбегая, уже бормотал свои извинения. Выживших быть не могло. То, что мои глаза видели когда-то, действительно произошло: лианы расторгли бетонные печати, лес поглотил дома; песок заполонил стадионы, бакланы пали тысячами – и внезапно тишина, ледяная тишина. Что бы ни случилось, что бы я ни сделал, я оставался единственным хранителем, единственным живым поминанием, единственным свидетельством того мира. И это, больше чем все остальные соображения, побудило меня к описанию происшедшего.
Внимательный читатель, конечно же, поймёт: из вышесказанного вытекает то, что в случившемся, которое мне предстоит изложить, я выступал свидетелем, а не действующим лицом. Я не герой своей истории. И я не воспеваю её. Даже если события, которые я наблюдал, перевернули ход, до этого незначительный, моего существования, даже если они всей своей тяжестью всё ещё давят на мои поступки и воззрения, я бы хотел, сообщая о них, усвоить холодный и невозмутимый тон этнолога: я посетил сей исчезнувший мир – и вот, что я там увидел. Во мне живёт не кипящая ярость Ахава, а чистая мечтательность Измаила, терпеливость Бартлби. Именно их, в который раз, я прошу опять быть моими тенями-покровителями.
И всё же, чтобы соблюсти почти универсальное правило, которое, впрочем, я даже и не оспариваю, я опишу, как можно короче, несколько событий моей жизни и изложу более подробно обстоятельства, предрешившие моё путешествие.
Я родился 25 июня 19… около четырёх часов, в Р., крохотной деревушке из трёх дворов, неподалеку от города А. Мой отец владел здесь небольшим земельным участком. Он умер от последствий ранения, когда мне было лет шесть. После себя он оставил почти одни долги, и в наследство мне досталось немного одежды, белья и три-четыре предмета кухонной утвари. Один из соседей отца согласился меня приютить; так – полу-сыном, полу-батраком – я и рос среди его домочадцев.
В шестнадцать лет я покинул Р. и перебрался в город: там я испробовал разные профессии, но, так и не найдя той, что мне бы понравилась, я в конце концов завербовался в армию. Привычный к послушанию и наделённый незаурядной физической силой, я мог бы стать хорошим солдатом, но вскоре понял, что никогда не смогу по-настоящему приспособиться к военной жизни. Год я провёл во Франции, в Центре Военной Подготовки в Т., потом меня отправили на боевые действия; там я оставался более пятнадцати месяцев. В В., получив увольнительную, я дезертировал. Благодаря содействию одной организации противников военной службы, мне удалось добраться до Германии, где я долгое время оставался безработным. Наконец, я обосновался в городе X., почти на люксембургской границе. Я стал работать автослесарем на самой большой станции техобслуживания. Жил я в маленьком семейном пансионе и проводил вечера в кафе перед телевизором или за игрой в жаке то с одним, то с другим напарником по работе.
II
У меня нет воспоминаний о детстве. Моя история до лет двенадцати умещается в несколько строк: в четыре года я потерял отца, в шесть – мать; во время войны жил в разных пансионатах в Виллар-де-Лан. В 1945 году сестра моего отца и её муж взяли меня к себе.
Это отсутствие истории меня долгое время успокаивало: его объективная сухость, внешняя очевидность, невинность меня защищали, но от чего они меня защищали, как не от моей же истории, от моей пережитой истории, от моей настоящей истории, от моей собственной истории, которая, как нетрудно предположить, не была ни сухой, ни объективной, ни внешне очевидной, ни очевидно невинной?
«У меня нет воспоминаний о детстве»: я бросал своё утверждение с уверенностью, едва ли не с вызовом. Вопрос на эту тему могли мне и не задавать. Его в моей программе не было. Я был от него освобождён: другая история, Великая история, История с большой буквы[2]2
…История с большой буквы – игра на фонетическом совпадении: восьмая буква французского алфавита «h» и существительное hache (топор) произносятся одинаково. «l’Histoire avec sa grande hache» может переводиться дословно как «История с большим топором».
[Закрыть], уже ответила за меня: войной, лагерями.
В тринадцать лет я выдумал, рассказал и нарисовал одну историю. Потом её забыл. И вдруг однажды вечером, семь лет назад, в Венеции я вспомнил, что эта история называлась «W» и была если не историей моего детства, то, в некотором роде, одной из его историй.
Не считая внезапно восстановленного названия, у меня не было практически ни одного воспоминания о W. Всё, что я знал, занимало меньше двух строчек: жизнь общества, занятого исключительно спортом, на одном островке Огненной Земли.
И в который уже раз письмо расставило свои ловушки. И в который уже раз я становился ребёнком, который играет в прятки и не знает, чего он больше боится и больше хочет: остаться спрятанным, быть найденным.
Позднее я отыскал несколько рисунков, из числа тех, что рисовал, когда мне было около тринадцати лет. Благодаря им, я заново сочинил историю W и написал её, публикуя по мере написания отдельные части в «Кэнзен литерэр» между сентябрём 1969 и августом 1970.
Сегодня, четыре года спустя, я берусь определить – этим я хочу сказать как «очертить предел», так и «дать имя» – эту медленную расшифровку. W ничуть не больше напоминает мою олимпийскую фантазию, чем эта олимпийская фантазия напоминала моё детство. Но в сплетаемой ими сети, равно как и в задуманном мною прочтении, оказывается, я убеждён, вписанным и описанным путь, который я прошёл, поступь моей истории и история моей поступи.
III
Я жил в X. уже три года, когда утром 26 июля 19… хозяйка вручила мне письмо. Оно было отправлено накануне из К., города более крупного, чем X. и расположенного приблизительно в 50 километрах от него. Я распечатал письмо; оно было написано на превосходной бумаге по-французски. Верхнюю часть листа украшало отпечатанное заголовком имя
Отто АПФЕЛЬШТАЛЬ, MD
которое возвышалось над безукоризненно выгравированным сложным гербом, который моё невежество в области геральдики не позволяло ни идентифицировать, ни даже растолковать; более того, мне удалось ясно разобрать лишь два из пяти символов, образующих герб: зубчатую башню в центре и во всю высоту герба и открытую книгу с чистыми страницами в правом нижнем углу; три других символа, несмотря на все мои усилия, остались неясными; речь, однако, шла не об абстрактных символах, вроде шевронов, лент или ромбов, а о фигурах, но как бы двойственных, с рисунком одновременно и точным, и двусмысленным, который, казалось, можно было интерпретировать по-разному, так и не остановившись ни на одном окончательном варианте: один символ мог, в крайнем случае, оказаться извивающейся змеёй с чешуёй из лавровых листьев, другой – рукой, которая являлась в то же время корнем; третий был то ли гнездом, то ли костром, то ли короной из шипов или неопалимой купиной, то ли вообще пронзённым насквозь сердцем.
Ни адреса, ни номера телефона не было. В письме сообщалось лишь следующее:
«Сударь,
Мы были бы Вам крайне признательны, если бы Вы согласились уделить нам время для беседы по касающемуся Вас вопросу. Мы будем ждать Вас в баре гостиницы Бергхоф, по адресу Нюрмбергштрассе, 18, в эту пятницу 27 июля, с 18 часов.
Заранее Вас благодарим и просим извинить за то, что пока не можем дать Вам более пространных объяснений.
Примите заверения в нашем искреннем почтении».
Далее следовала неразборчивая подпись, в которой только имя, напечатанное в заголовке, позволило мне разобрать «О. Апфельшталь».
Нетрудно представить, что сначала письмо меня напугало. Моей первой мыслью было бежать: меня узнали, это наверняка шантаж. Затем мне удалось пересилить свои опасения: письмо было написано по-французски, но это вовсе не означало, что оно было адресовано именно мне, тому, кем я когда-то был, бывшему солдату и дезертиру; в нынешних анкетных данных я значился романским швейцарцем, так что моё знание французского языка никого не могло удивить. Тем, кто когда-то мне помог, моя старая фамилия была неизвестна, и понадобилось бы невероятное, необъяснимое стечение обстоятельств для того, чтобы кто-то, знавший меня в прежней жизни, сумел бы меня разыскать и опознать. X. всего лишь маленький городок, в стороне от больших дорог, туристам он неизвестен, а большую часть дня я сидел в глубине ремонтной ямы или лежал под автомобильным двигателем. Да и вообще, что мог бы потребовать у меня тот, кто, по непонятной случайности, отыскал бы мой след? У меня не было денег, у меня не было возможности их получить. Война, на которой я побывал, закончилась больше пяти лет назад, я наверняка попал под амнистию.
Я попытался, как можно спокойнее, рассмотреть все гипотезы, которые напрашивались после прочтения письма. Было ли оно результатом долгих и терпеливых поисков, расследования, круг которого, постепенно сужался вокруг меня? Предназначалось ли оно человеку, имя которого я носил, или же его однофамильцу? Или какой-нибудь нотариус принимал меня за наследника огромного состояния?
Я читал и перечитывал письмо, снова и снова пытаясь отыскать в нём какое-нибудь дополнительное указание, но находил лишь новый повод для ещё большего любопытства. Являлось ли это «мы» в письме эпистолярной условностью, общепринятой в деловой переписке, где подписавшийся выступает от имени своей фирмы, или же я имел дело, по меньшей мере, с двумя корреспондентами? И что означало «MD», следовавшее, в заголовке, за именем Отто Апфельшталя? Как правило, – я проверил это в словаре бытовой лексики, который мне дала посмотреть секретарша станции техобслуживания, – имелась в виду американская аббревиатура «Medical Doctor», но сокращение, принятое в Соединённых Штатах, оказывалось бессмысленным в письме от немца, пусть и врача; не означало ли это, что Отто Апфельшталь не немец, а американец, хотя он и писал из К.; в этом не было ничего удивительного: в Соединённых Штатах немало немецких эмигрантов, многие американские врачи – немецкого или австрийского происхождения; но что нужно было от меня американскому врачу и зачем он приехал в К.? Допустимо ли, чтобы врач, какой бы национальности он ни был, указал на почтовой бумаге свою профессию, но заменил сведения, которые все вправе ожидать от врача, – его домашний адрес или адрес его приёмной, номер телефона, часы работы, должность в больнице, и т. п., – на старомодный и загадочный герб?
Весь день я раздумывал о том, что мне следовало делать. Должен ли я идти на встречу? Или немедленно бежать и начинать где-нибудь в Австралии или Аргентине ещё одну нелегальную жизнь, заново выковывая хрупкое алиби нового прошлого, новой личности? За эти часы моё беспокойство уступило место нетерпению, любопытству; я лихорадочно представлял себе, что эта встреча изменит мою жизнь.
Часть вечера я провёл в городской библиотеке, листая словари, энциклопедии, справочники в надежде обнаружить там сведения об Отто Апфельштале, указания на другую расшифровку сокращения «MD» или на описание герба, но ничего не нашёл.
На следующее утро, охваченный цепким предчувствием, я засунул в свою дорожную сумку немного белья и то, что можно было бы назвать, – не будь это до такой степени смешно, – моими ценностями: радиоприёмник, серебряные карманные часы на цепочке, которые вполне могли принадлежать моему прадеду, приобретённая в В. маленькая перламутровая статуэтка, редкая причудливая раковина, которую мне как-то прислала моя «фронтовая крёстная». Хотел ли я бежать? Вряд ли: но на всякий случай приготовился. Я предупредил хозяйку, что, возможно, меня не будет несколько дней, и заплатил всё, что был ей должен. Потом пошёл к начальнику; сказал ему, что умерла моя мать и мне надо ехать на её похороны в Баварию, в Д. Он отпустил меня на неделю и заплатил мне авансом за истекающий месяц.
Я пошёл на вокзал, сдал сумку в автоматическую камеру хранения. Затем, в зале ожидания для пассажиров второго класса, сидя в окружении группы португальских рабочих, отбывающих в Гамбург, я стал ждать, когда наступит шесть часов вечера.
IV
Не знаю, где разорвались те нити, что связывали меня с моим детством. Как у всех или почти всех, у меня были отец и мать, горшок, кроватка с решёткой, погремушка, а позднее велосипед, на который я, якобы, никогда не садился без криков, до ужаса напуганный мыслью о том, что сейчас поднимут, а то и вообще снимут два дополнительных колесика, которые удерживали моё равновесие.
Моё детство принадлежит к той категории вещей, о которых я знаю, что почти ничего о них не знаю. Оно – позади меня, и вместе с тем, оно – та почва, на которой я вырос, оно принадлежало мне, с каким бы упорством я не заявлял, что больше оно мне не принадлежит. Я долго пытался обойти или скрыть эту очевидность, замыкаясь в безобидном статусе сироты, никем не рождённого, ничейного ребёнка. Но детство – это вовсе не ностальгия, не ужас, не потерянный рай, не Золотое Руно; возможно, это горизонт, точка отправления, координаты, позволяющие линиям моей жизни вновь обрести смысл[3]3
…вновь обрести смысл – полисемия существительного «sens». Выражение «trouver (leur) sens» можно перевести здесь как «обрести смысл» и «найти направление».
[Закрыть]. Даже если в подтверждение своих маловероятных воспоминаний я могу прибегнуть лишь к пожелтевшим фотографиям, редким свидетельствам очевидцев и несерьёзным документам, мне ничего не остаётся, как мысленно возвращать то, что я слишком долго называл безвозвратным; то, что было, то, что остановилось, то, что завершилось: то, что, несомненно, было для того, чтобы сегодня уже не быть, но было и для того, чтобы я всё ещё был.
Два моих первых воспоминания не являются совершенно неправдоподобными, даже если и очевидно, что многочисленные вариации и псевдоуточнения, которыми я дополнил своё отношение к ним – устное или письменное, – глубоко их изменили, а то и полностью исказили.
Первое воспоминание могло бы разворачиваться в рамках задней комнаты лавки моей бабушки. Мне три года. Я сижу в центре комнаты, посреди разбросанных газет на идиш. Семейный круг окружает меня со всех сторон: это ощущение окружения не сопровождается никаким чувством давления или угрозы; напротив, оно – тёплая защита, любовь: вся семья, её целостность, полнота – тут, собранная вокруг ребёнка, который только что родился (не говорил ли я только что, что мне было три года?), словно неприступная крепостная стена.
Все в восторге оттого, что я узнал и указал букву древнееврейского алфавита: по форме она могла напоминать квадрат, разомкнутый в нижнем левом углу, что-то вроде

а называться могла гаммет или гаммель1. Всё происходящее своей тематикой, мягкостью, светом кажется мне похожим на какую-то картину, возможно, существующую у Рембрандта, а возможно и выдуманную, которая называлась бы «Иисус перед книжниками»2.
Второе воспоминание – короче; оно больше похоже на сон; оно кажется мне ещё более очевидно-сказочным, чем первое; оно существует в нескольких вариантах, которые, накладываясь друг на друга, делают его с каждым разом всё иллюзорнее. Самое простое изложение могло бы быть таким: мой отец возвращается с работы; он даёт мне ключ. В первом варианте этот ключ – золотой; во втором это не ключ, а золотая монета; в третьем я сижу на горшке, когда отец приходит с работы; ещё в одном, отец даёт мне монету, и я её проглатываю, в семье все волнуются, на следующий день её находят в моих испражнениях.
1. Подобного избытка точности достаточно для того, чтобы разрушить это воспоминание или, во всяком случае, ввести в него букву, которой там не было. На самом деле есть буква «Гиммель» и мне нравиться верить, что она могла бы быть инициалом моего имени; эта буква ничуть не похожа на знак, который я начертил и который, в крайнем случае, мог бы сойти за букву «мен» или «М». Моя тётя Эстер рассказала мне недавно, что в 1939 году – мне было тогда три года – тётя Фанни, младшая сестра моей матери, иногда увозила меня из Бельвиля к себе. В то время, Эстер жила на улице Дезо, неподалёку от Версальского проспекта. Мы ходили играть на берег Сены, рядом с большими кучами песка; одна из игр, в которую играла со мной Фанни, заключалась в том, что я называл буквы в газете, но в газете не на идиш, а на французском.
2. В этом воспоминании или псевдовоспоминании Иисус – новорождённый младенец, окружённый благочестивыми старцами. Все картины, названные «Иисус среди книжников» изображают его взрослым. Картина, на которую я ссылаюсь, – если таковая вообще существует, – вероятнее всего «Введение во Храм».
V
Было ровно шесть часов, когда я прошёл через вращающуюся дверь гостиницы Бергхоф. Большой холл был почти пуст; вальяжно прислонившись к колонне и скрестив руки, тихо переговаривались три молодых грума в красных жилетах с золотыми пуговицами. Портье, которого нетрудно было узнать по широкой накидке зелёно-бутылочного цвета и кучерской шляпе с пером, пересекал по диагонали холл, неся два больших чемодана вслед за дамой, держащей на руках маленькую собачку.
Бар находился в глубине холла и был едва отделён от него перегородкой с просветами, украшенной высокими зелёными растениями. К моему большому удивлению там не было ни одного посетителя; дым от сигар не плавал в воздухе, сгущая атмосферу и слегка затрудняя дыхание; там, где я ожидал найти приглушённую суету, гул двух десятков разговоров на фоне пресноватой музыки, присутствовали лишь чётко очерченные столы, правильно расстеленные скатерти, сверкающие медные пепельницы. Благодаря кондиционеру здесь было почти прохладно. За стойкой из тёмного дерева и стали, в слегка помятом пиджаке сидел бармен и читал «Франкфуртер Цайтунг».
Я сел поодаль. На какую-то секунду подняв глаза от своей газеты, бармен вопросительно глянул на меня; я заказал пиво. Приволакивая при ходьбе ногу, он принёс кружку с пивом; я отметил, что он был очень старым, его испещрённая морщинами рука слегка дрожала.
– Посетителей у вас немного, – сказал я, отчасти чтобы что-нибудь сказать, отчасти потому, что это показалось мне всё-таки странным. Не ответив, он покачал головой и неожиданно спросил у меня:
– Не желаете бретцели?
– Простите? – переспросил я, не понимая.
– Бретцели. Бретцели к пиву.
– Нет, спасибо. Я никогда не ем бретцели. Дайте мне лучше газету.
Бармен повернулся, но, видно, я невнятно сказал или он не обратил внимания на мою просьбу, поскольку он направился не в сторону подставки с газетами, прибитой к стене, а вернулся к стойке, положил поднос и вышел через маленькую дверь, вероятно, соединявшую бар с подсобным помещением.
Я посмотрел на часы. Было всего лишь пять минут седьмого. Я встал и сам отправился за газетой. Это было экономическое приложение к ежедневной люксембургской газете «Люксембургер Ворт» двухмесячной давности. Добрых десять минут я просматривал его, сидя за своей кружкой пива, совершенно один в баре.
Нельзя было сказать, что Отто Апфельшталь опаздывал; но и сказать, что он пришёл вовремя, тоже было нельзя. Всё, что можно было сказать, всё, что можно было себе сказать, всё, что я мог себе сказать, это то, что при любой встрече следует всегда учитывать минут пятнадцать на опоздание. Я не должен был испытывать чувства неуверенности, у меня не было ни малейшего повода для беспокойства, и, тем не менее, отсутствие Отто Апфельшталя ставило меня в неловкое положение. Было больше шести часов, а я по-прежнему сидел в баре и ждал его, тогда как сидеть в баре и ждать меня должен был он.
Около шести двадцати – я уже отложил газету и давно допил пиво – я решил уйти. Возможно, у администратора гостиницы лежало адресованное мне послание Отто Апфельшталя; возможно, он ждал меня в одном из залов для отдыха, или в холле, или в своём номере, возможно, он извинялся и предлагал перенести нашу беседу? Внезапно всё в холле пришло в какое-то суетливое движение: группа из пяти-шести человек ворвалась в бар и шумно уселась за стол. Почти в ту же секунду из-за стойки вынырнули два молодых бармена. Увидев их, я невольно отметил, что им вместе было не больше, чем их коллеге, который обслуживал меня.
Я позвал одного из барменов, чтобы оплатить счёт, – он, казалось, был слишком занят заказом вновь прибывших клиентов и не обратил внимания на меня – и именно в тот момент появился Отто Апфельшталь: человек, который, не успев войти в общественное место, останавливается, озирается с пристальным интересом, с выражением любопытства и ожидания и двигается с места, едва его взгляд встречается с вашим, не может быть никем иным, как ожидаемым вами собеседником.
Это был мужчина лет сорока, невысокого роста, очень худой, с каким-то приплюснутым лицом и очень короткими, уже седеющими волосами, подстриженными ёжиком. На нём был тёмно-серый двубортный пиджак. Если верно, что человек несёт на лице печать своей профессии, он больше напоминал не врача, а скорее уполномоченного какого-нибудь банка или адвоката.
Он подошёл почти вплотную ко мне.
– Вы – Гаспар Винклер? – спросил он, но фраза его, в сущности, была не вопросительной, а скорее утвердительной.
– Э-э… да… – неудачно ответил я, приподнимаясь, но он жестом удержал меня.
– Нет, нет, не вставайте. Присядем; удобнее будет беседовать.
Он сел. Взглянул на пустой бокал.
– Я вижу, вы любите пиво.
– Бывает, – сказал я, не зная, что и ответить.
– Я предпочитаю чай.
Он чуть повернулся к стойке и приподнял два пальца. Тут же подскочил бармен.
– Мне чашку чая. Желаете ещё кружку пива? – спросил он у меня.
Я кивнул.
– И кружку пива для господина.
Я чувствовал себя всё более и более неловко. Что я должен был делать: спросить, зовут ли его Отто Апфельшталь? Спросить напрямик, в упор, что ему от меня нужно? Я достал пачку сигарет и предложил ему закурить, но он отказался.
– Я курю только сигары, да и те после ужина.
– Вы – врач?
Мой вопрос – вопреки моим наивным предположениям, – похоже, его не удивил. Он чуть улыбнулся.
– Неужели то, что я курю сигары после ужина, заставило вас подумать, что я врач?
– Это один из вопросов, которые я задаю себе о вас с того момента, как получил ваше письмо.
– И много у вас ещё вопросов?
– Есть ещё несколько.
– Какие?
– Ну, например, чего вы от меня хотите?
– Это действительно вопрос, который напрашивается в первую очередь. Желаете, чтобы я ответил на него прямо сейчас?
– Я был бы вам очень признателен.
– Я мог бы предварительно задать один вопрос вам?
– Пожалуйста.
– Вы когда-нибудь задумывались о том, что случилось с тем человеком, который подарил вам своё имя?
– Простите? – переспросил я, не понимая.








