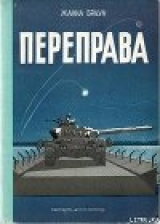
Текст книги "Переправа"
Автор книги: Жанна Браун
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
Глава XXV
– Где это вы пропадали всю ночь, гражданин Малахов?
– Я же тебя предупредил, что поеду в город.
– А какую фильму смотрели?
Малахов подавился борщом и закашлялся надолго. Хуторчук неспешно намазал на кусочек хлеба горчицу, присолил и, отправив все это в рот, зажмурился от удовольствия.
– С чего ты взял? – спросил Малахов, вытирая вспотевшее от напряжения лицо.
– С билетов, сударь. Чтобы замести следы бурной жизни, умные люди их выбрасывают, а не хранят в карманах вместе с носовыми платками. Прошу…
И он жестом фокусника положил на стол два использованных билета в кино.
– Вы обронили их, сударь, когда вытирали ручки, брезгуя общим полотенцем.
– Ну, знаешь… Это старые билеты.
– Ага. Со вчерашнего дня они здорово успели постареть.
Малахов отодвинул тарелку.
– Не понимаю, Виталий, почему ты взял на себя роль ментора? Допустим, я ходил вчера в кино. Что дальше?
– Ничего. Ходи себе на здоровье. А с кем, не секрет?
– Не секрет. С Ксюшей Груздевой. Потом я проводил ее до общежития. Какие подробности еще тебя интересуют?
Но Виталий был невозмутим и небрежно ироничен.
– Естественно. Не бросать же девушку на улице. Тем более такую девушку…
– Объяснись, – еле сдерживая закипавшую в нем злость, попросил Малахов, – что значит – такую?
– Дочь начальника, – спокойно сказал Хуторчук, – я уже предупреждал тебя, но ты…
Он замолчал. Раздатчик принес картошку с тушенкой и клюквенный кисель.
– Но ты остался глух, – продолжал Виталий вполголоса, когда раздатчик скрылся в кухне, – с дочками начальников не шутят.
Малахов обиделся всерьез. Хуторчук говорил с ним так, словно он, Малахов, пошлый фат, от которого нужно оберегать девушек.
– Для меня все равно, чья она дочь – министра или уборщицы, – сказал он с мрачным достоинством, – не понимаю, что дает тебе право обвинять меня в подобном… в подобном…
Он поискал точное слово, не нашел и обиженно уткнулся в тарелку. Хуторчук виновато улыбнулся, тронул Малахова за локоть.
– Прости, Боря. Неловко получилось. Я тебя не обвиняю… Беспокоюсь о тебе – это верно. Когда испытаешь на себе…
Он замолчал и стал задумчиво катать по столу хлебный шарик. Малахов подождал, потом сказал с недоумением:
– Ты все время как-то странно говоришь… намеки, недосказы. Хочешь, чтоб я сам догадался? Извини, не буду. Не люблю гадать о личной жизни моих друзей.
– И правильно делаешь. Личная жизнь друзей не всегда кино. Иногда драма. Чаще – комедия…
– А у тебя?
– У меня оборванная кинолента.
– Ты… был женат?
– Был.
Он встал, надел фуражку и снова стал энергичным старшим лейтенантом Хуторчуком, ежесекундно готовым к труду и обороне.
– И хватит об этом, филолог. Пошли домой, отдохнем до пятнадцати сорока. Возражения есть?
В комнате было свежо. Уходя в полк, они всегда оставляли форточку открытой, хотя батареи грели слабо. Малахов лег на кровать и укрылся пледом, привезенным из дома. Он начал было задремывать, когда Хуторчук сказал:
– Я был женат, Боря, на очень милой, очень красивой девушке… Но однажды…
Он замолчал. Малахов приподнялся на локте и взглянул на Виталия поверх тумбочки. Хуторчук лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в потолок. В этой позе он лежал всегда, когда одолевали его серьезные и невеселые мысли. Малахов подождал немного и напомнил:
– Но однажды?..
– Однажды моя милая и очень красивая жена сказала, что лучше бы она вышла замуж за Славу Куранова, своего однокурсника, который любил ее и не раз предлагал сердце и жилплощадь… Правда, вместе с предками, сказала моя очень милая жена, но его предки тоже очень и очень милые и известные люди… Так вот, лучше бы она вышла за него.
– Почему?
– Потому что Слава работает в Главке на должности с хорошим окладом – не чета моему лейтенантскому содержанию. Каждый день приходит домой вовремя, а ты, то есть я, с утра до ночи в своей армии… Дежурства, командировки, учения… Никакой личной жизни. Да плюс жизнь не в городе, а где-то в гарнизоне. Я молча собрал в чемодан казенные шмотки и ушел.
– Так сразу? – поразился Малахов. – Ты… ты не любил ее?
– И сейчас люблю, – ровным голосом сказал Хуторчук.
– Не понимаю… Как же ты мог?! Мало ли что она сказала в раздражении. Нельзя на всякую ерунду обращать внимание!
Хуторчук резко выпростал руки и сел.
– Спокойнее, филолог. В этих вопросах ерунды нет. Если она вспомнила о Куранове, значит, ей все равно, за кем быть замужем… Не я, Виталий Хуторчук, один-единственный из всех мужиков планеты ей нужен, а удобный муж с хорошим окладом. Я так не согласен. И все. Точка.
– Все-таки это жестоко, – подумав, сказал Малахов.
– А жизнь вообще жестокая штука, если не юлить и не приспосабливаться к удобненькому и тепленькому. Я считаю, Борис, если работать, так в полную силу. Любить – тоже. А иначе зачем? Ладно, филолог, поговорили и будя.
Хуторчук лег лицом к стене и затих. А у Малахова напрочь пропал сон. Он думал о Ксюше и о Виталии. Поступок друга был для него непостижимым. «Нельзя так рубить», – думал Малахов, сознавая в то же время, что человеческое достоинство и половинчатость, всепрощение несовместны. Конечно, его забота теперь понятна, но у них с Ксюшей сложились добрые, товарищеские отношения. Разве не могут просто и хорошо дружить женщина и мужчина? Ну, а если серьезно? Во-первых, он не собирается оставаться в армии, а если… Ксюша выросла в семье военного и хорошо знает, что такое служба. Она-то никогда не упрекнет мужа за то, что он работает в полную силу. Тут Виталий прав: служить так служить, а иначе зачем? Да и солдаты мгновенно усекают, с каким настроением служит офицер, и соответственно к нему относятся. Недаром Виталию солдаты даже подражают во всем. Малахов вспомнил, как обрадовались его воины, когда после развода он раздал им распечатанные экземпляры песни. Мишка не подкачает, подберет хорошую мелодию. То-то будет разговоров в полку после строевого смотра… А завтра снова тренировочный выезд. Надо с этим делом поднажать, а то вдруг…
– Виталий, учения всегда бывают внезапно?
– Всегда, – пробормотал Виталий, – спи.
– Не могу. Сам же разбередил.
– Справедливо. Упрек принят. Что, мысли появились?
– Появились…
Виталий лег на спину и заложил руки под голову.
– Даже плановые учения, филолог, всегда начинаются внезапно. То, что они будут, известно, но в какой день, никто не знает. Сигнал «сбор», и… вперед с песней!
– Расскажи: как это бывает?
– Обычно. Командир сообщает комбатам, комбаты – ротным, ротные, естественно, взводным, прапорщикам, сержантам. Начинают готовить матчасть, проводить тренировочные занятия с личным составом. А в день икс дается сигнал, и все заверте…
– Хутор, не ерничай. Я же серьезно прошу.
– Угу. Видишь ли, мой друг, весь механизм армии в обычные дни, как бы это поинтеллигентнее выразиться… с налетом провинциальности, что ли… В городе потоки машин, бешеное движение, людской водоворот, а в армии, в подразделениях тихо. Все что-то не спеша делают… Есть некая заторможенность во всем.
– Я думал, это только мне кажется, – сказал с удивлением Малахов.
– Другим тоже. А перед учениями эта заторможенность исчезает. Все начинает быстрее и четче двигаться, работать, жить. А в день икс, с получением сигнала, точно свежий ветер проносится по части, срывая все запоры, и армейский механизм начинает работать в таком бешеном темпе, что штатским и не снился. На последних учениях наш батальон не был задействован. Я прибыл к командиру с донесением и имел возможность увидеть его со стороны. Это – зрелище! Там словно не было ни людей, ни отдельных деталей. Работал четкий автомат, в железном ритме. Как часы!
«Поэтому на всех тренировках и ведется борьба за секунды, – подумал Малахов. – Понтонеры еще только начинают наводить мост, а колонны техники уже выдвигаются и практически в ту минуту, когда последнее звено касается другого берега, головная машина танковой колонны должна въехать на мост.
– От скорости и скрытности наведения моста зависит оперативный успех, – сказал Виталий, – зачастую умелое решение такой задачи влечет за собой коренные изменения всего хода операции.
– Даже так? А ты не преувеличиваешь значение понтонеров?
– Шевелите мозгами, сударь! Что такое переправа? Это перевес техники на том или ином участке фронта, внезапный удар во фланг или прорыв в тыл – и противник просто не успеет сконцентрировать на этом участке достаточные силы, чтобы отразить мощную лавину или забить брешь в прорыве. А вследствие нашего неожиданного удара противник начинает метаться и затыкать дыры, то есть вынужден вести военные действия по системе «тришкин кафтан», что и требовалось, ясно? Это, конечно, в том случае, если у противника нет резерва. Если резерв есть, то бросают его, но… это опять же связано с потерей времени. Кроме того, понтонеры могут в одном месте навести сразу две или три переправы и по ним за считанные часы перебросить такое количество боевой техники, что может быть с успехом решена задача во фронтовом масштабе. Надеюсь, я убедил тебя, филолог, как много зависит от понтонеров? Вот они какие мы! Пока без нас разве только авиация может обойтись.
– Это все впечатляет, – сказал Малахов упрямо, – но я-то просил тебя рассказать об учениях.
– Я дал тебе нравственно-психологический заряд, – сказал Хуторчук с укоризной, – поднял твой боевой дух, вдохнул в тебя веру в глобальную значимость родных войск – это главное, филолог, и основополагающее. А учения увидишь сам. Рассказать о них невозможно. Все равно что слепому показывать немое кино.
– Благодарствую за сравнение.
Малахов взглянул на часы. До условленного времени оставалось пятнадцать минут. «Высплюсь ночью», – подумал он и встал.
Хуторчук взялся руками за изголовье кровати, подтянулся и рывком спрыгнул на пол.
– Время лежать и время бежать, – философски изрек он. – Могу похвастаться, филолог, мои гаврики подвели сегодня медпункт под крышу. Скоро капитан Саврасов переедет в новый, модерновый, многокоечный дворец.
– Интересно, кого он будет лечить в модерновом, если в старом мой Степанов пропадает в одиночестве?
– Наше дело петушиное, – весело сказал Хуторчук, – прокукарекал, а там пусть хоть не рассветает. Нам, главное, вперед и с песней!
Малахов снова вспомнил о песне, которую привез сегодня. Все это время он ощущал неловкость за молчание, о котором просили ребята. Им хотелось удивить полк, но Хуторчук щедро делился с ним всем, что знает и умеет… Да и что бы он вообще делал без Виталия?
– Знаешь, у нас теперь есть своя, собственная песня.
– Не понял…
– Понимаешь, я не хотел говорить прежде времени…
Виталий огорошенно сел и положил сапог, который собирался надеть, на тумбочку.
– Понятно… Одному котлеты, а другому мухи? Неужели не мог на две песни расстараться?
Малахов с огорчением подумал, что Виталий прав. Если бы он сразу догадался, а теперь обращаться заново…
– Ладно, не угрызайся… Дай хоть слова посмотреть.
Малахов протянул ему лист с текстом.
Речка – водная преграда
У солдата на пути.
Через речку эту надо
Переправу навести.
Отставить разговоры!
А песню – заводи!
Саперы-понтонеры
Повсюду впереди!
– Пока годится, – сказал Виталий, – сами сочиняли?
– Что ты! Известный поэт писал – Вольт Суслов.
Кто-то где-то лезет в горы,
Кто-то в землю, словно крот!
А солдаты-понтонеры
Над волною круглый год.
– Ну, положим, круглый год над волною – это перебор. Волна зимой имеет обыкновение замерзать.
– Не придирайся. Это гипербола – главное поэтическое оружие, – сказал Малахов, смеясь.
– Может быть, может быть, поэзия не моя стихия. Я все больше над волною круглый год. Пропускаем припев…
В небе молнии сверкают,
Злые ветры бьют в упор.
Нас они не испугают!
Понтонер не паникер!
А вот это по мне. Метко сказано!
Уважать нас есть причины
И любить – наверняка!
Настоящие мужчины —
Инженерные войска!
Неплохо, в общем и целом, филолог. Совсем даже ничего. Главное, отражена профессиональная суть. Ладно, в этом деле ты обошел меня на полголовы. Жди реванша.
– Интересно, какого?
– Увидишь. На учениях. Там мы будем посмотреть, кто настоящие мужчины в инженерных войсках.
Все-таки он был задет, хотя и прятал обиду за шуткой, это Малахов сразу почувствовал. И должен был предвидеть. Виталий всегда переживал, если его рота хоть в чем-то отставала.
Глава XXVI
После разговора с командиром Груздев не переставал думать о роте Дименкова. Командир прав – внешне там все благополучно, но… взять, к примеру, роту Хуторчука. Два нарушения, конечно, со счета не скинешь, но его солдаты не просто выполняют задачи, а проявляют инициативу, стараются отдать максимум. А когда его рота идет, любо-дорого: ни одного унылого лица! Почему же у Дименкова такой отдачи нет? Может, он излишне контролирует каждый шаг взводных, подавляет в них самостоятельность, а это передается и солдатам?
В это утро Груздев пришел в полк с намерением еще раз побывать на занятиях роты, заново присмотреться к солдатам. Почувствовать и понять нравственный климат, в котором они живут.
На столе дежурного по полку Груздева ждала телеграмма из Душанбе: «Все в порядке. Помог военком. Большое спасибо от меня и Фариды. Тураев». Груздев обрадовался. Хоть он и поручился за солдата перед командиром, но тревога не оставляла его. Слишком молод и горяч парень, а ситуация сложная.
Перед отъездом Саид зашел попрощаться.
– Придешь, выясни сначала, сама ли Фарида замуж идет, – сказал ему Груздев, – если сама – будь гордым, понял? Я лично и бровью бы не повел в ее сторону. Пусть видит, какого парня теряет. Ну, а если родители принуждают – иди к военкому. Армия не выдаст. Ты все понял?
– Не беспокойтесь, товарищ подполковник. Я не подведу.
Сдержал свое слово солдат – молодец! И телеграмму догадался послать – знает, что о нем беспокоятся в полку.
– Здравия желаю, Владимир Лукьянович, – сказал, входя в штаб, майор Черемшанов и с нахальным любопытством уставился на телеграмму: – Надеюсь, ничего серьезного?
Груздев сложил телеграмму, спрятал в карман кителя и сказал мрачно, с наигранной значительностью:
– Более чем, Сергей Сергеевич. Более чем!
Черемшанов насторожился.
– Сверху?
– Именно. Ну, я пошел. Скажи полковнику, что я у Дименкова.
– Подождите, Владимир Лукьянович, как же так? А телеграмма? Надо же меры принимать! О чем хоть она?
– На ходу? О таких вещах? Вы шутите…
И довольный, что в кои-то веки удалось разыграть хитроумного майора, Груздев в превосходном настроении двинулся в парк, где готовилась к выходу в поле рота Дименкова. Недалеко от КПП Груздева обогнал капитан Саврасов с санитарной сумкой в руках. Медик что-то крикнул ему на бегу, Груздев не расслышал, что, но предчувствие беды словно толкнуло его в спину. Он ускорил шаги, потом побежал, молясь про себя всем богам, чтобы беда не коснулась людей.
– Какая у вас была задача?
– Отработка нормативов подачи машин к урезу воды и обучение понтонеров на воде, товарищ полковник, – осипшим от испуга голосом доложил капитан Дименков.
Муравьев бросил фуражку на рожок стойки и не раздеваясь, в шинели, сел за свой стол.
– Как это случилось, капитан?
Дименков понуро стоял с фуражкой в руке на полшага впереди Малахова, и он видел, как обреченно шевельнулась и замерла под шинелью сутулая спина капитана.
– Товарищ полковник, разрешите? – сказал Малахов и сделал шаг вперед. Он считал виновным себя и не желал прятаться за спину командира роты. – Несчастный случай произошел в моем взводе и по моей вине.
Муравьев оторвал тяжелый взгляд от поникшего даже не головой, а всем своим существом капитана и посмотрел на Малахова. В гневно прищуренных глазах полковника синела сталь.
– Слушаю вас, лейтенант.
Груздев пошевелился в своем кресле, вытащил сигарету и закурил. Все это время он молчал, и Малахов подумал, что у замполита есть все основания разочароваться в нем как в офицере. Малахов не искал оправданий. Если бы он с первого же дня взял взвод в твердые руки, заставил капитана дать ход рапорту на Зиберова, а не тратил время на психологизмы и сочинение песенок – все было бы иначе. Скромный, душевный Рафик Акопян не лежал бы сейчас в медпункте с искалеченной ногой, в ожидании отправки в гарнизонный госпиталь, а на Зиберова сегодня не пришлось бы писать записку об аресте.
Хуторчук говорит, что офицер должен точно мыслить и кратко излагать. Почти афоризм, красивый и неприменимый на деле, как и большинство афоризмов. Если судить по форме, то все происшествие уложится в несколько минут. Когда первые машины выезжали из парка, Зиберов на ходу прыгнул в КрАЗ, отобрал у перепуганного Павлова руль: «Дай поведу немного. Не ты один умеешь!», дал газ и, не сумев удержать интервал, ударил впереди идущую машину. Задний борт от удара раскрылся, Рафик Акопян, сидевший с края, выпал и попал ногой под переднее колесо КрАЗа…
Так выглядит происшествие, если по форме и кратко. А если по существу?
Утром Зиберов рассыпал в умывальнике коробку зубного порошка. Зуев приказал ему убрать за собой. Зиберов оскорбился и стал кричать, что он не дневальный – это их дело убирать! Что сержант выручает своего дружка Лозовского, который сегодня дневалит, и вообще развел любимчиков: одним все прощает, а других держит в черной шкуре… А он, Зиберов, «никому шестеркой не будет»! Михеенко и Павлов поддержали Зуева, и то, что Дима Павлов встал на сторону сержанта, привело Зиберова в ярость…
Малахов обязан был сразу же наказать Зиберова за пререкания и грубость, но… вспомнил свой рапорт и решил поговорить с Зиберовым после занятий. Провести еще одну беседу…
Но утреннее происшествие тоже не исчерпывает существа дела. Разве Зиберов сегодня впервые проявил себя, как мелкий, злой, внутренне распущенный человек? Если быть точным и далеко не кратким, то придется начинать с первых дней…
– Я допускал мягкотелость и позволил недисциплинированному солдату распуститься окончательно. Это и явилось причиной несчастного случая, товарищ полковник, – твердо сказал Малахов.
И услышал, как возле окна откашлялся Черемшанов, словно у него застряло в горле. Груздев вынул изо рта сигарету и повернулся к Малахову всем корпусом.
– Так уж и мягкотелость, – пробасил он озадаченно, – пытался же воздействовать?
Малахов не принял спасательный круг. Жизненный закон жесток: не умеешь плавать – не лезь в воду.
– Мало и неумело, товарищ подполковник.
Черемшанов обошел Малахова и встал к нему лицом.
– Лейтенант, не лезь на крест. Подожди, пока поведут.
– И давно вы пришли к такому выводу? – спросил Муравьев.
– Нет, – честно сказал Малахов, – сегодня… У машины.
Груздев неожиданно засмеялся.
– Каков хитрец, а? Так себя высек, что командованию остается только вынести выговор и отпустить с миром…
У Малахова мгновенно запылали и щеки и уши. Неужели Владимир Лукьянович на самом деле так дурно его понял?
– Лейтенант приходил ко мне по этому вопросу, – вдруг сказал Дименков, – да времени не было поговорить. Стройка, сроки…
Малахов подождал, скажет ли ротный о рапорте, но он промолчал. «Ну и правильно, – подумал Малахов, – теперь-то зачем?»
Муравьев встал, застегнул шинель.
– Дисциплинарное взыскание будет наложено на солдата впервые?
Дименков быстро и виновато взглянул на Малахова, стоящего с пылающим, как у школьника, лицом.
– Так точно, впервые, товарищ полковник.
– Составьте записку на пять суток, капитан. Вы свободны. Начальника штаба и замполита прошу остаться.
Малахов и Дименков вышли из кабинета. Лицо капитана и короткие редкие волосы потемнели от пота. Он достал носовой платок и повернулся к Малахову:
– Ну зачем вы так-то, Борис Петрович? Правду майор сказал: как на крест… Всякое за службу бывает. Нервы в вас играют.
– Да, конечно, – сказал Малахов.
Он еще не мог разговаривать – слишком велико было напряжение. Он даже не обратил внимания, что капитан первый раз назвал его по имени-отчеству.
Груздев окликнул Малахова, когда он уже выходил из штаба. Он поднялся наверх и следом за Груздевым вошел в пустой парткабинет. Секретарь парткома был в командировке, и замполит второй день работал здесь – в его кабинете меняли рассохшийся паркет.
– Послушай, сынок. Ты необъективен к себе, следовательно, не сможешь быть объективным к другим. Закон равновесия… Не кидайся в крайности. Ты берешь вину на себя, значит, те, кто виновен так же, останутся безнаказанными… Пусть нравственно, но безнаказанными, что же здесь хорошего? Ты сам-то убедился, во что выливается безнаказанность?
– Убедился, товарищ подполковник.
– Ну и ладно. Иди, сынок, иди и работай.
– Спасибо, товарищ подполковник. А… а выговор будет?
Груздев улыбнулся.
– А как же! Настоящая служба, она, брат, с выговора только и начинается. Так что с днем рождения, взводный!
Малахов сбежал вниз, но Дименкова возле штаба не было. Малахов постоял на крыльце, стараясь дышать глубоко и ровно, чтобы восстановить душевное равновесие. У него не было права идти к солдатам в разобранном виде. Мимо штаба проехала «скорая помощь», повезла Рафика. В госпитале сделают рентген, и будет ясно, что у него с ногой и насколько это серьезно. Он вспомнил о Зиберове и впервые пожалел, что на нем офицерская форма…
…Малахов не помнил, как он очутился возле Рафика. Услышал крик и словно перелетел по воздуху. Сначала ему показалось, что Акопян погиб. Это была страшная минута. Когда Акопян застонал и попытался сесть, Малахов чуть не заплакал от счастья.
Солдаты толпились вокруг них, испуганные, недоумевающие. Никто не понимал, как Зиберов очутился за рулем. Потом, спустя минуты, кто-то вытащил Зиберова из машины. И крик Павлова:
– Это он виноват! Он! Руль у меня отобрал и газанул!
И мгновенный взрыв ярости… Если бы не Зуев и Михеенко, Зиберову пришлось бы плохо.
А Малахов стоял с Акопяном на руках и смотрел на своих солдат. Вот тогда и сдавила его сердце беспощадная обида на себя и на них.
Дименков был в ротной канцелярии. Здесь же ждал Малахова и Зуев.
– На восемнадцать ноль-ноль соберем личный состав роты, – сказал Дименков, – хватит миндальничать с нарушителями. Сержант, оповестить командиров отделений и офицерский состав.
– Есть, товарищ капитан. Товарищ лейтенант, там вас ждут…
– Я сейчас, – сказал Малахов капитану и вышел вместе с Зуевым в коридор. За дверьми Ленинской комнаты стоял крик.
– Что за базар? – спросил Малахов.
– Товарищ лейтенант, – Зуев замялся, и Малахов насторожился: кого-кого, а сержанта мямлей не назовешь. – Товарищ лейтенант, вы… у машины сказали ребятам: «Это на вашей совести»…
– Я? – удивился Малахов. Он совершенно не помнил, когда и кому говорил эти слова, но был готов повторить их снова.
– Большинство не понимает… Говорят, виноват Зиберов, а не мы, – Зуев хмурился и запинался. Было видно, что и ему вся эта история непросто досталась.
– Понял, – сказал Малахов, – пошли, сержант. Поговорим, наконец, как взрослые люди.
Он рванул дверь и прошел через разноголосицу на середину комнаты. Солдаты смолкли и привычно сели за столы.
– Обиделись? – с ходу спросил Малахов. – Не понимаете? Могу повторить: то, что сегодня случилось, на вашей совести! На вашей, Белосельский. На вашей, Лозовский. На вашей, Михеенко, – он перечислил по фамилиям весь взвод, чтобы ни у кого не осталось иллюзий на свой счет.
Малахов говорил жестко, и солдаты не узнавали своего лейтенанта. Они понимали, что он на взводе, но принять его слова, значит, признать и обвинение. А они не хотели быть виноватыми и возмутились:
– При чем здесь мы, товарищ лейтенант?! Это Юрка – псих!
– Юрке всегда чтоб только по его было!
– Молчать! – гневно сказал Малахов. – Стыдно слушать!
Крики стихли. От неожиданности.
– Вспомните комсомольское собрание. Вспомнили? Искалеченный Акопян – вот ему цена. Он чудом остался жив, а могло случиться, что на вашей совести была бы человеческая жизнь… На совести тех, кто на собрании спал, потому что им было неинтересно. На совести тех, кто не хотел портить отношений… И тех, кто считает своим долгом покрывать разгильдяя, раз он свой брат-солдат.
Малахов помолчал, глядя на стенд с текстом присяги. Многие невольно обернулись и тоже взглянули на стенд.
– А что в результате? – спросил Малахов в полной тишине. – Один ваш брат-солдат сидит на гауптвахте, и неизвестно, что с ним дальше будет. А второй брат-солдат лежит в госпитале… А вам что, вы сейчас обедать пойдете.
Он сел и прикрыл лоб рукой.
Солдаты еле слышно перешептывались, кашляли, скрипели стульями. Малахов и не глядя видел всех, почти угадывая, о чем они сейчас думают. Слева послышался сухой кашель – это Павлов. Он все еще не пришел в себя. В прозрачных глазах страдание. Это тот Павлов и уже не тот… Что-то же изменилось в нем за последнее время, если он решился встать на сторону сержанта против своего недавнего повелителя? А в правом углу возле окна беспокойно поскрипывает стулом Иван Белосельский. Этот зациклен на себе и все еще верит, что можно два года прослужить в армии, как в театре – зрителем. Или уже не верит? Что-то он сегодня, против обыкновения, беспокоен… Или Степа Михеенко. Этот всегда рядом с Белосельским и Лозовским. Тянется к ним умная Степина душа, тянется к городским людям, которые знают и видели больше него. Но сам в городе жить не станет. Ему нужен простор на все четыре стороны и живая земля в руках. А возле двери крутится на стуле Мишка. Он сегодня дневальный и через несколько минут ему заступать на пост возле тумбочки. Что же они молчат? Неужели мимо?
Малахов опустил руку и взглянул на солдат. Степа Михеенко тут же встал, одернул курточку, расправил под ремнем складки.
– Товарищ лейтенант, а чому вы сказали, что неизвестно, як с тем Юркою дальше будет? Отсидит пять суток, та выйдет.
– А если Акопян инвалидом останется? Не пятью сутками – дисбатом запахнет. Вот к чему ваша молчанка привела. Поймите, наконец, одно дело, когда офицер пытается объяснить, и совсем другое, когда свои же товарищи. Пора переправляться с детского берега на взрослый… Хватит играть в песочек.
– Недопоняли, товарищ лейтенант, – сокрушенно сказал Михеенко и сел.
Солдаты поддержали Степу одобрительными возгласами. Малахов почувствовал перелом в настроении и встал.
– С этого дня все. Недопонял, недослышал – не принимаю в расчет. Вас народ призвал защищать Родину – так защищайте же ее, как положено солдатам!
– Товарищ лейтенант, разрешите? – спросил Белосельский.
Малахов кивнул, внутренне ликуя, – вот оно! Первый раз Белосельский сам попросил слово на собрании. Значит, тронулся лед, тронулся!
– Разве нас призвали защищать? Я хорошо помню: когда нас провожали, никто не говорил об этом. Все говорили, что мы едем учиться, чтобы быть готовыми, если потребуется… Выходит, нас неправильно ориентировали?
Солдаты снова заговорили, вспоминая проводы в армию. Малахов утихомирил взвод и сказал с новой для него убежденностью:
– С моей точки зрения – неправильно. Эта установка неверна по сути. Армия не ПТУ и не родная школа… Мы с вами – здоровые, взрослые парни. Солдаты. Мы защищаем Родину уже тем, что мы есть у нее. Из года в год несут эту вахту поколения сыновей. Настала наша очередь. Я уверен: чем боеспособнее мы будем, тем дольше будет на земле мир. Вот с этой установкой мы будем отныне жить и работать. Есть вопросы? У вас, Белосельский?
Иван молча покачал головой.
Прерывистый сигнал, похожий на вызов междугороднего телефона, но чаще и тревожней, раздался под утро.
Солдаты еще спали, а сигнал уже проникал в мозг, как нечто постороннее, и вдруг, как вспышка – общий сбор!
И крик дежурного:
– Рота! В ружье!
И грохот множества сапог, как горный обвал с нарастающей скоростью. Ване казалось, что рушится казарма. Он одевался, еще плохо соображая, что к чему. Руки действовали сами, не дожидаясь приказа.
В эти секунды он не думал ни о чем. Не было даже страха: вдруг по-настоящему? Вдруг не учебный… В голове, точно удары крови: скорей, скорей…
Очередность действий точно жила в нем: бушлат, шапка, ремень на ходу, и напротив – в оружейную. Глаз выхватил строгое лицо Митяева, а руки уже работали: автомат, подсумок с магазинами, штык-нож, противогаз…
На улице темно. Нигде ни огонька. Только сирена, как пульс над городком, и рев двигателей в парке. Лязг оружия, тяжелое дыхание и топот сотен бегущих к машинам людей.
Рядом с Ваней, впереди него и сзади бежали его товарищи. Но не Мишки и Кольки, Степы и Вовочки… бежали по сигналу солдаты. И для каждого главным смыслом жизни стало: успеть! Успеть!..






