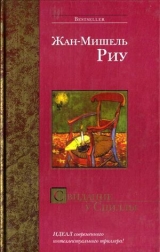
Текст книги "Свидание у Сциллы"
Автор книги: Жан-Мишель Риу
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Жан-Мишель Риу
Свидание у Сциллы
Благодарю тени, рожденные моим воображением и позволившие мне придумать персонажи этой книги. Всякое сходство с ныне живущими или умершими, а также события прошедшие или будущие – чистое совпадение или случайные фантазии.
* * *
СЕКРЕТ (определение)
Ничего не говорить. Молчать о том, кто ты такой.
Жерар Галльенн, психоаналитик
Книга 1
У Сциллы
Без тени и света. Без лжи и правды.
Клаус Хентц. Без начала и без конца: памфлет против фанатизмаИздательство Мессии
Париж, пятница, время обеда. Мы у Сциллы, в ресторане на леном берегу. Обычно я обсуждаю финансовые вложения, ценные бумаги, управление имуществом. Я принимаю клиентов у Сциллы. Я банкир. У меня высокое положение. В основном я занят поисками новых клиентов. Не важно каких. Огромные счета, состояния в суммах из десяти цифр. Нужна сноровка, чтобы говорить о деньгах, входить в доверие к богачам, соблазнять будущих клиентов. У каждого есть свои методы, у меня – метод духовника. Предельная искренность. Я соблазняю своих клиентов гурманством: приглашаю их пообедать. К моему несказанному удивлению, маю кто может устоять перед таким искушением. Я приглашаю их, и они доверчиво соглашаются. Пообедать за одним столом – не значит взять на себя какие-то обязательства. Это заблуждение. Зв столом постепенно преодолевается сопротивление, ослабляется защита. Бесплатно пообедать – долг чести. Остальное – вопрос такта.
Так добываются мои доходы. Обедая, я выпытываю. Я потрошу клиента, вытягиваю из него сведения о платежеспособности, подкидываю советы, и все благодаря магии изысканной еды. Чтобы достичь этого, необходимо надежное место для мизансцен. Я выбрал Сциллу в качестве театра моих действий. Это имя поражает. Сциллу особенно часто посещают литераторы. Не бог весть какие, но не голодные. Среди них есть скандальные авторы, успешные издатели, модные интеллектуалы. Говорят, что идеи и деньги вместе не уживаются. Сцилла – доказательство обратного. В этом месте слова чувствуют себя удобно, и с ними делают миллионы.
Без сомнения, я единственный банкир, посещающий Сциллу. Я злоупотребляю парадоксами, удивляющими моих клиентов, придумываю сюрпризы, чтобы их ублажить. И не проявляю никакого недоверия. Кроме того, я работаю осторожно в том месте, которое считают далеким от денег. Здесь я спокоен и уверен, что сумею придумать представление, и оно усыпит бдительность моих клиентов.
Директор Морис держится ближе к входу. Он стоит на страже у красного бархатного занавеса, отделяющего Сциллу от мерзостей мира. Занавес шевелится, и Морис улыбается, принимая посетителей. Почтительно, но без услужливости, ничего фамильярного. Он делает заметку в книге предварительных заказов, осведомляется о пустяках и провожает каждого на его место. Садимся. Можно расслабиться. Прежде чем исчезнуть, Морис протягивает меню Сциллы, такое огромное, что помещается только в обеих руках. Однако зачем его читать, когда появившийся как из-под земли метрдотель обо всем расскажет? Слушаем описания блюд, приготовленных Сциллой. Молчим, затем задаем вопросы. Самые смелые пытаются раскрыть тайну соуса. Напрасный труд. Секрет составляет часть сценария. Наступает время истории вин. Не избежать и историй гербов, замков и подробных описаний почв виноградников, северных или южных холмов, аромата смородины, орехов, черники, сбора позднего и раннего винограда. Выбирать самому бесполезно. У Сциллы ответственный за вина решает все по своему вкусу и настроению, в зависимости от дня недели, от его личных бредней и от суммы счета. Пятьсот или тысяча с персоны? Что касается меня, то я выбираю меню стоимостью в 690 франков. Прежде всего нам предлагают познакомиться (попробовать – уточняет метрдотель) с талантом шефа. У Сциллы знают мой вкус. Очень дипломатично нас убеждают принять самое мудрое решение. Старая тактика. Настал черед мариновать моего клиента. В полной тишине он пробегает взглядом лихо закрученные названия блюд непонятного меню. Он робеет, колеблется. Взглядом просит о помощи. Добрейший метрдотель рекомендует заранее выбранное им блюдо, способное удовлетворить вкус и любопытство вновь прибывшего. Разнообразие и отличный доход позволяют Сцилле пускать пыль в глаза: блюда подает бригада молчаливых, глухонемых вальсирующих официантов – безукоризненно и по-отечески. В течение двух последующих часов ничто не ускользнет от их внимания. Итак, я свободен и могу раскалывать моего нынешнего клиента.
Вдалеке бдит Морис. Он знает всю свою живность и ее привычки. Владея тайной маленьких знаков внимания, Морис превращает гостей в привилегированных особ: лицом к окну, спиной к свету, укромный уголок, свеже-поджаренный хлеб с соленым маслом, хрустящая зеленая фасоль без соуса, немного воды для пилюль, оставленных на скатерти. Морис сглаживает все недоразумения, но он не одинок. Метрдотель, ответственный за персонал, официанты – все выстроились за нашими стульями, чтобы мы могли спокойно есть и обмениваться секретами. Вскоре советы и секреты перетекают от одного к другому, тщательно обдумываются или откладываются на потом, и все это между грушами и сыром. Вся соль разговора состоит в перешептывании. Иногда лицо моего клиента розовеет от удовольствия. Вот он, сладкий миг: я подбрасываю пикантную информацию. Размещение капитала гарантировано, рента переведена.
Я обожаю момент, когда клиент выбирает, опьяненный изяществом места и обслуживания. По правде говоря, я обожаю у Сциллы все. Я прихожу сюда с удовольствием, пользуясь статусом члена совета директоров банка, а мои счета подтверждают его. Я люблю Сциллу так сильно, что стараюсь приходить раньше назначенного времени. Сладостные мгновения. Я один. Сажусь за стол, вытягиваю ноги, оглядываюсь. Мне хорошо. Я дегустирую планету Сцилла, забывая, зачем пришел.
Когда-то я объяснял такое состояние окружающей меня литературной суетой. Не верьте этому. Чудо Сциллы не в этом. Искать надо в другом, поднимите глаза, отрешитесь от зала и шума голосов. Приглядитесь. Волшебство Сциллы таится в ее декорациях. Кто не слышал о картинах и книгах Сциллы? Кто не знает, что на стенах висят портреты писателей, которые из века в век приходили сюда? Что сказать о полках, где собраны их манускрипты? Несметное количество оригиналов произведений – бесценные сокровища Сциллы. Даже для банкиров. Мои чувства рождаются здесь благодаря словам, не имеющим цены, неслыханному богатству, скрытому в пожелтевших рукописях, страницы которых исписаны Вольтером, Руссо, Дидро, Ламартином, Санд, Гюго, Золя, Бретоном… Список такой длинный, что голова кружится. Я давно видел эту коллекцию, но приблизиться не осмеливался. Слишком хорошо осознавал, что именно рассматриваю. Я походил на зеваку, гуляющего по улице Бонапарта и жадно заглядывающего в витрины антикваров. Я обожал издалека.
Если бы Морис не пришел мне на помощь, болезнь продолжалась бы долго. Однажды я оказался один у входа в Сциллу. То ли я пришел раньше, то ли клиент запаздывал, не важно. Морис провожал меня за столик. Он шел впереди, а я, замедляя шаги, успевал читать только названия произведений, вытесненные на корешках. Морис обернулся, улыбнулся и остановился. Так началось мое воспитание. Здесь находятся моралисты. Там мы проходим перед веком Просвещения. Затем классификация исчезает. Погружаемся в романтиков. Умышленный беспорядок начинается с сюрреалистов.
– Смотрите, – произносит Морис, – Деснос рядом с Прустом. Это, наверное, Деснос попросил…
Я прикоснулся к книге Десноса, и Морис подал мне ее:
– Держите.
Я взял книгу. Этот сборник, по-моему, стоит всего золота мира.
– Я вас оставлю, – сказал Морис, – смотрите дальше, сокровищ туг хватит. Вы будете удивлены.
Так начались мои приключения. Я почувствовал себя приобщенным к сонму избранных. С тех пор я позволял себе перелистывать шедевры, а если было время, то и пробегал глазами содержание. Иногда я дарил себе час свободы перед встречей. Не успеет пробить полдень, а я уже у Сциллы. Морис знает, почему я прихожу так рано. Мы переглядываемся. Он прикрывает глаза, что означает для меня «сезам». Я прохожу к полкам. Сегодня будет Мопассан, новеллы. Один час – это немного. Хотелось надеяться, что клиент опоздает. Одного часа недостаточно. Увы, клиент приходит вовремя. Придется оторваться, закрыть книгу, вернуть ее на место и напомнить себе, кто я: банкир в разведке. Я улыбаюсь клиенту, жму руку. Сколько весит его состояние? А рука клиента стирает с моейладони нежность страниц, которые я гладил минуту назад.
Ужасная потеря.
Так тяжело, что в понедельник я совершил кощунство: украл рукопись.
Зал Сциллы почти пуст. Я воспользовался моментом, чтобы обследовать еще неизвестную мне полку. Она находилась в центре Сциллы, подвешенная к колонне, поддерживающей потолок зала. Под ней стоял роскошный столик издателя Поля Мессина. Его имя было так известно, его дом так знаменит, что странное смущение мешало мне подойти. Несмотря на ободрение Мориса, я колебался. Мессии казался мне исключительным, а его стол частной собственностью, вход куда простому банкиру запрещен. Но в понедельник я пришел раньше, проскользнул позади пустого столика издателя, слегка коснулся книг. Раздвинув корешки, я обнаружил узкое пустое пространство, где что-то скрывалось; в глубине была спрятана обложка песочного цвета, набитая страницами. Это была самая настоящая рукопись. Я схватил обложку и раскрыл ее. На первой странице я увидел название: «Странный оптимизм рода человеческого». Дальше имя автора – Матиас Скриб. У меня дух захватило от такого сокровища.
– Ваш клиент пришел.
Я вздрогнул. Морис стоял за моей спиной, рядом – моя дневная добыча. Обложка песочного цвета перешла в левую руку, правую я подал приглашенному. Осталось только забыть о левой руке и идти к столу, а находку положить на колени.
В конце обеда я незаметно взял рукопись, благодаря тому, что клиент принес подробную опись своего состояния и настаивал, чтобы я забрал ее. Я взглянул наметанным взглядом на бумаги клиента и даже полистал их, а затем положил поверх обложки песочного цвета. Уходя, я взял рукопись под мышку и вынес. Казалось, Морис ничего не заметил.
Я совершил это преступление не колеблясь, однако всего не просчитал. Может ли это извинить меня? Поспешу добавить, что сегодня я уже вернул рукопись. Между тем за это воровство я дорого заплатил. Пять дней и пять ночей чтения испортили мне кровь. Пять дней и пять ночей вовлекли меня в жизнь Матиаса Скриба, заставили разделить его тайну, его сомнения, его вопросы. Все это время я спрашивал себя, что должен делать с исповедью этого писателя, из которой узнал, кто мог бы убить философа Клауса Хентца.
Делу всего год. Оно вызвало много шума, о нем знали все: первые страницы газет приводили взволнованные свидетельства, выражали негодование. Смерть Клауса Хентца стала событием. И по сей день трагедия объяснена только частично.
Скриб писал в течение нескольких дней о смерти Хентца. Подробности отдельных отрывков, напряженное повествование, внимание, которое он уделял описанию собственных чувств, вызванных первым впечатлением, – все это я нахожу удивительным. Остается неясным один вопрос, переходящий в навязчивую идею: почему Скриб утаил то, что обнаружил?
Я долго думал над этим и считаю, что нашел причину. Скриб хорош как обличитель, но ему не хватало мужества. Он надеялся, что кто-то другой завершит его работу.
Вот мои аргументы. Скриб вел расследование, докопался до истины, но остановился посреди дороги. В конце он объявил, что мог ошибиться, ибо не уверен в побудительных причинах, а также в том, кто убийца. Если это так, зачем писать выдуманную историю и, более того, зачем скрывать ее? Еще одно противоречие: он использовал Сциллу как сейф. Публичное место, издательская цитадель! В довершение всего Скриб выбрал полку над столом издателя Мессина. Однако с этим все ясно. Это доказывает: он хочет, чтобы его прочли и закончили его дело – сделали заключение, добились признания от преступника и опубликовали. Я уверен, что прав.
Хотелось бы спросить об этом самого Матиаса Скриба ведь он жив, но я его никогда не видел. Может, он сейчас у Сциллы или придет пообедать? Ничего странного поскольку Скриб здесь частый гость. Еще лучше, что эта история здесь началась. Возможно, здесь она и закончится.
Не он ли только что вошел? Мужчина сорока пяти лет – это его возраст. Средней комплекции, волосы темные, твидовый пиджак, светлая рубашка, непринужденный и обаятельный. Я его себе таким и представляю. Не спросить ли у Мориса: Матиас Скриб здесь? Морис вскинет голову, повернется к одному из столиков. Я подойду и скажу Скрибу:
– Почему вы не завершили вашу историю? Надо, чтобы банкир взял на себя эту грязную работенку? Чего вы хотите? Опубликовать ее? Уничтожить? Забыть? Что я должен сделать?
Скриб – странный малый. Он все передоверил другим. Достаточно прочесть его рукопись, чтобы это понять. Думаю, он улыбнулся бы в ответ на мой вопрос.
– Вам решать, я не знаю. Я перестал писать эту историю в прошлом году, отложил ее до времени. Не хватает последней точки. Я ждал, что рукопись найдут и закончат. Я предпочел бы, чтобы это был писатель, но это сделаете вы. Тем хуже.
Это дело изводит меня. Я постоянно думаю о нем. Пять дней и пять ночей ушли на то, чтобы принять решение. Итак, я посвящаю себя этому делу. Ведь не случайно рукопись попала в мои руки. Я принимаю это как знак, как факел, который мне вручили.
Я должен закончить дело Скриба. Потом ему расскажу. Но прежде доведу дело до конца, проверю его расследование, закончу его, если необходимо, но узнаю: правда ли, что Клауса Хентца убили в пятницу 12 мая прошлого года по той причине, на которую намекает Матиас Скриб И я напишу об этом.
Я напишу! Простите меня за самонадеянность. Мое ремесло ограничивается тем, что я диктую коммерческие письма. Скажем так: излагаю факты, подготавливаю почву для того, чтобы найти истину.
Не надо поспешно объявлять об успехе. Мое ремесло – вызывать на откровенность. Здесь мне никто не страшен. Через мгновение в Сциллу войдет человек. От него я узнаю все. Морис проводит его к моему столику. Я встану навстречу, поздороваюсь, приглашу его сесть. Он принимает меня за банкира, охотящегося за клиентами, но сейчас не тот случай. Сегодня стол накрыт для большой игры. Я хочу, чтобы он рассказал все начистоту. От него я узнаю то, что неведомо Скрибу, чего он не смог найти. Итак, я обещаю закончить историку которая началась здесь год назад. Назначим свидание у Сциллы. Если все пойдет, как я задумал, то у вас будет случай прочесть последнюю главу.
А сейчас я оставляю вас с Матиасом Скрибом. То же место, пятница, год назад. Я покидаю вас, потому что пришел мой клиент. Приятного вам чтения, а мне приятного аппетита.
Книга 2
Рукопись Матиаса Скриба
Писать – значит лгать.
Клаус Хентц. Без начала и конца: памфлет против фанатизмаИздательство Мессия
Странный оптимизм рода человеческого
1Я выбрал для своего рассказа такое название: «Странный оптимизм рола человеческого». Должен предупредить» что речь в нем пойдет о смерти моего лучшего друга Клауса Хентца, убитого в ночь с 12 на 13 мая 1999 года. Кто же останется оптимистом, описывая самое большое горе своей жизни? Вот мои доводы.
Несколько месяцев назад я задумал написать историю, герой которой был подсказан Клаусом Хентцем. Сюжет мне нравился, но вдохновение не приходило. Углубляясь в свои воспоминания, я пытался создать образ, достойный Клауса, и полагал, что эта история заставит замолчать критиков, утомивших его. Я рассказал ему об этом, и, казалось, он согласился. Моя книга представит его жизнь, объяснит несдержанность и противоречия Клауса Хентца, замечательного, воинственного, взирающего с надеждой на лучшую часть человечества. Моя книга будет называться «Странный оптимизм рода человеческого», потому что мой герой такой же, как Хентц: он бросает вызов злым языкам и посвящает жизнь служению другим людям.
А теперь я должен рассказать о его смерти, повергшей меня в горе, и сделать страшное признание. Не. сомневаюсь, что задуманная мной история сыграла роковую роль в свершившейся трагедии. Используя факты жизни Клауса для набросков к повествованию, я. спровоцировал его конец. Несмотря на это, я сохраню название, потому что его подсказал мне сам Клаус. Он часто дарил мне разные идеи и однажды, смеясь, подбросил это название. Я принял его, не колеблясь и не подозревая об опасности. Оптимист – это слово так. подходит ему.
И вот последнее объяснение моего выбора: в нем таится надежда. Смерть Клауса не останется нераскрытой. Когда-нибудь имя убийцы станет известно. Но почему же ничего не сказал я, нашедший преступника? Мое молчание объясняется недостатком смелости и страхом ошибиться. А вы, кто это читает, сделаете лучше меня? Посмотрим. Прежде всего надо вернуться к Сцилле, потому что именно там все и началось.
Клаус обедал там 12 мая незадолго до смерти. В этот раз врожденная веселость изменила ему. Клаус утверждал, что ему ничего не нравится, в том числе и конец нашего века, по его мнению, худший из всех. За столом молчали, что лишь отчасти объяснялось обволакивающим покоем Сциллы. Настоящая причина была в том, что философу Клаусу Хентцу, знатоку диалектики, боялись возражать. В его устах слова пенились, как пузырьки газированной воды, которую пьют захмелевшие гости. «Ничего!» – закричал он, и стол присмирел. Хентц наслаждался своей победой. Теория «ничего» казалась ему важной, а век заслуживал суда, который должен стать судом титанов. Он воображал себя прокурором, ставящим на колени виновных перед лицом истории. Мыслителей, моралистов, даже издателей. Клаус Хентц не забыл никого и ничего!
Я сидел за три столика от него, однако почувствовал, как это «ничего» воздушной волной прокатилосьпо залу. Его голос донесся до меня и покачнул пыльные полки с книгами великих философов. Хентц не знал об этом соседстве. От слов Хентца померк свет маленьких лампочек, расставленных на столах и напоминающих о том, что место священно. Его «ничего» бросило вызов молчанию.
Я, как и прочие, повернулся к Клаусу, забыв о болтовне моего соседа. Я видел плечи философа, его гримасы, сопровождающие слова, то, как он раздавил сигарету на тарелке, полной еды, к которой он не притронулся. Я испытывал удовольствие, наблюдая исподтишка.
Клаус, слишком занятый своими собеседниками, не смотрел на окружающих. Он держался как знаменитость, равнодушная к присутствующим, и предоставлял им единственную привилегию – слушать его. Если бы я не знал моего дорогого Клауса, то обвинил бы его в хвастовстве. Клаус походил на проповедника, слова которого растворяются в сигаретном дыму. У него было слабое место. С давних пор он все делал с оттенком гипертрофии. С недавних пор стал преувеличивать. Но не следовало забывать убеждений настоящего Хентца, Я был одним из тех, кто их помнил. Я поддерживал его при всех ветрах и бурях, что было трудно.
Этим вечером Клаус завершил разрушение своего имиджа. Он царил за столом, опьяненный своими речами. Статья о «ничего» наделала много шума, но он не будет больше писать об этом, поскольку существуют противоречия между «ничего» и фактом, и об этом надо кое-что сказать. В повисшей тишине Клаус объявил, что его теорию можно резюмировать в нескольких словах. Одним слоганом, вот и все: ни к чему не годный век, заслуживающий единственного подарка – его фотографии. Нагишом. Со спины. За столом заволновались. Клаус обвел всех взглядом и попросил успокоиться. Он еще не закончил.
– Сыр? – спросил меня Стефан Лефур, директор «Воздушного шара», филиала издательства Мессина.
Мы сидели друг против друга, и я был его гостем. Пришлось спуститься на землю, оставив театр Хентца. Я заказал кофе. Лефур, не зная моих планов, хотел запустить мою будущую книгу. Драма издателя, по его словам, заключалась в вымирании читателя. Он наморщил лоб: тема оказалась сложной для него. Я изобразил заинтересованность. Тогда Лефур приступил к обсуждению вопроса о трагедии книжной торговли и ее последствий в жизни писателей. Он разразился целой тирадой, такой длинной, что я вернулся к Клаусу.
Клаус склонен к крайностям. У него нет отклонений, но нет и гениальности. Он непереносим. Его надо принимать таким, какой он есть. Однако внутренний мир Клауса цельный, я в этом убежден, а другие – более или менее. Несмотря на бесспорный успех у публики, Клаус подвергался слишком частым нападкам критики. Денди, философ, завсегдатай светских приемов, опереточный вольнодумец, пустой болтун, современный Аррий, [1]1
Аррий – персонаж «Характеров», сатиры Жана де Лабрюйера (1645–1696). – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]некрасивый, большой любитель ВПО (вода, пастие, оливки), уверенный в том, что мир идей освобождается от цепей, а подлецы готовят его гибель. Клаус утверждал, что ему наплевать на это. Он считал, что чужая зависть только на пользу. Чем больше говорят, тем больше успех. Я думал иначе. Его старались сломить. Это удалось. Надо прекратить слухи, восстановить истину, пока не поздно. Я заерзал на стуле. Защита Клауса мне по плечу. Я знаю о нем все. Мне удастся описать его жизнь.
«Описать мою жизнь? Ты с ума сошел!» Я рассказывал ему, а он умирал от смеха: «Забавно… это лучшее средство прикончить меня». И тоном умудренного опытом человека добавил: «Разве тебе не хватает воображения, больше писать не о чем? Забудь об этой глупости. Пиши роман. Ты создан для этого». Клаус был прав. Биография – не мой жанр. Я писатель со своей темой, и это хуже всего, но мы были друзьями. Надо отказаться от лживого жизнеописания. Создание образа – не лучшая сюжетная линия. Останется персонаж. У Клауса был характер героя. Его жизнь заслуживала романа.
Роман. Именно о нем он мне говорил? Я напишу роман. Зашифрованный роман, героем которого станет прототип Клауса. Персонаж, наделенный множеством черт, но каждая будет узнаваема. Двуликий человек, каким он и был. Внешне – карикатурный лжефилософ, а внутренне исполненный веры и благородства. В общем, его жизнь. Решение принято. Я напишу роман: волнующий, динамичный, пересыпанный анекдотами из жизни Клауса.
Я прилежно изложил Клаусу все, о чем рассказал. На этот раз он казался заинтересованным. Вопреки очевидному Клаус и не помышлял стать главным героем романа, но не испугался, и это самое важное. У меня был план, и я записал его. Охваченный желанием помочь мне, Клаус не оставлял меня в покое, сердился.
– Гдеты? У тебя есть история? Не старайся представить меня добрым. Рассказывай самое дурное. Если этого мало, то выдумай. Нужна содержательность.
Портрет, который льстит ему? Плевать. Клаус множил сюжетные линии, перегружал мой автоответчик, предлагая каждую минуту новые идеи.
– Сделай из меня загадочное существо, хранителя страшных тайн. Придумай ловушки, расставленные моими врагами. Еще лучше, убей меря, но пиши!
Клаус повесил трубку, но снова позвонил. Ему пришла в голову новая сюжетная линия… Клаус не оставлял меня, обременяя деталями, призванными помочь мне написать стоящую историю. Рассказ о его жизни? Да он забыл ее. Следствием его энтузиазма стал вымысел, не имевший отношения к настоящему Клаусу. Мой план разваливался под сокрушительными ударами его воображения. Он спрашивал, и я отвечал, что история продвигается. В действительности все было не так или почти не так. Три жалкие страницы. Клаус был прав. Роман требовал интриги. Увы, в предлагаемых им сюжетах я ничего не находил.
– Ты согласен?
Возвращаюсь в Сциллу и оставляю свои размышления. Лефур задал мне вопрос, и я кивнул. Кстати, что за вопрос, не знаю.
Принесли еще кофе, я взял шоколад, поданный официантом, и откусил. Восхитительная нежность какао Сциллы имеет горьковатый привкус. Издалека кажется, что роман о Клаусе так легко написать.
Лефур, грызя шоколад, сплетничал об уходе писателя Жака Касбона из издательского дома ПЛМ. Он споткнулся на фамилии знаменитого автора, подсчитал претендентов, взвесил шансы аутсайдеров… В сотый раз я мысленно открыл незаконченную рукопись. Можно пересказать три первые написанные страницы.
На первой строке мой персонаж орет. Ничего странного. Клаус всегда орал. В конце концов, у героя есть голос, а если надо, то и кулаки. Я начал свой рассказ с описания драки на телевидении. Меня вдохновило бурное выступление Клауса в передаче о культуре «Зеркала». Набросившись на корреспондента ежедневной немецкой газеты, он обозвал его ревизионистом. Клаус размахивал газетой и вопил: «Я провел расследование. У меня есть доказательства, что вы лжете!» Журналист сорвал наушники, чтобы протестовать. Хентц вскочил, закричал, что он лгун, нацистское дерьмо, и влепил ему пощечину. Заметив, что ведущий намерен вмешаться, Клаус бросил его на стеклянный столик, стоявший посреди телестудии. Ведущий сильно ударился, но Хентц не обратил на это внимания. Он уже сорвался с цели. Так как передач называлась «Зеркала», легко догадаться, что за этим последовало. Клаус швырнул в зеркала стулом, контрольным монитором и камерой, крича при этом: «Гласность!» «Инцидент» позабавил Клауса, напомнив ему сражение с фашистскими головорезами. Когда я выразил опасение что у него будут неприятности, он хлопнул меня по спине: «Бояться нечего. Они – трусы». Клаус был прав. Общество спасовало перед философом.
До этого места воспоминания были подлинными. На мой взгляд, даже слишком подлинными, чтобы служить отправной точкой для будущего вымысла. Мой роман начинался с анекдота, но после трех страниц я иссяк. Дальше следовало придумывать роман, но продолжение буксовало.
– Будет процесс. – Лефур говорил об издателе ПЛМ и писателе Касбоне. – ПЛМ не оставит бегство Касбона без последствий. Будет процесс.
«Круто», – подумал я.
Продолжение моего романа? Когда я слушал Лефура, потиравшего руки при мысли о судебном процессе, меня вдруг осенило. Клаусу нужно то же самое! Скандал на телевидении должен иметь продолжение. Общество проснулось. Он будет в центре бунта.
С определением темы вымысла пришло вдохновение. Клаус видел все четко. Необходимо отойти от действительности, и, чтобы получился роман, забыть о ней, сочинить для Клауса другую жизнь. У меня было столько сюжетов, мне предложили столько идей, только писать успевай. И представил себе, что Клаус не вышел сухим из воды. Жалобе дан ход. Он очень рискует. Его вызывают, чтобы унизить и изранить. Ему плевать. Телепередача позволяет придать гласности секреты и сделать на этом состояние. Они хотят процесса? Ладно! В свою очередь, Клаус потребует процесса, чтобы заявить о раскопанных им фактах. Я возьму только один из предложенных им сюжетов.
«Это будет мой триумфа – провозглашает Клаус в моем романе. Конечно, этому никто не верит. Клаус известный выдумщик. С ним покончено, по крайней мере снова уклониться от ответственности, ему не удастся. Париж ищет чудо, которое поможет Клаусу избежать наказания, и вдруг потрясающая новость.
– Ты слышал новость?
Я вздрогнул. Лефур смотрел на меня. Я принял, удрученный вид.
– А, ты знаешь. Какая мерзость эта болезнь! – Лефур говорил о многообещающем авторе. Тридцать лет, три романа, поэтический сборник. – Обречен. Шесть месяцев. Его имя среди лауреатов. А я не принял его первую рукопись!
Я старался не отвлекаться. И было из-за чего: для Клауса это так важно. В романе он умирает. Смерть будет только виртуальной, продиктованной моим воображением и идеями Клауса, но я разволновался. Лефур заметил это, но отнес на счет молодого автора, пораженного грязной болезнью.
– Вот козел!
– Настоящий козел! – поддержал я.
Я опустил глаза. Сроит ли это делать, но ведь Клаус сам предложил мне убить его. Это только сюжет для продолжения романа. Мало-помалу мои сомнения улетучивались. Я решился убить его, и из этого родился роман Мой мозг согласился. Клаус мертв. «Убит». Девушка, возникшая в моем воображении, сказала это, рыдая. Слезы блестели в ее глазах (они будут зелеными). Девушка красива и стройна.
Я прикрыл глаза, чтобы замедлить поток вымысла потянуть время. Поразмышлять. Чем больше я старался тем хуже получалось. Не так быстро! Но девушка вернулась. Открыв глаза, я снова увидел ее, и моя фантазия опять заработала. Она была в джинсах, но ничего не случится, если я воображу волнующий изгиб ее юного тела под облегающим шелковым бельем. Теперь, раздетая, она идет по квартире Клауса спиной ко мне. Мне хотелось остановить ее и мысленно приказать: исчезни! Однако кино продолжало крутиться. Девушка обернулась. Она плакала. «Убит», – стонала она. Ее живот и груди приподнимались в одном ритме с рыданиями. Измученная, девушка опустилась на пол и, раздвинув ноги, приняла непристойную позу. Тут же выскочило ее имя. Назовем ее О, но потом переименуем по настоянию Клауса в Бибу, его любовницу, от которой он без ума. Убит. Бибу искренна в горе. Она плакала, закрыв лицо руками. Она любила Клауса, а он мертв. Этого хотел проклятый роман. «Почему?» – спрашивала она умоляющим голосом. Я склонился над ней. И ей, только ей сказал: «Я не знаю, Бибу. Пока не знаю. Надо перевернуть страницу…»
Мне казалось, что ход верный. Теперь надо, не откладывая, реабилитировать память о Клаусе. Я продолжил работу. Вторая глава. Прелюдия. Короткий отрывок, в котором я придумал неожиданный ход, спасающий философа. Он не обманывал, рассказывая о расследовании. Клаус знает тайну и расскажет о ней – именно из-за тайны его убивают, – и эта тайна будет…
– Пошли? – Я вернулся к реальности. Лефур, директор филиала издательства Мессина «Воздушный шар», обращался ко мне. Мысленно я еще видел Хентца, громящего телестудию, а сам был на волосок от того, чтобы сделать то же самое с кретином Лефуром. Оставить тайну Клауса, когда я почти разгадал ее, какая потеря! – Пошли? – повторил Лефур.
Я кивнул. Мы встали, отодвинули стулья. Я был у Сциллы в пятницу, в обеденное время, и пытался вспоминать.
Вокруг меня стояли столики. В трех шагах – столик Клауса. Он поднял голову, увидел меня и сделал знак рукой, такой короткий и предназначенный только мне, что сидящие за столом ничего не заметили. Я не сразу осознал, что это настоящий Клаус, ибо вернулся издалека. Бибу, тайна философа, его смерть. Надо было забыть об этом и привести в порядок мысли. Я ответил неловким жестом. Клаус почувствовал мое беспокойство. Он продолжал разговор за столом, но глазами следил за мной. В них я прочел вопрос: все нормально? Я уверенно встретил его взгляд. Все-таки смерть хотя бы и придуманного Клауса была непереносима. Такой восторг воображения аморален. Как обычно, я подмигнул ему, казалось, что это успокоило его, но оставило равнодушным.








