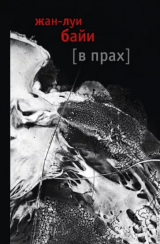
Текст книги "В прах"
Автор книги: Жан-Луи Байи
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
XIII. Предательство
Прибытие третьего звена работников, знатных любителей побаловать и себя, и потомство жирными веществами в состоянии кислотного брожения.
Никаких кавычек для выделения цитаты, однако я уверен: стиль Меньена легко узнаваем. Уточним изложенную ранее гипотезу: дабы преодолеть свое отвращение к трупам, Меньен рассматривал их с такого близкого расстояния, что они казались ему уже не трупами, а пышным банкетом времен Третьей республики или привольным местом для любовных услад. Несомненно. Но он был все же вынужден менять свое положение и на какой-то миг видеть всю сцену целиком: труп, порченный в результата насилия или по возвращении в чернозем, мумифицированный ребенок, исковерканная девица, гниющий в сарае гениальный пианист. Время от времени у него затекала шея или спина, тогда он поднимая голову от своих мух и куколок, кожеедов-сверлильщиков и огневок-аглосс. И прибегал – я в этом убежден – к иному средству фильтрования, а именно к письму. Его мысль, привычная к подобный упражнениям, превентивно оттачивала элегантный и нарядный язык, которому предстояло выразить словами отвратительное зрелище, раскрывающееся перед взором. «Звено», «работники», «поле деятельности», «пиршество», «лакомство» вместо «трупа», «падали», «гниения» и «мандибул» всех этих паразитов-антропофагов, которые составляли смысл всей его жизни.
Вообще-то, он не очень жалует кожеедов. Признаем, что их внешность отнюдь не привлекательна: личинки, поросшие длинными волосками, с шестью чешуйчатыми лапками. Как и их характер – ох уж эта ненасытная прожорливость! Они не почитают ничего, даже благородные коконы шелковичных червей, интимную жизнь которых при случае готовы нарушить. Среди жесткокрылых их нечистоплотность – притча во языцех: представьте, как они покрывают себя экскрементами, дабы соорудить что-то вроде фекального чехла, внутри которого смогут преобразоваться в куколок, а затем в насекомых. Им неведомы никакие табу, они пожирают друг друга, когда питания не хватает, не хватает, не хватает, ай-ай-ай. Взрослая особь не так уродлива, как ее личинка, но и она весьма невзрачна: маленькое сероватое жесткокрылое, едва украшенное рыжеватыми пятнышками.
Что сразу же понравилось кожеедам в Поле-Эмиле, так это его запах. Жиры, которые (как мы помним) выделяла его персона, начали подвергаться тому, что ученый называет бутириновой ферментацией; проще говоря, принялись источать едкий запах прогорклого масла. Обеспеченные туристы платят за этот запах втридорога, отправляясь в тибетские деревни, где жилища обмазываются маслом для защиты от холода и от ультрафиолетовых лучей. Для кожеедов Поль-Эмиль стоя Тибетом.
Они заработали, и как это часто бывает, не одни; на этот раз компанию им составили аглоссы, маленькие чешуекрылые мотыльки, которые любят по ночам сгорать на огне, или, точнее, их гусеницы (сами мотыльки явятся позднее и также сыграют свою роль).
Этимология названия «аглосса» мне неизвестна, но одна из интерпретаций определенно нравится: безъязыкие. Я сразу же признаю в них безмолвных работников, которых никогда не слышно, которые трудятся молча, упрямо и отвечают на просьбы и приказы лишь тихим бурчанием. Малый вроде ничего, но ничего из него и не вытянешь. Он из тех, кто обходится без откровенностей, без красочных рассказов после уик-энда. За столом – то же самое (мы уже знаем, что для них еда и работа едины): склонившись над миской, безмолвно хлебает суп и жует сало. Умалчивая о своей неистребимой натуре (которая, например, позволяет гусеницам аглоссы жить и дышать внутри жировой массы, в отличие от всех других гусениц, которые в ней задыхаются).
Содружество Поля-Эмиля и аглосс было самым приятным из всех. Разумеется, прогорклый жир, в котором копошились гусеницы, казался им одновременно насыщенным и нежным на вкус. Но самое главное: между двумя видами безъязыких установилась счастливая гармония; один пожирал другого в естественной согласованности, Поль-Эмиль позволяя мотылькам, собратьям по тишине и хорошо выполненной работе, обезжиривать себя и делал это с присущим ему добродушием.
Достаточно пустяка. Достаточно завтрака проще, чем обычно, – буханка хлеба, которой, как правило, хватало на три дня, на этот раз закончилась быстрее, – чтобы жизнь Поля-Эмиля дала злополучный крен.
Он работает над своим клавиром в сарае, и желудок, выполняющий функцию будильника, пробуждает его в полпервого, хотя на самом деле еще только полдвенадцатого. Он внимает позыву и идет в дом.
Там его встречают соблазнительные запахи, что-то тушится в соусе карри. Но Жозефины на кухне нет. Тут он слышит звуки, которые его мозг отказывается идентифицировать, хотя они достаточно красноречивы, и решает, что Жюльену Бюку нехорошо или что-то в этом роде, а Жозефина, должно быть, оказывает ему первую помощь. Он обеспокоенно направляется к комнате Бюка, толкает дверь.
Водевильная ситуация, – которую даже самый простодушный, лишенный интуиции читатель этого рассказа угадал, едва Бюк нажал на кнопку звонка и выдернул Жозефину из ванны, – столь тривиальна, что перо артачится при одной только мысли о предстоящем описании. А ведь можно было бы немало поведать о поразительной метаморфозе, случившейся за ту секунду, пока дверь открывалась. Двойная обнаженность, в которой было что-то мифологическое, – жизненные силы в действии, порыв, страсть существовать и порождать, красота юных тел, переливы блестящей кожи, рельефность напряженных мышц, сплетенные ноги и руки, усилия для достижения желанною слияния, без конца приближаемою и беспрестанно ускользающею, – сразу же становится постыдной наготой в Эдеме после истории с яблоком. Раздвинутые лядви уже не свидетельство доверчивости или приношения в дар, это нижние конечности падали, откинутые на обочине дороги; отныне ритмичное движение чресл, такое же первозданное, как движение светил или миров, есть всего лишь дерганье задницы наяривающего павиана. Открывшаяся дверь, отпрянувшие тела, судорожная попытка прикрыться краем простыни, эдаким фиговым листком, и торжествующая грудь Жозефины – просто какое-то вымя, да и только. Бюк растерянно встает, мощный фалл, который совсем недавно будоражил галактики, превратился в эдакий бесполезный крючок для шляпы, а затем упразднился в какую-то слюнявую дряблость.
Измена.
Вон отсюда, совсем просто говорит Поль-Эмиль, в этот раз оказавшийся на высоте. Он возвращается к инструменту; играет слишком громко, чтобы не слышать возню, сборы, хлопанье двери.
Изгнав негодников, Поль-Эмиль переходит на растворимые супы и полуфабрикаты. И запивает их вином из своей горькой чаши.
А на что он, собственно, надеялся? Жюльен Бюк был так красив! Когда Жозефина открыла ему дверь, картинка показалась ей почти нереальной. Сначала она заметала лишь светлые глаза, волевой подбородок, высокий лоб, породивший столько прекрасных страниц. Позднее она увидела изящные пальцы, которые бегали по клавишам «Макинтоша» так же виртуозно, как другие пальцы скользили по клавишам «Плейеля». Затем обнаружились сначала беглые, потом более настойчивые взгляды, ответные смешки – Поль-Эмиль не очень понимая, почему они смеются и что смех может дать музыке. И вот уже неизвестно какая электрическая дуга натягивалась между двумя телами всякий раз, как они оказывались вблизи. Затем Жозефина тайком прочла три первые страницы рукописи Жюльена; на следующее утро единый порыв устремил их друг к другу, язык к языку, так что каждый мог обоснованно винить другого в том, что тот бросился к нему в объятая первым. Им приходилось ловчить, лгать, когда Поль-Эмиль был дома, делать вид, что их интересует только он, и эта ложь вовсе не довлела, а напоминала и одновременно сулила одни удовольствия.
На самом деле руки Жюльена Бюка были так себе: ногти имели неприятную форму, словно сурово обгрызались в детстве, из-за чего и сохранили свою приплюснутость. Глаза были светлыми, но без блеска, имели неопределенный серовато-голубовато-зеленоватый цвет, совершенно заурядный разрез, да еще и легкую выпученность. Высокий лоб свидетельствовал не столько о мощной мысли, сколько о начинающемся облысении. Что до волевого подбородка, то он не мог надолго отвлечь внимание от посредственною состояния зубного аппарата, в котором хватало тусклых, даже желтых зубьев и тех, что неудачно заваливались в глубину и вряд ли рассчитывали на встречу с зубной щеткой. Одним словом, внешность скорее дурная. Но по сравнению с Полем-Эмилем – Адонис. Итак – последнее слово, перед тем как оставить эту парочку, – увидев рядом с Жюльеном действительно красивых мужчин, Жозефина быстро прозреет и поспешит оставить этого автора с его автофиктивностью ради других иллюзий, из которых будет отныне состоять ее жизнь.
Поль-Эмиль страдает от предательства. Впервые за всю свою жизнь Поль-Эмиль страдает.
Впервые за всю свою жизнь, которая не приносила ни великих горестей, ни великих радостей, – ибо успех на конкурсах никогда не казался счастьем или удачей; он причитался ему как нечто присущее до мозга костей, – впервые он познал счастье, но осознал это счастье – что вполне естественно – лишь тогда, когда его отняли.
На протяжении этих столь коротких недель перерыв на ужин вместе с Жозефиной и Жюльеном не воспринимался как досадная помеха: это значило отложить одну радость ради другой, еще более радостной. Неведанное ранее счастье молча смотреть на других, делить с ними простое чувство удовольствия, задерживаться после трапезы, тянуть время перед сном. Он привык к словам и мог ничего не говорить. Он смаковал эти минуты до того момента, когда они расставались; Жюльен отправлялся писать, Жозефина – читать в саду, он – заниматься на рояле: это не было разлукой, ведь, работая, он представляя себе, как Жозефина дремлет над книгой, а Жюльен выискивает нужный ритм и правильные слова; это не было разлукой, ведь он знал, что, прерывая чтение, Жозефина наполняла свою сиесту грезами о Поле-Эмиле и Жюльене, а Жюльен погружается в поиски слов, чтобы его, Поля-Эмиля, лучше описать.
И вдруг такое! Экая стерва! Экий крючок для шляпы! Когда перед ним вновь предстает этот образ, с каждым разом все более четкий (сама картинка, конечно, размывается, но в сердце покалывает все сильнее и глубже; это гложущее, так сказать, угрызающее воспоминание), ему кажется, что изучаемый отрывок обрывается на каком-то взбесившемся аккорде и тот долго угасает в бесконечной тишине. Иногда, часто – ведь он один, так почему бы и нет? – он разражается рыданиями над клавиатурой.
Предательство. Предательство. Слово возвращается вопреки его воле, наполненное бесчисленными драмами и мелодрамами. Предали.
И предал-то кто? Первый, после матери, человек, в глазах которого он, кажется, что-то значил; человек, который его вроде бы любил, а не только испытывая, как прочие идиоты, недоверчивое восхищение; первый человек, который не видел в нем гениальное неуклюжее чудовище, и держался просто, говорил бесхитростно и не упирался взглядом в его горбатый нос, куцый подбородок, слюнявый рот: Жюльен, его друг.
Эта невыносимая мысль преследует его постоянно. Даже музыка не в силах с ней справиться. Все поглощавшая музыка не может ничего сделать со словом «предательство», оно захватывает Поля-Эмиля, изводит его, вызывает в нем горечь и мстительную злобу.
XIV. Концерты
В одном английском, а значит, вне всякого сомнения, непредвзятом исследовании среди пятнадцати самых зловонных сыров оказалось тринадцать французских: Вьё-Булонь, Пон-л’Эвек, Камамбер, Мюнстер, Бри-де-Мо, Рокфор, Реблошон, Ливаро, Банон, Эпуас, Раклет, Оссо-Ирати и Кротен-де-Шавиньоль. Остаются Пармезан (одиннадцатый) и Чеддер (четырнадцатый), последний присутствует в списке не иначе как для того, чтобы подчеркнуть британскую беспристрастность.
После десяти месяцев созревания Поль-Эмиль мог бы заслуженно фигурировать в этом списке. Он и в самом деле стал объектом казеиновой ферментации и привлек мух той породы, которые – за неимением трупа – довольствуются тем, что откладывают яйца в первом попавшемся куске сыра.
В результате Поль-Эмиль выглядел несколько игриво, наверняка из-за поведения личинок Pyophila easel, которые на нем прыгали и резвились, а также личинок Pyophila petasionis Duf, название которых созвучно слову «педофил», а также рифмуется со словом «тартюф»; эти не предвещающие ничего хорошего ассоциации явно клеветническое (Дюф вообще-то аббревиатура фамилии Дюфур, которую носил первооткрыватель пресловутой мухи, и отсылка к «тартюфу» здесь совершенно неправомочна). Поскольку к празднику присоединились и костоеды, – это уже жесткокрылые, – то стало еще веселее. Впрочем, у четвертого звена нашелся бы повод посетовать на бесцеремонность предыдущих: повсюду на теле, вплоть до самых укромных уголков, в глубине пазух, работники первых звеньев оставили на рабочих местах всевозможный мусор, в частности тысячи кукольных коконов.
А еще к нашему персонажу в гости залетели такие эклектичные твари, как цветочницы. Этим годится все: и обычно засиживаемые ими цветы, и падаль; они откладывают яйца в земле и в гниющих грибах, когда нет трупов; в организмах мертвых, а также живых. Здесь уместно вспомнить о пикантных анекдотах, которые встречаются среди изысканных описаний Меньена: так, одну страдавшую желудком женщину должным образом напоили касторкой, и ее вырвало полусотней совершенно здоровых и невредимых червячков цветочницы; у другого пациента ушная сера забродила так, что цветочницы поселились внутри уха и отложили свои яйца, ох, бедный дядюшка Бельом! Но несмотря на присущую им широту взглядов, цветочницы больше всего предпочитают сыр. Меньен находил их на трупах, а также, – уточняет он, – на перезрелом мягком сыре Куломье.
Теперь две гипотезы и два скетча.
Гипотеза № 1.
Г-жа МЕНЬЕН: Пьеро, сегодня утром я зашла в твой кабинет, чтобы вытереть пыль. Как там воняло! Какая вонь! Я стала искать по запаху, и угадай, недотепа ты этакий, что я нашла на столике за книжным шкафом: перезрелый мягкий сыр Куломье!
П-р МЕНЬЕН: Только не говори, что ты его выбросила, несчастная!
Гипотеза № 2.
П-р МЕНЬЕН (один): Эжени – потрясающе самоотверженная женщина, верная супруга, преданная мать, но как можно быть такой несобранной? Вот что я нашел в глубине продуктового шкафа – и сколько времени это там пролежало? Перезрелый мягкий сыр Куломье! Но... но... этот Куломье кишмя кишит!Неужели...? Спасибо тебе, дорогая моя Эжени!
Луи Дарёй предостерегает Поля-Эмиля. Старина, на концерте ты должен вести себя спокойно. Всякий раз, когда во время антракта я брожу по залу или фойе, на выходе, я слышу, как о тебе говорят неприятные веши. Твоя экстравагантность утомляет. Но ты ведь сам говорил, что люди это обожают? Они от этого устают, ты ведь не чудо на ярмарке, ты – музыкант.
Честно говоря, Поль-Эмиль не очень хорошо понимает, на чем основано это обвинение в экстравагантности. Ну, ты же понимаешь, то, как ты двигаешься, как кланяешься...
Однако это правда: он и сам не осознает, что двигается как робот, на сцене еще более странно, чем в обычной жизни, потому что от фрака, фалды, лакированных туфель чувствует себя каким-то накрахмаленным. Что касается манеры резко, на какую-то долю секунды складываться пополам, а потом убегать к роялю, чтобы прервать аплодисменты и освободить место для музыки, то это происходит из-за его боязни сотен чужих взглядов. Его жизнь – не на авансцене, она – в клавишах. Они же приходят смотреть не на то, как он танцует! Какое значение имеет его неэлегантность?
Но публика хочет, чтобы ее любили!
Я не хочу ее любить, я ее не люблю. Я ее принимаю, терплю. Пусть приходит смотреть на то, что происходит между роялем и мной. Пусть проникает в мой мозг и пытается понять, что я слышу в нотах. Я разрешаю ей эту нескромность, и этого достаточно. Но ей всегда нужно больше! Еще, еще, бис, бис, истерики! Получить сполна за уплаченное – вот что их беспокоит.
С тобой они хотят продлить счастливый миг музыки.
Нет! Они принимают меня за мясника. Когда они платят за ромштекс, он дает им еще и потроха для кошки, и они довольны. В булочной, два раза в год, хозяйка дарит детям покупателей заварную булочку, и они довольны. На концерте оркестр играет отрывок на бис, и как они гордятся: представляете, сорок музыкантов играют еще раз для меня одного. И убеждают себя, что музыканты делают это не для всех и играют на бис только в этот вечер. Так вот – нет, моя музыка не куриная печенка и не заварная булочка.
Это правило игры. Это как говорить «Здравствуйте» и «До свидания»: в пятнадцать лет это никому не нравится. Но тебе давно уже не пятнадцать лет, если такое в твоей жизни когда-то и было, а от этого номера с сонатиной будет еще хуже, прекрати, я тебя умоляю.
Номер с сонатиной Поль-Эмиль выкинул на одном из вечерних концертов, в начале гастролей. Он давал мощную программу: полтора часа виртуозною романтизма, в частности композиторов «Бури и натиска», которые физически вымотали его так, что он был весь в мыле. А зал ликовал, требовал еще, мерно хлопая в ладоши, громко топая ногами.
Поль-Эмиль вновь вышел на сцену, машинально поклонился, положив руку на рояль, сел и начал играть еще до того, как аплодисменты стихли.
И что все услышали? Маленькую сонатину Бетховена, из первого сборника «Любимые классики». У себя дома публика в восемь лет играла ее сама, а потом еще терпела, когда ее вымучивало потомство. Разумеется, эта сонатина имела для Поля-Эмиля особенное значение, значение первых нот, которые он извлек из пианино, но публика этого не знала. Его подростковая дерзость и провокационность вызвали улыбку, но вместе с тем публика не могла удержаться от мысли, что таким образом ей отвечают на аплодисменты, смеются в лицо, дают пощечину. Поль-Эмиль с насмешливым и невыносимо заносчивым видом встал, вновь склонился всем корпусом и удалился. На этот раз аплодисменты сникли быстро, и к публике Поль-Эмиль больше не выходил.
Прием ему так понравился, что на следующих концертах он его повторил. Луи Дарёй закипая. Люди негодовали. Я играю не для людей. Они заплатили за то, чтобы слушать тебя. Ну и что? Играли бы сами: тогда бы не пришлось платить и слушали бы их самих. Ты кончишь тем, что будешь подыгрывать на полдниках в курортном казино. Ну и хорошо, я люблю игровые автоматы.
Разговоры между Дарёем и Полем-Эмилем всегда завершались колкостями. Но не доходили до того, чтобы импресарио осмелился высказать своему подопечному то, что он угадывал на каждом концерте, эту неловкость слушателей, когда фигура Поля-Эмиля появлялась и его черты вырисовывались на свету; чувство, с которым они не могли совладать, ощущение чего-то ошибочною, а еще более смутное ощущение того, что его уродливость обвиняла их, не тронутых уродством, подобно тому как его гениальность за инструментом осуждала их посредственность. Ощущая одновременно несправедливость своего везения и своей ограниченности, они весь концерт неосознанно злились на Поля-Эмиля, а под конец эта образина осмеливается еще и потешаться над ними. Следующие концерты они проведут вместе с последней скрипичной нимфеткой, клавесинным Браммелом, кларнетным Валентино. А этот Луэ пускай проваливает с глаз долой.
Это происходило еще до известной нам измены. После нее все осложняется и усугубляется.
Критики единодушны: несмотря на столь юный возраст, Поль-Эмиль Луэ достиг вершин фортепианного искусства. Его техника кажется безупречной. Он постоянно испытывает себя на виртуозность и выходит из этих испытанной победителем. Его сравнивают с Горовицем, в частности, когда он требует инструмент, клавиши которого отзывались бы на опустившееся перышко. Он берет безумные темпы, как фигурист, чередует каскады из тройных тулупов. Будут еще долго вспоминать его выступление с Московский филармоническим оркестром, где он даже не блестящим, а ослепительным образом справился с легендарными трудностями Третьего концерта Рахманинова: дерзновенность повелителя.
Но это еще не все. Обрушившееся несчастье – черт бы побрал зловредною писателишку, нашелся бы на Бюка какой-нибудь Страшный Бука – закалило Поля-Эмиля и открыло ему врата, ключ от которых дается лишь великим. Он триумфально исполняет Бетховена. «Редко „Соната для Хаммерклавира" исполнялась с такой глубиной: Поль-Эмиль предлагает потрясающее видение грандиозной архитектоники, которую подчиняет себе с первых же тактов, словно необычайный музыкальный интеллект позволяет ему охватывать ее целиком, хранить в уме во время всего исполнения. Самый придирчивый критик, всегда готовый выискивать изъяны, сразу же отказывается, зная наверняка, что его усилия будут тщетны». – Еще одно испытание, которое он преодолевает с такой же легкостью, но уже другими средствами – обманчивая простота Моцарта, Под его пальцами раскрываются Гайдн, Шуман. «Не одно десятилетие я слушал ,,Kinderszenen“ в исполнении многих талантливых и гениальных музыкантов, – написал один критик, – и не думая, что смогу открыть что-то новое. Сегодня я спросил себя, слышал ли их когда-нибудь вообще».
Но часто Поль-Эмиль заходит слишком далеко. Измена сняла все барьеры: терять ему нечего, он похож на отчаявшегося человека, который идет по краю пропасти и думает, что если упадет, то покончит со своим отчаянием, а если не упадет, то увидит то, что другие никогда еще не видели. Когда он не проваливается, то открывает в исполнительстве новые пути. Когда проваливается, то ему кажется, что его провал – своеобразная месть, иначе он не может объяснить ощущаемое им парадоксальное облегчение.
Он берет головокружительные темпы: по эту, удачную, сторону грани – гениально; чуть быстрое – сложные пассажи слипаются, звуковой объем теряется, – плохо. Между ярчайшим выявлением того, в чем композитор не осмеливался признаться самому себе, и полный искажением замысла удерживается граница, тонкая нить, на которой Поль-Эмиль все время рискованно балансирует. Он все чаще непредсказуем, его выступления все чаще неровны. По-прежнему говорят о гении, но гении взбалмошной, лунатическом. Поговаривают, что он выпивает, хотя это неправда. Подумывают, хотя и не пишут, что его подстерегает безумие. Он начинает пугать.
Если бы его дерзость была только музыкальной! Но он и ведет себя все более экстравагантно. С публикой – все резче, жестче, вызывающе. С каждым выступлением просьбы сыграть на бис раздражают его все сильнее. Иногда он отвечает сонатиной, иногда – отрывком на три четверти часа, назло зрителям, которые должны успеть на электричку или отпустить няньку; а иногда – словами: сегодня вам бисов не будет, провинились, слишком много кашляли. После триумфального исполнения Третьего концерта Рахманинова, вместо того чтобы пожать руку первой скрипке, он целует в губы приглянувшуюся альтистку. Дирижеры побаиваются, устроители концертов вот-вот начнут отменять его выступления и менять программу. Луи Дарёй тревожится и негодует.








