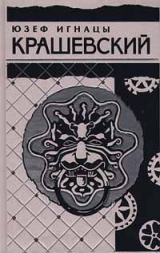
Текст книги "Божий гнев"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
III
Тихо, без триумфов и шума вернулся король в Варшаву, но королевой был принят как настоящий победитель.
Мария Людвика знала досконально положение дел и цену заключенных трактатов, но, превознося заслуги мужа, рассчитывала поддержать в нем рыцарский дух.
За эту снисходительность и сердечность Марии Людвики, Ян Казимир, уже порядком утомленный, заплатил сближением, более нежным, чем раньше. Это была какая-то осенняя любовь, теплое бабье лето, однако желанное и нужное для королевы.
Она пользовалась этой нежностью, чтобы закрепить свою силу и власть над мужем, что, впрочем, не требовало больших усилий, так как он рад был свалить бремя государственных забот на нее и на Оссолинского, а сам по-детски забавлялся своими карликами, слушанием придворных сплетен, отчасти охотой и обществом хорошеньких панн, которыми увлекался всеми по очереди.
Всякий раз, оставаясь наедине с Бутлером или даже со своим младшим любимцем Тизенгаузом, он откровенно рассказывал им о своих впечатлениях.
– Знаешь, староста, – говорил он Бутлеру, – после этого похода и всех неудобств, одиночества, отсутствия женщин, мне и еда кажется вкуснее и все женщины красивее. Королева помолодела; а что касается маршалковой – истинное чудо: свежа, мила. Неудивительно, что, по слухам, этот несносный староста ломжинский влюблен в нее.
– Староста ломжинский, – подхватил Бутлер, – да разве он один? За нею ухаживают многие и рассчитывают на то, что маршалок недолго протянет.
– Это правда, – сказал король, – я нашел его сильно постаревшим и больным, хотя он и не сознается в этом. Со смерти Владислава не видали на его лице улыбки… да и сам он, слышно, говорит, что скоро последует за ним.
– Ну, не так же он плох, – усомнился староста.
– То выражение лица, которое я у него заметил, – отвечал король, – врачи называют гиппократовской физиономией. Плохо ему. А ты знаешь, что за человек староста ломжинский? Терпеть его не могу.
– Я тоже его недолюбливаю, – сказал Бутлер, – а знаю о нем только то, что это человек вздорный, упрямый, довольно ловкий и бесстыдный. Такие люди, как он, имеют большой успех у женщин…
– Ну что ты!.. – перебил Ян Казимир. – Я слишком высокого мнения о маршалковой, чтоб думать, что она не устоит против пожилого вдовца. Не дай Бог, умрет Казановский – она, наверное, выйдет замуж, потому что детей у нее нет, молода и нравится всем; но Боже ее избави от ломжинского старосты!
– Опасный человек, – подтвердил Бутлер.
Староста ломжинский, о котором шла речь, Иероним Радзеевский, был хорошо известен в Варшаве как придворный Владислава IV. Он принадлежал к мазовецкой шляхте, не знатного рода; отец его получил кресло в сенате при Сигизмунде III главным образом благодаря тому, что отличался гостеприимством и умел угодить королевским фаворитам. Угощениям и подаркам воевода ленчицкий был обязан тем, что сам получил сенаторское звание, а сына пристроил при королевиче.
Молодой Иероним еще в самом начале своей карьеры при Владиславе и дворе показал себя тем, что избранный послом [15]15
Депутатом в сейме.
[Закрыть], едва не был выгнан из посольской избы как соблазнитель девушки знатного рода, и удержался только благодаря собственной наглости и заступничеству короля.
Назначенный позднее кравчим при королеве, он сумел сделаться полезным Марии Людвике, донося ей обо всем, что ему удавалось узнать, но не пользовался ее уважением.
Те, которые знали его ближе, отзывались о нем неодобрительно. Дерзкий и бесстыдный интриган, заносчивый и спесивый, совершенно не стеснявшийся в выборе средств, он не имел друзей, но в случае надобности привлекал на свою сторону кошельком и кубком. Искренних сторонников не находил, да и не искал. При всем том, когда нужно было, ломжинский староста умел так обходить людей, в особенности женщин, что его считали опасным. Женившись дважды, он добивался только приданого, а на остальное не обращал внимания. Не имея большого состояния, так как отцовских Радзеевиц не хватало на пышную и роскошную жизнь, он выхлопотал себе ломжинское староство, получил после жен порядочное наследство, и ему предсказывали блестящую карьеру, так как он умел всюду втереться, пролезть и забежать вперед.
Он с самого начала старался найти себе приятелей среди окружающих Казимира, но до сих пор это ему не удавалось.
По возвращении короля в Варшаву явился и Радзеевский с поздравлением, но король принял его холодно, хотя тот провожал его и королеву в Ченстохов, а потом на охоту. Ян Казимир рад бы был от него отделаться, но не умел справиться с нахалом, на которого не действовало холодное обращение.
В ноябре был созван сейм, который держал себя не так, как было бы желательно.
Збаражские голоса уже заглушили и затмили блеск и славу зборовских трактатов. Пасквили на Оссолинского умножались, что также могло дурно отозваться на сейме.
Во избежание недоразумений постарались пустить в ход сравнительно маловажные дела, касавшиеся различных областей; счеты, раздача должностей, плата войскам наполнили первые заседания, так что вначале ничего щекотливого не выплывало.
К тому же сейм, по тогдашнему обыкновению, был для сенаторов и послов Речи Посполитой отличным предлогом увеселений и взаимного угощения. Один праздновал именины, другой получение должности, третий свадьбу, иной мирился с врагом, и все это служило поводом банкетам и пирушкам. Король и королева очень часто получали приглашения и удостаивали своим присутствием даже свадьбы любимых слуг, хотя Мария Людвика иногда не только сама отказывалась, но и короля не пускала, так как он имел склонность забываться в веселой компании.
Вообще сейм был тем более занят, чем меньше работал. После пирушки утром многие вставали поздно и не присутствовали на заседаниях; другие не приходили, потому что были заняты приготовлениями к банкету; а так как вскоре наступил Рождественский пост, то и на церковные службы уходило немало времени. Разумеется, по праздникам и воскресеньям заседаний не было.
Канцлер и другие влиятельные сановники имели в сейме, в обеих избах своих сторонников, которые очень ловко добивались откладывания щекотливых вопросов и внесения безобидных.
Вообще время проходило довольно весело.
Королева издали следила за всем. Сейм действовал уже второй месяц, хотя плоды его деятельности трудно было заметить, когда прибытие, довольно торжественное, воеводы русского, героя, возбуждавшего всеобщую зависть, а потому и недоброжелательство, взбудоражил столицу.
Збаражский герой прибыл, как и надлежало вождю, с большим и нарядным отрядом отборной конницы, и, как подобало магнату, ведшему свой род от литовских кролей, с блеском и пышностью.
Он хорошо понимал, какое отношение встретит; но как человек непреклонного характера, не придавал этому значения. Дав столько доказательств патриотизма и самопожертвования, согласившись примириться с князем Домиником Заславским, Вишневецкий сознавал себя настолько чистым и свободным от всякого нарекания, что смело мог пренебрегать своими мелкотравчатыми врагами.
Так он и поступал, но для сенаторов и для самого короля его суровая, неприступная, холодная фигура была неприятной и нежеланной. Сам король видел в этом герое соперника, который затмевал его, так как никто уже не сравнивал зборовских подвигов с збаражскими; к тому же Вишневецкий за все, что он вытерпел, за все свои громадные потери был так скаредно вознагражден, что нерасположение двора и короля к нему было очевидно, а между тем приходилось смотреть в глаза этому обиженному королем, но высоко вознесенному народом мужу.
Король, который до тех пор был в хорошем настроении духа и развлекался у отцов общества Иисусова, позволив себя выбрать протектором их конгрегации, вместе с князем Альбрехтом Радзивиллом, состоявшим ее секретарем, теперь, по прибытии воеводы русского, нахмурился.
А тут как раз старый приятель, канцлер Радзивилл, поссорился с Яном Казимиром. Вышло это из-за неважного дела, но Радзивилл любил справедливость, и если чувствовал на своей стороне право, был упрям.
Король приказал Радзивиллу подписать и скрепить печатью декрет по делу воеводы виленского с неким Евлашевским. Воеводой виленским был в это время Криштоф Ходкевич, так как сам Радзивилл не принял предложенного ему воеводства. Между двумя этими родами издавна существовала вражда, затихшая, но не угасшая, так что канцлер считал себя обязанным как можно внимательнее рассмотреть декрет и не допустить малейшей несправедливости.
– Наияснейший пан, – сказал он, прочитав декрет, – я не могу подписать его.
– Почему? – резко спросил король, рассчитывавший на снисходительность и дружбу Радзивилла.
– Потому что его писал человек, незнакомый с литовскими законами, и в нем есть пункты, которых они не допускают.
Начали спорить; Ян Казимир, не питавший особенного уважения к законам, хотел заставить канцлера подписать декрет. Но для старика всякое принуждение было нестерпимо. Наконец король воскликнул:
– Не хочешь подписать? Ну так я сам подпишу!..
Радзивилл усмехнулся.
– Наияснейший пан, а кто же приложит печать? – спросил он. Раздосадованный король проворчал:
– Литовское право! Я знаю его не хуже вас!
– Простите, ваше королевское величество, – холодно возразил канцлер, – но вряд ли это возможно. Ваше королевское величество милостиво правите нами около года, я же имею дело с этим правом уже тридцать два года.
Сильно разгневанный этой отповедью, но уже не говоря ни слова, Ян Казимир вышел, хлопнув дверьми, и встретившись с Бутлером, начал жаловаться ему на канцлера; однако староста не поддержал его.
К утру все изменилось: король успокоился, велел переписать декрет и возобновил добрые отношения с Радзивиллом, так как без Евлашевских он легко мог обойтись, а без Радзивиллов – никоим образом.
Но уважение к величеству не выигрывало от таких бессильных выходок. Тем временем с одной стороны понукали, с другой всячески задерживали внесение на обсуждение сейма зборовских трактатов.
Готовились к этому усердно. Совещались у королевы, у короля, у канцлера Оссолинского, у панов сенаторов, расположенных к двору – и, наконец, с ведома Марии Людвики, так как без нее теперь ничего не решали, канцлер приготовился дать отчет в своем деле.
Оссолинскому приходилось выбирать один из двух путей: или искренно оправдывать свое дело необходимостью и стечением обстоятельств; или превозносить зборовскую победу и собственный трактат; а так как всеобщее увлечение пасквилями раздражало его, то канцлер решил, наперекор ему, поставить на неслыханную высоту как битву, так и трактат. Он умышленно умалил средства, которыми располагал король, чтобы то, чего он достиг с ними, казалось больше.
В первый день, в субботу, сейм в угрюмом молчании выслушал первую часть доклада; никто не возвысил голоса. Воскресенье прервало и разорвало на две половины отчет Оссолинского, который продолжал его в понедельник и, ободренный молчанием, поставил победу над татарами под Зборовым выше хотинской!
И это было встречено молчанием, но по зале пробежал насмешливый шепот.
Затем примас стал благодарить короля за избавление отечества, благодарить вождей, хотел благодарить и Киселя за то, что он, рискуя собственной жизнью, ездил к Хмелю, но тут поднялся шум. Стали протестовать. Однако все кончилось тихо и мирно, так как благодарили вообще всех, а сеймовый маршалок на тогдашнем, переполненном латынью, языке назвал воинов, защитников отчизны, «делицией народа» [16]16
Delica – утешение.
[Закрыть].
Настоящий триумф достался на долю гетмана литовского Радзивилла, который подготовился к нему, так как приказал принести захваченные знамена и поверг их к ногам короля!
Затем стали рассуждать об утверждении трактатов. Король действовал неустанно, но по-своему. Являлся рассеянный, слушал, произносил готовую, продиктованную ему речь, поскорее отделывался от важных дел и распространялся о пустяках.
К его заботам прибавилась еще одна. Его всегда интересовала красавица маршалкова Казановская; теперь он беспокоился о ее судьбе. Уже несколько недель Адам Казановский лежал в постели, разбитый параличом, почти без языка, осужденный на неизбежную смерть.
Не имея детей, он до сих пор не написал завещания, а теперь вряд ли мог написать его. Еще при жизни он говорил, что оставит все свое состояние жене, но теперь родня поджидала его смерти и завладела бы огромным состоянием, если б король не явился на помощь.
Казановскому становилось хуже с каждым днем. Маршалковой вовсе не улыбалось быть изгнанной из рая, каким был для нее пышный дворец маршалка, лишиться богатства или зависеть от милости родственников. Она дала знать королю, что хочет его видеть.
Хотя ухаживание короля за Казановской восстановило против нее Марию Людвику, король не колебался отправиться к ней.
Она вышла к нему с заплаканным лицом.
– Ах, наияснейший пан! – воскликнула она. – Я бы не посмела просить вашего участия, но вся моя судьба в руках вашего королевского величества. Адам, муж мой, лежит на смертном одре, надежды на выздоровление нет; останусь бедной вдовой, окруженной со всех сторон врагами. Муж не успел написать завещания, а теперь не может написать…
Хорошенькая пани ломала руки и плакала. Король был сильно взволнован.
– Посоветуемся с законниками, – сказал он, – наверное, что-нибудь можно сделать. Будьте покойны, пани. Я сам слышал из уст маршалка, что он хочет оставить свое имущество вам.
Казановская не могла много говорить из-за слез; оправдывалась, утверждая, что не жадность руководит ею; что это жилище полно для нее воспоминаний, а родня уже грозит немедленно выгнать ее из дворца; что она ценит доброту мужа и т. д.
Вернувшись от маршалковой и не зная, что предпринять, король, как всегда, когда требовался опытный помощник, послал за Радзивиллом. Он то и дело ссорился и спорил с этим старым другом, когда тот не хотел уступать ему; но сменял гнев на милость, так как чувствовал в нем великую опору для себя. Князь канцлер, давно зная характер и темперамент короля, обходился с ним смело.
На этот раз Ян Казимир принял его сердечно и заперся с ним для беседы наедине.
Радзивилл был того мнения, что свидетельство двух знатных сановников, официально составленное, может заменить завещание. В тот же день воевода и каштелян по просьбе короля отправились от его имени к маршалку, который еще оставался в полной памяти, хотя жизнь уходила и говорить ему было трудно.
Казановский принял их, благодарил короля за участие к его жене и на вопрос: кому он хочет оставить свое состояние, ответил, что все, без малейшего изъятия, оставляет жене.
Воевода черниговский заявил ему, что для того, чтобы быть действительной, его воля должна быть немедленно записана и засвидетельствована их подписями и приложением печати; что и было исполнено.
После этого Казановский сказал слабым голосом, что теперь он умрет спокойно.
Таким образом, пани маршалкова была обязана королю Яну Казимиру тем, что сделалась обладательницей громадного состояния, а родня не могла оспаривать последнюю волю, так торжественно выраженную.
Знатнейшие сенаторы и много послов были на званом обеде у примаса лубенского в самый день Рождества Христова, когда за десертом придворный архиепископ принес печальное известие о кончине Адама Казановского.
Каждая такая смерть знатнейшего сановника в королевстве волновала всех: открывалась вакансия, а занятие ее, освобождая ближайшую должность, влекло за собой целую вереницу перемещений.
К королю мало кто обращался в подобных случаях, так как он ничего не давал и ничем не распоряжался без Марии Людвики, если же поддавался на чьи-нибудь просьбы и распоряжался самостоятельно, то потом так каялся в своем самоволии, что надолго терял к нему охоту.
Освободилась должность коронного маршалка; осталась молодая, красивая, богатая вдова: было о чем потолковать на праздниках.
Первые три дня Рождества король и двор почти с утра до вечера проводили в костеле, на богослужении, но это не мешало погоне за вакансиями, и прихожая ксендза де Флери, Денуайэ, даже панны Ланжерон были полны просителей и их приятелей. Шептались, обещали друг другу.
В довершение всего под конец сейма возникла ссора между канцлером Оссолинским и Вишневецким, вызванная неосторожными словами Оссолинского.
Он начал жаловаться в сенате на пасквили, оскорбительные для его чести, на клевету, сыпавшуюся на него, на издевательства, которые ему приходилось терпеть, и так разгорячился, что напал не только на сторонников воеводы русского, но и на него самого, называя его виновником.
На другой день Вишневецкий выступил с протестом, дошло до колкостей, до ссоры и шума, которые король тщетно старался унять. Оссолинский расходился до того, что восстановил против себя даже Яна Казимира. Только на следующий день благодаря вмешательству некоторых послов были прекращены частные дрязги и жалобы, отнявшие столько времени, что сейм не мог закончиться в декабре и заключение было отложено на следующий год.
Оссолинский испортил себе немало крови, а воеводу русского, который холодно защищался и спокойно доказывал, эта ссора еще более подняла в глазах всех, хотя и без того он стоял высоко.
Раздражение канцлера справедливо приписывали его бесславному делу, для поправления которого он старался отнимать у других и прибавлять себе то, чего ему не хватало.
Наступил Новый год и принес богослужения и, что еще важнее, вакансии, о которых всячески хлопотали, чтобы король поскорее раздал их.
Говорили тихонько, что королеве обещано сто тысяч злотых за должность маршалка, освободившуюся по смерти Казановского, но тут стали на страже Радзивиллы и Любомирские.
Брат жены князя Альбрехта, Юрий Любомирский, генеральный староста краковский, получил эту должность.
Начались формальные торги, с которыми ничуть не таились. Ян Казимир, по крайней мере явно, не вмешивался в них; но ее величеству королеве давали взятки, доходившие иногда до сотен тысяч.
Тотчас после Нового года королева пригласила к себе Альбрехта Радзивилла. Хотела дать ему староство борисовское, так как ей требовалась взамен Тухла, но канцлер отказался.
В тот же день бедному, измученному и заслуженному Киселю был дан Новый Торг, а племяннику Радзивилла Мария Людвика предложила то самое староство борисовское, которым пренебрег его дядя, с придачей подарка в три тысячи с тем, чтобы он постарался о назначении ей Речью Посполитой ежегодной пенсии в сорок тысяч с Короны, в двадцать с Литвы.
Трудно представить себе в наши дни, что в то время великий магнат, знатный сановник, представитель знаменитого имени, мог так маклачить с ее королевским величеством! Это была эпоха такого морального упадка, такого, можно сказать, бесстыдства, что подобные вещи никого не смущали. Каждый без совести и сожаления рвал на клочки злополучную Речь Посполитую, которой нечем было платить войскам.
Тот самый канцлер Радзивилл, человек суровой нравственности, который в казацких бунтах видел справедливую кару за угнетение хлопов, не усматривал ничего особенного в этих плутнях и тщательно записывал их в своих мемуарах.
Да, печальные то были дни! Перо часто останавливается и дрожит, когда приходится описывать и судить их.
Сейм кончился наскоро, времени не хватило даже на важнейшие дела. День отняла свадьба панны Ланжерон, которую королева выдала за старосту плоцкого, причем немало смеялись над ее морщинами; другой занял пир по поводу свадьбы; а тем временем казацкие послы со своим митрополитом снова проникались ненавистью и присматривались к этому обществу, которое вовсе не чувствовало себя в опасном положении и по-прежнему гордо поднимало голову.
Простое напоминание о том, что митрополит должен быть принят в сенате, встретили бешеными криками, зборовского договора уже знать не хотели, и так мало уважали самих себя, что половина сейма пила и плясала на свадьбе панны Ланжерон.
Не было там, к сожалению, Бояновского, а, впрочем, если б он и явился, то его, наверное, вытолкали бы за дверь.
Так сейм тянулся изо дня в день и дотянулся до конца января, утомив всех.
Как грозное memento mori явились на последнее заседание казаки со своим митрополитом, и требования их после долгих споров пришлось исполнить.
Общая картина этих совещаний в момент величайшей важности наводит грусть.
Слепота обуяла всех: никто не видит, никто не предчувствует, не рассчитывает. Все попытки выбиться из колеи погромов, которые можно бы было повести новым, лучшим путем, возвращаются на старую, торную дорогу, и снова влачатся по ней.
С казачеством как будто все было кончено.
Во всей своей силе явилась во время этого сейма королева; все видели и говорили, что она управляет королем, «как арапчонок слоном».
Ян Казимир забавлялся, скучал, приходил в нетерпение, сердился, но никогда не мог разобраться ясно в делах управления, да и не принимал их близко к сердцу. Наиважнейшее дело в сенате не так занимало его, как карлики, обезьяны, попугаи и скандальные придворные делишки, о которых он любил слушать. Для этого имел несколько придворных, которые собирали для него по всем углам дворцовые сплетни.
Этой слабостью пользовались все, от когда-то блиставшей Бертони до последнего служителя.
При людях все выказывали покорность перед особой короля, но с глазу на глаз его придворные обходились с ним с возмутительной фамильярностью. Старшие едва могли сдерживать эту распущенность, а король своим поведением только поощрял ее.
Свадьба панны Ланжерон подействовала на Бертони так, что она соскучилась по своему, давно не виденному, покровителю. Она знала о сейме, но потому что о нем говорил весь город, и не лезла в замок, но все же ей показалось необходимым на Новый год напомнить королю о себе и о своей дочери. Но как добраться до короля?.. Стржембош, если бы она только обратилась к нему, наверное, нашел бы возможность провести ее боковыми дверями, но она тем не менее ни за что на свете не хотела иметь с ним дело.
Старухе удалось недорого купить в Старом Городе корзинку очень хороших апельсинов. Решила отнести их в качестве новогоднего подарка наияснейшему пану. Но как же их снести и отдать? Между старшими слугами в замке у нее были знакомые, но теперь она так загордилась, что не хотела брататься со всеми.
«Радовалась, когда его королем выбрали, – говорила она себе самой, – думала, что и мне будет от того польза, а теперь изволь до него добиться. Но так это не может остаться, нет!»
Бродя по замковым коридорам, она наткнулась на немножко знакомого ей королевского служителя с немецкой фамилией, хотя родившегося и воспитавшегося в Польше, Рихтера.
Начала с того, что предложила ему апельсин и свою увядшую улыбку.
– Хотела бы на минутку попасть с подарком в уборную наияснейшего пана, а? Пустите меня?
– Нет, – ответил Рихтер, – но могу спросить короля.
– Скажите ему, что пришла Бертони! Увидите, сударь, что он прикажет впустить меня.
Рихтер пошел и пропал, а с ним и апельсин. Итальянка уже начала сердиться, так как находила унизительным для себя дожидаться в коридоре, как вдруг увидела перед собой Стржембоша. Хотела уже уйти, чтобы не ссориться с ним, но Дызма остановил ее:
– Наияснейший пан поручил проводить вас в уборную, – сказал он, – прошу вашу милость следовать со мною. Как видите, я вежливее, чем вы были в собственном доме.
Говоря это, он отворил дверь.
В уборной перед зеркалом в серебряной рамке стоял полуодетый, но уже не по-польски, так как давно отказался от этого костюма, Ян Казимир; он примеривал парик, а другой, для выбора, держал в руках лакей. Услышав шелест женского платья, король повернулся.
Свидетели были совсем некстати для итальянки. Она поставила перед королем корзинку с апельсинами и принялась поздравлять его по-итальянски.
Король, смеясь, принимал ее пожелания. Бертони жаловалась, что для нее теперь так труден доступ к королю, а между тем она могла бы на что-нибудь пригодиться, предостеречь, услужить. Не утерпела затем, чтобы не упрекнуть короля в равнодушии, пренебрежении, забывании о ее дочке.
Привыкшая к очень свободному обращению, Бертони стала говорить живее и громче.
– Кого любит и кому покровительствует ее милость королева, тому хорошо живется! – воскликнула она, подступая ближе к королю. – А от вашего королевского величества даже важнейшие слуги ничего не получают. А я-то надеялась на вашу милость для Бианки! Ланжерон вышла за каштеляна, королева сама выдала ее! А?
Король засмеялся.
– Чего же ты хочешь? Чтобы я сватал за твою дочь сенаторов и дружкой был? Ошалела ты, что ли? Говоришь, что до меня теперь не добраться… но ведь теперь сейм: только им голова занята. Если что понадобится, можешь через Стржембоша передать мне.
Бертони рассердилась страшно.
– Да ведь этот негодяй причина всех моих бед! – закричала она. – Я его знать не хочу, ноги его не будет в моем доме!
Один из дворян короля дернул за рукав громко кричавшую Бертони и сказал:
– Тише…
Она так смутилась, что начала плакать, а это редко случалось с нею, только в минуты крайнего расстройства. Король взглянул на нее.
– Э! – воскликнул он кислым тоном. – Дождь идет… Гроза приближается… Надо утекать. Слышишь, Бертони, у меня нет времени, чего ты хочешь от меня?
Итальянка рассердилась еще пуще.
– Как это, чего я хочу? – возразила она. – Разве ваше королевское величество не обещали покровительствовать мне и моему детищу?.. Вам известно, что я имею на это право, как и Бианка. И что же затем следует: двери для меня закрыты… король меня знать не хочет.
Ян Казимир привык, когда доходило до подобных сцен, спасаться бегством; быть может, ему и хотелось переменить парик, но он остался в том, который был у него на голове, и направился к дверям; однако проворная итальянка загородила ему путь.
– Наияснейший пан! – крикнула она. – Не годится так отделываться от меня!
– Чего ты хочешь?
Бертони не могла высказать свои желания в нескольких словах, а слушать длинные объяснения у короля не было времени. Он несколько раз прерывал ее; придворные начали подсмеиваться и фыркать, что рассмешило короля и итальянку привело в неистовство. Она расходилась до неприличия. К счастью, не все понимали, что она выкрикивала по-итальянски:
– Какой ты король, подумай! Что скажет ее величество, то ты и делаешь. Да что магнаты продиктуют или хорошенькие панны выпросят! И я-то дура, что на такое рассчитывала. Никому от тебя пользы!.. Кричат о твоих победах! А люди над ними смеются. Говорят, что ты откупился от татарских цепей. Хорош, нечего сказать, хорош!
Ян Казимир перестал смеяться, нахмурился и рассердился.
– Молчи, – крикнул он, – не то я велю тебя выпроводить! Если имеешь ко мне дело, а со Стржембошем говорить не хочешь, подай прошение. А препираться с бабами мне некогда.
Сказав это, он повернулся и быстро вышел, а Бертони, оставшись среди смеющихся придворных, тоже поспешила убраться.
Тем временем корзина с апельсинами, предназначенными для короля, сделалась добычей дворни. Один из младших служителей стянул апельсин, за ним другие стали хватать по одному-по два, так живо, что вскоре не осталось ни одного, а корзинка была брошена в угол, чтоб не попалась на глаза.
Стржембош счел своею обязанностью проводить Бертони, проклинавшую короля, по коридорам, но уже не дразнил ее и не заговаривал с ней, чтоб не усиливать ее бешенства.
Только у выхода он поклонился и сказал:
– Я всегда к вашим услугам, если вашей милости что-нибудь потребуется от короля. Прошу не забывать, что хотя ваша милость меня знать не хочет, но я искренний друг и вам, и панне Бианке.
Итальянка, заткнув уши, выбежала с проклятием.








