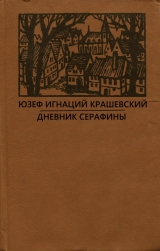
Текст книги "Роман без названия"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Судья, по обыкновению с видом строгим и хмурым, присел, чтобы занять родича беседой, и жена сразу же удалилась, озабоченная тем, как подать чай, к которому не было ничего, кроме хлеба да черствых, темной муки баранок, а дети, боязливо столпившись у дверей в соседнюю комнату, робко разглядывали важного гостя. Разговор зашел о потомстве, о котором пан судья перед чужими всегда отзывался с величайшей нежностью, и пан Адам вспомнил про Станислава, который на это время был послан в овин.
– Могу вас поздравить, дорогой кузен, – приятно улыбаясь, сказал он. – Я слышал, Стась возвратился, весьма успешно окончив гимназию; мне говорили, что он весьма способный юноша, был одним из первых и получил награду… Но где же ваш славный мальчик? Я хотел бы поговорить с ним.
При всей своей прямоте пан судья не решился признаться, что бывший гимназист заменяет гуменного, и объяснил отсутствие Станислава тем, что мальчик, верно, на охоте, однако поспешил выйти и сказать Фальшевичу, чтобы сменил Стася в овине и направил в горницу, да чтобы тот оделся поприличнее.
Через несколько минут появился и Станислав в новом мундире – хотя из гимназии он уже вышел, другого платья у него не было. Пан Адам чрезвычайно любезно поднялся ему навстречу и, осыпая похвалами, расспрашивая о занятиях, о товарищах, учителях и дальнейших планах, Усадил рядом с собою.
Положение Станислава было не из легких – присутствие отца совершенно его парализовало, от отцовского взгляда у него отнимался язык, он не знал, что делать. Но если уж кто настроится принимать все с лучшей стороны, тому все нравится, и пан Адам любое словечко Станислава толковал в наивыгоднейшем смысле, находя его незаурядно остроумным и приятным юношей.
– Стась, конечно, поедет в Вильно? – спросил пан Адам. – Жаль хоронить такие способности в деревне, занимаясь хозяйством.
– Именно так, милостивый пан, – ответил отец, утвердительно кивнув. – Хотя для нас это весьма нелегко, пройдется поднатужиться, чтобы отправить его в Вильно.
– На какое же отделение? [16]16
По уставу для университетов, введенному в 1804 г., прежние факультеты именовались «отделениями».
[Закрыть]
– На медицинское, – сказал судья, – эта профессия дает верный кусок хлеба.
Пан Адам слегка смутился, его встревожил престиж имени Шарских, которого не носил еще ни один лекарь.
– Наука прекрасная, – молвил он, глотнув слюну, – но только есть ли у Стася влечение к ней?
Стась, естественно, опустил глаза и не посмел сказать ни слова.
– Есть или нет, – возразил судья, – мы должны прежде всего думать о хлебе насущном, для нас это главное.
– Но мне кажется, любезный кузен, что кусок хлеба у твоих детей и так будет.
– Шестеро их! Шестеро! – серьезно возразил судья. – А я долго не проживу, пусть не надеются на большие капиталы.
На том прекратился этот не слишком приятный разговор, и было заметно, что слово «медицина» произвело на пана Адама ужасно досадное, хотя и не обнаруженное явно, впечатление.
– Долго еще Стась пробудет дома? – спросил он после минутной паузы.
– Несколько недель, пока не соберу деньжат ему на одежду, на дорогу, все это немало стоит, а времена нынче тяжелые, – сказал судья, – приходится от себя отрывать.
– Я был бы рад познакомиться со Стасем поближе, – перебил его пан Адам. – Разреши ему, пан судья, приехать ко мне на недельку, окажешь тем большую любезность.
У Стася заколотилось сердце, но, не имея собственной воли, он не сумел выразить свои чувства, кроме как поклоном. Судья заметно смутился – и отказать не хотелось, и разрешить он не собирался. Ведь надо будет дать лошадей да, возможно, несколько злотых на дорогу; прикидывал он и то, что новый мундир будет надеваться каждый день и поизносится, а главное, не хотелось отпускать Станислава из опасения, что пребывание у богатой родни вскружит парню голову. Но можно ли отказать любезному пану Адаму! Тот его так убеждал, так наседал, так – быть может, с неким расчетом – прижал судью, что в конце концов гостю дано было слово, что Стася пришлют на неделю в Мручинцы.
Надежда на отдых, пусть недолгий, взволновала юношу, но какою ценой придется за него заплатить! Станислав знал, что после отъезда пана Адама на него безвинно обрушится град упреков и брани и, прежде чем его выпроводят в Мручинцы, он вволю наглотается оскорблений. Но, к великому его изумлению, все это его миновало.
– А знаешь, дорогой пан судья, – сказал, взяв обе руки Стася в свои, пан Адам, видимо, не желавший отказаться от мысли поскорее похитить Станислава, – дай мне Стася прямо сейчас, тебе не придется его отправлять, соберется он мигом, и я подольше порадуюсь его обществу.
Судья заметно смешался, он не был уверен, что у будущего студента есть пара целых сапог и свежее белье; стал он возражать, выкручиваться, но, чем больше он хитрил, тем сильнее настаивал паи Адам. Наконец, после совещания шепотом с женою в другой комнате, выяснив, что найдутся и новые штиблеты, и белые сорочки, судья, злясь и ворча, разрешил ехать.
Стась побежал во флигель готовить свой узелок, и через полчаса, после приготовленной с большими хлопотами чашки чая, который пан Адам проглотил как микстуру, они уже ехали в Мручинцы.
Там молодой человек очутился в совершенно иной среде – правда, он порою чувствовал себя неловко, робость природная и приобретенная из-за домашнего гнета мешала ему показать себя, а все ж в Мручинцах дышалось куда легче, куда свободней. Если бы не промахи, которые он делал по незнанию светских правил, и не унизительная наглость слуг, Станислав был бы почти счастлив. Здесь У него были книги, досуг для размышлений, были дотоле неведомые воля и покой. Вдобавок пан Адам, его супруга и даже Аделька держались со Стасем очень вежливо, любезно, предупредительно.
Через несколько дней он освоился с домом и с домочадцами, и ему стало совсем легко. Он уже не в первый раз приезжал в Мручинцы – пан Адам забирал его к себе на несколько дней почти каждые вакации и праздники, и знакомство с Аделькой было давним, так что, возможно, и то стихотворение «К неведомой возлюбленной» было навеяно воспоминанием о ее черных глазах.
Балованное, нарядное, прелестное дитя не могло оставить Станислава равнодушным – то была первая женщина, с которой он мог держаться запросто, первый идеал, засиявший ему на земле. Они проводили вместе целые дни, и девушка уже начинала кокетливо улыбаться юноше, инстинктивно почувствовав его преклонение и любовь. Родители ее либо этого не замечали, либо не желали обращать внимания на то, в чем вполне основательно видели невинное ребячество. Гувернантка Адельки, француженка м-ль Зюсс, забавлялась платонической любовной игрой двух подростков, потешалась над ними и чуть ли не помогала. Началось со взглядов, с отдельных словечек, с собирания цветов вдвоем, с переписанной песенки – и весело продолжалось день за днем.
Тем временем пан Адам, пользуясь случаем, не раз заговаривал со Стасем – проект обучения медицине ему претил, и он старался выяснить, нет ли у юноши хоть малейшего желания воспротивиться отцовской воле. Казалось, он даже был готов взяться переубедить судью, если найдется повод.
Таким поводом послужила поэзия. Стась был слишком молод и прямодушен, чтобы с чем-то таиться, и на второй же день его пребывания в Мручинцах страсть, с какою он накинулся на книги, его речи, намеки обнаружили поэта.
– А что же будет с медициной? – спросил пан Адам. Станислав лишь глубоко вздохнул.
– На мой взгляд, – серьезно сказал родственник, – нехорошо зарывать в землю божий дар, ты должен просить отца, чтобы он направил тебя по более подходящему пути, а я, я бы мог за тебя замолвить слово.
При одной мысли о сопротивлении отцу Станислав затрепетал, побледнел, застыл на месте.
– О, это невозможно! – воскликнул он. – Если отец что-то решил, он своего решения ни за что не изменит. Пожалейте меня, пан Адам, не говорите с ним об этом, он даже мысль такую никогда бы мне не простил.
Пан Адам только головою покачал.
Но ты понимаешь ли, к чему это приведет? – спросил он. – Ты и настоящим поэтом или писателем не станешь, и врачом хорошим не будешь – загубишь свое призвание и жизнь себе исковеркаешь.
– Другого выхода нет! – решительным тоном возразил Станислав. – Буду днем трудиться ради хлеба насущного, а ночью – для души.
Слезы проступили у него на глазах, и больше он об этом не заговаривал, а пан Адам с досадою пожал плечами, однако в дальнейшем при каждом удобном случае не упускал напомнить, как важно в жизни руководствоваться природными способностями, влекущими человека к какой-либо деятельности. Эти слова подкреплялись примерами загубленных судеб, когда люди не следовали внутреннему голосу. Стась внимательно слушал и все больше сокрушался над своим положением, не видя выхода.
Как сон пролетели дни в Мручинцах, юношу озноб пробирал при мысли, что надо из этой атмосферы богатства, свободы, учтивости возвратиться в краснобродский флигель, к молотьбе, к Фальшевичу и домашним пыткам, но он гнал свои страхи, отравлявшие мимолетное счастье, и всею душой радовался окружающему.
Ах, какие то были чудесные минуты! Как золотые, идеальные грезы пролетали они, преображаясь в воспоминания, в неуловимые видения… После ночи мечтаний вчерашний день уже казался поэмой, утро представало вечером как волнующая песнь, и юная душа с присущим ей пылом тотчас облекала каждый минувший миг в роскошные, нетленные облачения, пряча его в самом заветном уголке сердца. Как в давние героические века, здесь все было событием, пустячное происшествие, слово, движение разрастались до грандиозных размеров. О, велико могущество сердца в пору пробуждения первых чувств и впечатлений: оно творит из ничего – а уж если Провидение подарит ему чудесный сюжет… Вот и поет тогда сердце эпическую поэму жизни, и, если эту песнь прервет холодная действительность, ее уже никогда не удастся ни допеть, ни повторить.
Стась забывал обо всем, нежился на пуховиках мечтаний – пробуждаясь в жару, засыпая в лихорадке, он со страхом считал часы, приближавшие отъезд, мысль о Красноброде вызывала у него дрожь и отвращение, он старался о нем забыть и под разными предлогами оттягивал возвращение домой, но чем больше оно откладывалось, тем страшнее казалось.
Тем временем дни проходили восхитительно, были полки бесчисленных событий, незаметных для чужого глаза, а для юной пары столь же значительных, как мировые катаклизмы. В какой-то день Аделька была грустна, дулась несколько часов со Станиславом не разговаривала – часы эти казались Стасю веками отчаяния, юноша, оробев, отстранился от нее, на другой день она вернула все его подарки, а вечером того же дня они помирились и поклялись друг другу в вечной любви. Дата эта, этот вечерний час, облик неба и земли в тот миг глубоко врезались в память обоих – первая торжественная минута в их еще недолгой жизни! Обменяться кольцами они не могли, колец не было, и они обменялись сорванными в саду стебельками незабудок, которые быстро – о, очень быстро! – увяли и засохли на пылающей груди. После достопамятного вечера, который вознес Станислава на седьмое небо и преобразился в пламенный любовный гимн, влюбленные, полагая, что отныне связаны ненарушимым обетом, немного успокоились, а Стась даже стал меньше бояться возвращения домой, желая ради любимой пострадать, даже претерпеть мучения, дабы доказать свою любовь.
Оставшиеся дни, каждая минута которых была на счету, они жили, поглощенные своим чувством, строя планы на будущее и по своему разумению справляясь с ожидаемыми препятствиями, как с гордиевым узлом, устраняя их мечом юности и пылкой страсти! Аделя была готова упасть родителям в ноги и молить их о разрешении. Станислав намеревался все сказать отцу с почтением, но также с несокрушимой твердостью и не поддаваться никаким угрозам, запугиваньям, даже самым жестоким пыткам.
Почему прекрасные грезы и чувства молодости, столь возвышенные, расцвеченные столь поэтичными красками, так мимолетны, так непрочны? Почему взрослый человек, храня их в душе, сам над ними смеется и потешается, не щадя святую невинность мечтаний весенней своей поры? Когда же в нас больше чувства, благородства, пылкости, любви, самоотверженности и веры во все великое и прекрасное? И разве стоят рассудок и холод зрелых лет тех восторгов, таких смешных, но также великих своей искренностью?
Увы, это только минута в жизни – только минута, которую опровергнут все дальнейшие дни, дни холода, скуки и расчета. Только для безумцев, кому выпадет счастье повредиться рассудком, она длится больше обычного. О, как странен кажется при седых волосах бурный, непостижимый, смешной и неукротимый расцвет чувств! И кто бы не отдал все богатства зрелой поры, только бы вернуть хоть один час тех чарующих дней, хоть одно биение сердца, хоть один полет в небеса! Но ничто не возвращается, ничто не повторяется, и время железною рукой ведет нас на гору, на голую вершину, с которой сбрасывает в вечное забвение.
Но вот настал печальный, торжественный вечер прощанья, последний вечер. Не дождавшись сына, судья прислал за ним бричку, повелев вознице передать, чтоб паныч завтра на заре был в Красноброде. Сердце у Стася разрывалось, но пришлось покориться.
К счастью, вечер был чудесный, и любившая прогулки м-ль Зюсс предложила Аделе прогуляться; естественно, их сопровождал Станислав, и едва они удалились от дома, как юная пара скрылась, убежав вперед, чтобы поговорить на свободе. У обоих в глазах стояли слезы; взявшись за руки, они молча остановились под липами, не – в силах слово вымолвить.
– Ах, господи боже! – воскликнул наконец Станислав. – Вот и последний вечер! Кто знает, надолго ли мы должны расстаться, быть может, навек.
– Но ты же приедешь сюда, прежде чем покинуть наши края? – спросила с волнением Аделя.
– Не знаю, не знаю! Это зависит от отца! Разрешит ли он?
– Об этом я не спрашиваю! Я так хочу! Я приказываю! Я рассержусь!
– Хоть тайком, но приеду!
– Да! О да! Мы должны увидеться! Помни!
Они опять помолчали, глядя друг другу в глаза.
– И незабудку храни! – прибавила Аделя.
– Ты еще сомневаешься? Как ты могла подумать?..
– Ты поедешь в город, там будут вокруг тебя новые люди, новые лица, а вы так легко забываете!
– О, а вы-то, Адель!
– Мы, если полюбим, так раз навсегда!
– Раз навсегда! – повторил Станислав. – Теперь я тебе скажу: запомни, запомни эти слова!
И они пошли дальше, печально опустив головы, дошли До конца сада, подали друг другу руки, и, когда их догнала м-ль Зюсс, лишь темнота не позволила ей заметить слез, блестевших в их глазах.
На другой день затемно, когда в Мручинцах все еще спали, Станислав, уезжая, оглянулся на окна комнаты Адельки и в одном из них увидел издали бледное личико и белый платок, которым она махала на прощанье…
Он прижал рукою к сердцу засохшую незабудку, возхлестнул лошадей, и высокие тополя усадьбы навсегда закрыли от него его счастье.
Напрасно Стась жадно всматривался в каждую прогалину темного леса, заслонявшего город от глаз нетерпеливого юноши. Медленно едучи по песчаной дороге, он все глядел вперед, но видел только деревья, песок да все чаще встречавшиеся придорожные корчмы. Мысли его то опережали лошадей, то возвращались вспять, к дому и к Мручинцам. Стасю трудно было связать свое прошлое с будущим, но хотелось любой ценой соединить их. И посреди каждой его молодой грезы возникал суровый отец и сильной рукой отталкивал его от выбранного пути. Последние несколько недель наполнили сердце юноши горечью, он прожил их, подвергаясь гонениям за стихи, в несносных трудах по хозяйству, во всевозможных унижениях, а когда настало время отъезда в Вильно, отец решительно заявил ему, что, ежели он не выкинет из головы литературу, песенки и прочие подобные глупости, он, отец, от него отречется и на порог не пустит. Стало быть, придется записаться на медицинское отделение, обещая себе работать за двоих и надеясь хоть урывками заниматься литературой. Снабженный весьма скудными средствами и множеством наставлений и советов, Станислав и не подозревал, как много трудностей ждет его в начинающейся новой жизни.
Откуда только берутся неиссякаемые запасы смелости и энтузиазма, которыми молодость наполняет грудь человека? Да можно ли тут сомневаться, колебаться и пасть духом, как падают люди пожилые?
И мало-помалу даже трудные задачи, стоявшие перед Станиславом, стали окрашиваться в его мыслях яркими весенними тонами и преображаться в надежды – только бы поскорее увидеть город, чтобы поприветствовать его крестным знамением, молитвой и поклоном.
Но вот у самой дороги, по левую руку, показалась корчма, перед которой стояло несколько бричек, и тут же еврейский заезжий двор, а поскольку тощие крестьянские лошадки, на которых ехал Стась, порядком притомились и еле брели, вознице пришлось сделать здесь остановку.
Видимо, это был один из тех заезжих дворов, которые возвещают о близости города и поставлены без надежды на то, что кто-нибудь остановится в них надолго, а потому не имеют просторных конюшен и прикидываются чем-то намного лучшим, чем они есть на самом деле. Над нижним этажом корчмы, вроде цокольного, наполовину уходящим в землю и окруженным поверху узкой галереей, возвышалось крылечко с резными столбиками и небольшой лестницей. В окнах гостевой горницы красовались висевшие, вероятно, уже не первый год занавески да два горшка с геранью и бальзамином.
Хозяйка, одетая по-городскому и не без щегольства, в это время как раз потчевала из четырехгранной фляги проезжих возниц, улыбаясь и мило щебеча, а на галерее стояла девушка помоложе, кокетничая сама с собой, потому что рядом как будто никого не было видно. Небольшая эта корчма, которая была пристанищем для возниц, замучивших своих лошадей на песчаной дороге, и привлекала их дешевой водкой, сдобренной турецким перцем, служила также рубежом для провожающих, неспособных расстаться с другом без многократных объятий. В ее единственной и довольно убогой горнице, все убранство коей составляли топчан, скамьи, драная занавеска и скудная зелень неухоженных цветов, частенько распивали привезенное из города шампанское и справляли ночные пирушки, для которых в городе не оказалось места.
Унылое это было заведение, как всякая пригородная корчма, где так и разит пьянством и где находит себе прибежище распоследний отвергнутый городом сброд, – облупившиеся стены, поблекший «герб» (armes parlantes [17]17
Говорящий герб (фр.).
[Закрыть], изображавший бутылку и рюмку), разбитая кое-где галерея и треснувшие стекла в окнах отнюдь не придавали ему прелести, а от нескольких чахлых сосен во дворе не было ни тени, ни уюта. Вокруг только пески да лысые холмы. Хоть невзрачный вид был и у заезжего двора, пришлось остановиться ради лошадей. Стась с нетерпением осматривался вокруг.
И вдруг – о чудо! – он заметил на галерее сперва одного, потом двух, трех, наконец, четырех школьных товарищей, ехавших, как и он, в Вильно.
– А, уважаемый Пиончик! – вскричали они хором. – Привет тебе, поэт весны! Приветствуем и просим идти к нам, не то за уши притащим.
Стосковавшись по обществу молодежи, Стась, выйдя из брички, одним прыжком очутился с ними и попал в объятия своих самых любимых сверстников.
– Слава богу, что мы тебя встретили! – воскликнул Павел Щерба, закадычный друг Станислава. – Теперь уже вместе въедем в это проклятое или заклятое Вильно, куда мы всё добираемся, добираемся, да никак не доберемся.
– Но прежде всего, – перебил его Болеслав Мшинский, по-детски любивший поесть, – соберем остатки дорожных запасов и, пока лошади отдыхают, закатим пикник в складчину! Я жертвую огрызок копченой колбасы!
– Обжора, – пожимая плечами, сказал Павел. – Хоть бы на минуту забыл про брюхо!
– Пошли в дом, – прибавил Михал Жрилло, степенный литвин, – там поговорим и все обсудим…
– Пошли, пошли! – последним отозвался пан Корчак, рослый юноша с пробивающимися усами, больше всех них похожий на настоящего мужчину.
Они уже собрались идти в горницу, как вдруг в дверях корчмы показался еще и шестой юноша. Видимо, то был, вроде них, недавний школяр, только из какой-то другой гимназии, и тоже направлялся в Вильно, – правда, было неясно, с кем и как он сюда приехал, и сапоги у него почему-то были сильно запылены.
Друзья уставились на него, он – на них.
На незнакомце был изрядно поношенный форменный мундир, из которого он давно уже вырос, стоптанные сапоги и залатанные брюки, на голове фуражка, чей суконный вылинявший верх стал из синего грязно-голубым. При таком незавидном наряде выражение лица у незнакомца было горделивое, самоуверенное, смелое и спокойное, и смотрел он на всех с таким превосходством, что друзья были поражены силой его взгляда. Однако его низкий лоб не озаряла искра гениальности, и в заурядных чертах лица не сквозил могучий талант, от которого лицо светится и лучится; только сильная воля, несокрушимая гордость чувствовались в его сжатых губах и почти презрительном взоре.
Но разве можно разойтись с новым товарищем без слов, ничего не спросив, даже не поздоровавшись? Недавние гимназисты слишком хорошо знали студенческие обычаи, чтобы, пусть и не обижая чужака, отвернуться от него и расстаться равнодушно.
Первыми встали, чтобы приветствовать его, Павел Щерба и Михал Жрилло, когда он сам, видимо, отнюдь на это не рассчитывая и не сняв фуражки, довольно нагло обратился к ним.
– Любезные коллеги, – сказал он, вскидывая голову, – вы, наверно, как и я, направляетесь в Вильно? Не подвезете ли, часом, меня?
– Охотно! – первым откликнулся Станислав. – У меня в бричке есть место.
– А сюда-то как ты добрался? – спросил Щерба.
– Как? Вам любопытно узнать, как? – с победоносной усмешкой повторил вопрос незнакомец. – История довольно длинная, в конце-то концов я все же оказался здесь, но оставшуюся часть дороги мне уже не хочется пехтурой топать, да и в город входить вот так, одному, неприятно, так лучше я подсяду к кому-нибудь из вас.
И без приглашения, войдя с ними в горницу, он первый уселся на скамью.
Появление в их компании нового товарища слегка охладило приветствия и беседу молодых людей, однако в этом возрасте знакомство завязывается быстро, и через полчаса они держались так, будто десять лет знают друг друга.
Незнакомец, развалясь на скамье все с тою же нагловатой и надменной миной, с какой появился, начал им рассказывать свою историю, причем не только не старался скрыть свою бедность, заставившую его идти пешком огромное расстояние, но как бы ею похвалялся и гордился, словно победил гидру семиглавую.
– Иду я, – говорил он, – аж из Подолья [18]18
Подолье – историческая область на территории Украины к юго-востоку от Львова.
[Закрыть], хотя, правду сказать, немного и проехал, но большую часть дороги пешком топал. – Он улыбнулся. – На сегодня уже остались у меня в кармане только трехгрошовая монетка да колечко, последняя драгоценность шляхетской семьи, чтобы продать его в Вильно и продержаться первые несколько месяцев. Нет, право, дорога у меня была чудесная, поэтичная, и я ни о чем не сожалею, разве что о последней паре драных сапог…
И он приподнял ногу, показывая отставшую подошву и торчащие из прорехи пальцы.
– Но пока ты не продашь колечко, не найдешь знакомых, не заведешь друзей, как же ты жить думаешь? – спросил Михал.
– Хо, хо! Вы за меня не тревожьтесь! – смеясь, возразил юный нахал, которого мы будем называть Базилевичем. – Во-первых, знакомые, вот они, уже есть, а во-вторых, я так уверен, что обязательно устроюсь и пробьюсь, что даже об этом не думаю.
Юноши взглянули на нового товарища с восхищением, а он на них – с превосходством, даже с жалостью и, главное, с сознанием своей силы.
– Ну что ж! – вскричал он. – Давайте же приступим к еде, коли в торбах у вас что-то найдется, а моей долей в складчине будет мой аппетит… Кто-то тут поминал колбасу, согласен и на нее, голоден я ужасно!
Весело приступили они к импровизированному пиршеству, состоявшему из поданного им дрянного чая, пресловутой колбасы, оказавшейся на поверку крохотным огрызком, да булок, сыра, масла и яиц. Все это нашим проголодавшимся юнцам, без умолку болтавшим и отнюдь не склонным привередничать, показалось превкусным, а Базилевич, тот уплетал за четверых и, надо отдать ему должное, безо всяких церемоний хватал под носом у всех что попадется – кто смел, тот два съел!
Завязался шумный, сбивчивый, пылкий разговор.
– А ты, Станислав, – спросил Щерба, – на какое отделение думаешь поступать? Чем будешь заниматься?
– Медициной, – тихо, с грустным вздохом ответил Станислав. – А ты?
– Так и я на медицинское собираюсь, – воскликнул Щерба. – Итак, приветствую тебя, коллега, очень рад, что мы будем сидеть на одной скамье, только не понимаю, что случилось: ты же был первым учеником по литературе и языкам, писал стихи и речи лучше нас всех, а может, даже лучше учителя… И ты думаешь поступать на медицинское!
– Такова воля родителей, – отвечал Станислав. Базилевич вскочил на ноги с горячностью, слишком театральной, чтобы быть естественной, – видимо, для пущего эффекта он немного переигрывал.
– Что я слышу! – воскликнул он. – Конечно, родителям почет и уважение! Но нечего их слушать там, где речь идет о всей судьбе и о совершенствовании себя на том единственном пути, который назначен нам господом богом! Бог вдохнул в твою грудь поэзию, чтобы ты был целителем сердец, а не для того, чтобы ты ее уморил в себе, услужая всякому хаму, получившему несварение желудка. Миссия поэта куда выше, и приносить ее в жертву так легко – это святотатство!
– Ох, и силен! – пробормотал Михал. – Лопал славно, но речи говорит еще лучше – набрался сил!
– Я беден! – покраснев, возразил Стась.
– Я, кажется, еще бедней тебя, – отчаянно жестикулируя, возмутился Базилевич. – Ты приехал в бричке, я приплелся сюда пешком, как нищий, у тебя есть деньжата в кармане, я гол как сокол, у тебя есть родители, которые с тобой куском хлеба делятся, а я перед своими заикнуться о том не могу, и все же, вот я перед тобой, – я не иду на это ваше хлебное медицинское, куда мне с моей памятью и способностями было бы не трудно поступить, нет, я буду заниматься литературой, к которой меня зовет божий глас!
Самонадеянность Базилевича была бы смешною, когда бы не искренность, придавшая ей почти героическую ноту, но все же что-то в нем отдавало театром, жаждой успеха, и это портило впечатление, – юноши слушали его удивленно, но без особой симпатии. Базилевич высокомерно глянул на них и умолк.
– Ну, а ты, пан Болеслав? – спросил после его пылкой речи Щерба, обращаясь к Мшинскому. – С чем ты едешь в Вильно?
– Поступаю на юридическое! Буду изучать право!
– Ха, ха! Как бы тебе, изучая право, не свернуть налево, – вмешался в их разговор Базилевич, – и такой кус хлеба часто бывает лучше других.
– Уж позволь, и наука эта тоже лучше других! – с некоторой обидой воскликнул Болеслав.
– Науки о праве я не понимаю, – отозвался, не переставая уплетать, самоуверенный пришелец. – Все права бог записал в груди человеческой, а история права – всего лишь признание человеческих грехов и заблуждений. К чему это изучать?
– А ты, Михалушка, куда идешь? – спросил Болеслав, словно не слыша этого рассуждения, потому что не хотел ссориться, а Базилевич сильно его раздражал.
– Я-то, ей-богу, скажу вам, сам не знаю, что со мной будет, – смеясь, отвечал Жрилло. – Родителей у меня нет, чтобы мною руководить, опекун дает мне полную свободу выбора, особой склонности к чему-либо я не испытываю. Вот поосмотрюсь, поразведаю, а пока сам не знаю, что мне придется по сердцу.
– И сердца послушаешь ты, – продекламировал Базилевич, – за что я хвалю и решенье твое одобряю.
– Ago gratias! [19]19
Благодарю! (лат.)
[Закрыть]– с низким поклоном ответил Михал.
– Ну, теперь очередь Корчака исповедаться, – весело продолжал Болеслав. – Что же ты-то думаешь, достойнейший наш драгун!
– Вот незадача! – засмеялся рослый и усатый Корчак, беззлобно принимая прозвище. – Видать, вы меня до университета будете драгуном дразнить! Чем же я виноват, что вас перерос и похож на капитана драгунов? Так знайте, что я собираюсь стать ксендзом, и все вы, сколько вас тут есть, вскорости будете мне целовать руку!
– Ха, ха! – дружно расхохотались приятели. – Наш Корчак – приходский ксендз, каноник, а может, и епископ! Ей-богу, что-то не верится, – это он-то, который еще в пятом классе закрутил отчаянный роман в сопровождении гитары…
– Вот именно, я раньше других начал, потому раньше других и кончил, – печально ответил Корчак. – Ничего не поделаешь, меня ждут ксендзовская ряса и тонзура на темени.
– Выходит, нас здесь, – стал считать Павел Щерба, – два доктора, ксендз, литератор, законник и – ну, Жрилло, решай же поскорей, чтобы я знал, как тебя величать.
– Давайте погадаем на узелках! – воскликнул Болеслав, доставая платок. – Пусть сама судьба решит кем ему быть.
– Вот и славно! Может, тогда мне будет легче выбирать, – со смехом сказал Жрилло. – Ладно, буду повиноваться велению всемогущего рока.
– На, тяни, и пусть вопрос о твоей судьбе решится так же легко, как развяжется этот гордиев узел! – торжественно произнес Болеслав. – Четыре уголка, каждый с особым узлом, обозначают богословие, медицину право и словесность, о философии говорить не стоит, я помню что тебе всегда надо было подсказывать, даже сколько будет девятью девять.
Жрилло подошел к нему, постоял, подумал и резко выдернул узелок.
– Ну, и что ж это означает? – спросил он, с любопытством его рассматривая.
– Пострижение и быть тебе ксендзом! – засмеялся Болеслав.
– Ну, нет, молвил Жрилло, – уж этого-то, пожалуй, не будет.
– Эх вы, дети, дети! – отозвался со своей скамьи Базилевич. – Счастливые, что можете так шутить с судьбой.
– И над судьбой, и над судьбой! – повернувшись на каблуках, подхватил Жрилло. – Ксендз или не ксендз а я предлагаю продолжить путь, а то темнеет, до Вильно по песку еще порядочно ехать, и я сильно сомневаюсь, чтобы к нашему приезду в городе устроили иллюминацию, так что торбу на плечо – и на постоялый двор!
И молодая компания с шумом, с песнями высыпала на крыльцо и, стуча каблуками, сбежала по ступеням. Поскольку никто не выразил особого желания взять Базилевича, Станислав усадил его в свою бричку, и они поехали дальше.
Почти в самом конце Троцкой улицы, за костелом братьев францисканцев, стоял неказистый дом, подобие гостиницы, которую содержал некий делец по имени Горилка; он сдавал жилье на дни, на недели, на месяц, на год, держал тут же плохонькую харчевню и даже кофейню для особо бережливых проезжих. Не рассчитывая заполучить более зажиточных постояльцев, пан Горилка особенно охотно сдавал свои комнатушки на различные сроки бедным студентам. Его дом отличался прежде всего грязью и дешевизной – хозяин, который любил выпить и вечно ссорился с женой, поддерживал с величайшим искусством свое заведение, ежечасно грозившее крахом, и, не теряя присутствия духа, укрепляемого водкой, хватался то за одно, то за другое дело, больше полагаясь на чудо и на щедроты немецких князьков, чем на обычный, естественный ход вещей. Горилка был уже немолод, говорили, что когда-то он служил при княжеском дворе, даже был кухмистером и, скопив денег, вложил их в гостиничное заведение. Но, занявшись новым хозяйством, он женился на хорошенькой девице, много моложе его, старика, а характером, возможно, ему не уступавшей, и почему-то дело У них не пошло на лад. Один бог знает, что творилось в этом доме, супруги жили как кошка с собакой, каждый норовил что-то ухватить из небольшого капитала, ее милость уже несколько раз покидала его милость, его милость нередко брался за палку, из года в год дела шли все хуже, однако дом свой Горилка не закладывал, хоть и держалось все на волоске.








