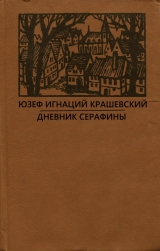
Текст книги "Роман без названия"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Роман без названия
(Powiesc bez tytulu)
Предуведомление
Хотя предлагаемый читателям роман отличается тем, что в нем вряд ли удастся обнаружить персонажей, взятых прямо из жизни, однако мы, наученные горьким опытом, все же должны в начале его поместить торжественнейшее уверение, что выведены тут одни лишь типы, созданные воображением и прихотью фантазии.
Общество наше настолько еще не привыкло к творениям вымысла, что в каждом из них люди ищут окружающий мир, да не в том виде, в каком он может и должен быть представлен, а отображенным на дагерротипе неприязни. Нет, моим пером никогда не водили ни пристрастие, ни вражда; а пожелай я воспользоваться им ради подобной цели, я, право, сумел бы побить злопыхателей их же оружием, но сдается мне, что они не заслуживают ничего иного, кроме презрения.
Для тех же, кто не может поверить, чтобы писатель не черпал из окружающего мира и не воплощал в своих писаниях готовые образцы, повторяю еще раз, что в этом романе, как и в других моих романах, в которых недруги усматривают либо меня самого, либо кого-то там еще, у меня нет и не было мысли выводить ни себя, ни других. Тут есть типы, образы, люди, надеюсь, достаточно живо обрисованные, но определенных личностей нет, портретов быть не может, разве что случайно. Когда художнику надо поместить в большой картине тысячи характерных лиц, то среди них непременно встретится физиономия, напоминающая нам кого-то знакомого, но вовсе не потому, что художник имел намерение его изобразить. Итак, я заранее протестую против всяких толкований и извращений моего Романа, заявляя еще раз, и, коль возможно, раз навсегда, что имена и фамилии ныне здравствующих лиц, которые здесь могут оказаться, совпали чисто случайно; избежать этого трудно, но, поверьте, я не стал бы их помещать умышленно.
Житомир, 5 декабря 1853
Первая часть
Среди юнцов, сидевших за партами пятого класса гимназии в городке Ш., царило большое оживление. Из класса, закончив урок, только что вышел почтенный учитель математики Г., на белесой от мела доске еще виднелись сплошь ее покрывавшие формулы, а все ученики уже готовились к следующему уроку, уроку литературы, на котором надо было читать заданное на дом сочинение. Одни списывали целые абзацы из тетрадей более прилежных и способных учеников и пытались из этих отрывков состряпать что-то свое, другие просто покупали готовые сочинения, обещая мзду, третьи еще раз просматривали свои творения, большинство же, пользуясь минутой свободы, готовили себя к практической жизни, вступив в оживленную беседу, еще более оживленный спор, даже в небольшую драку, от которой класс наполнился пылью и шумом.
В небольшом этом обществе, насчитывавшем почти полсотни подростков, можно было увидеть в зародыше будущее каждого из них; тут, пожалуй, даже резче и отчетливей обрисовывались характеры, нежели в кругу взрослых, где люди, научась притворству, держатся осмотрительней и ведут свою игру исподтишка. Тут каждый видел своих товарищей насквозь, никому не удавалось утаить свою страстишку, наклонность, порок или влечение от зоркого глаза соучеников. Ранняя же осторожность и скрытность не без основания пробуждали недоверие, и того, кто не открывался нараспашку, сторонились.
Какое разнообразие являют эти несколько десятков лиц, манер держаться, смотреть и говорить! Все, с чем впоследствии вступят они в мир, уже есть в них: начиная от хмурого молчуна, которого избегает весь класс, загнав его своим отвращением на последнюю парту, и до славного друга, добродушно сносящего объятья и тумаки, братские издевки и шуточки, когда сбрасывают с парты его тетрадку или выворачивают ему карманы, – перед нами бесконечная гамма человеческих характеров. А уж что там творится в этих русых головенках, озаряемых целым миром знаний, наивностью и красочными грезами юных лет, – о, того никому не угадать!
Учитель математики пока еще прохаживается по коридору с учителем литературы, и класс вволю пользуется этими десятью минутами, разделяющими два урока столь же непохожих, как две разные эпохи. Летят на кафедру фуражки, заячья лапа для стирания мела, летят книжки и бумажки, шум становится все громче, все неистовей, – но вот медленно отворилась дверь и на пороге появляется невысокая, щуплая фигурка учителя; быстрыми шагами он направляется к кафедре – фуражка надвинута на уши, под мышкой книги и пачка бумаг, пальто сползло с плеч и одной полой метет пыль на полу; он идет между парт, к которым со всех сторон спешат ученики, – и вот он уже на кафедре, он господствует над классом. Буйство вмиг прекращается, как буря, стихающая от мановения Нептунова трезубца, лишь легкий шумок еще носится над партами; все уселись, учитель сложил в кучку лишние части своего туалета и запас бумаги – урок начался. На самом-то деле никто не боится доброго учителя литературы, который с деланно строгою миной, поджав губы, нахмурив брови и щуря глаза, просматривает свои бумаги и раскладывает книги, однако его доброта действует сильнее, нежели строгость многих его коллег. Вот он поднял на учеников усталые от чтения глаза, и все взгляды устремились к нему.
– Ну-с, господа любезные, кто из вас будет читать сочинение?
Наперебой поднимают руку желающие, размахивая исписанными листками; выбрать нелегко – ну, что ж, первый с краю…
Но отгадайте, какое было предложено задание? Уж такая невинная и приятная тема – просто описание весны. И кажется, кто мог бы его лучше сделать, чем эти мальчуганы, для которых она и летом и зимою цветет в их груди, полной весенних чувств! Однако, когда пришлось весну описывать, ох как трудно было! Они ведь еще времени не имели оглядеться вокруг, разобраться – ни в мире, ни в себе – и, когда учитель задал описание прекраснейшей поры года, вот уж, бедняги, намучились, ломая голову, с чего бы начать, о чем рассказать и чем закончить!
Так трудно было горемычным придумать сюжет, мысли, краски, что пришлось искать образцы, и они переворошили все, где кто-либо что-либо по поводу весны пропел, просипел или пробормотал. Томсон, Клейст, Вергилий и Гесснер, [6]6
Томсон Джеймс (1700–1748) – английский поэт; Клейст Генрих фон (1777–1811) – немецкий поэт; Вергилий Марон Публий (70–19 гг. до н. э.) – римский поэт; Гесснер Саломон (1730–1788) – швейцарский поэт.
[Закрыть]а также отечественные поэты были до нитки обобраны безжалостными юными грабителями – но от ворованной добычи толку было немного.
Патетическим тоном то один, то другой читает свою стряпню, а учитель ходит по классу, поглядывая исподлобья, похваливая сквозь зубы, записывая себе что-то, слегка усмехаясь, когда уловит обрывки бесстыдно скраденных знакомых фраз. Наконец подошла очередь невысокого паренька, светловолосого, голубоглазого, одетого в поношенный, но опрятный мундирчик, и весьма робкого, – когда надо было ему читать, он весь залился румянцем, сконфузился, уронил тетрадку, долго не мог слова вымолвить и, лишь три раза сбившись вначале, принялся воспевать свою «весну».
Все до сих пор прочитанные «весны» были только поэтической прозой, эта первая явилась в рифмованном облачении, и неудивительно, что ее создатель так покраснел, слишком поздно уразумев свою дерзость. Хоть и страшился он за свое творение, да не мог противостоять желанию писать в стихах, изорвал сотню черновиков и в конце концов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем принес в класс плод своих восхитительных, невинных и пылких мечтаний.
А надобно заметить, что юнец этот, столь смело, по собственной воле, написавший стихами задание, которое все изложили прозой, был в школе новичком, в классе появился недавно, учитель его почти не знал, да и с товарищами он еще не освоился. Его выходка вызвала гул изумления – каждый толкал локтем соседа.
– Слышишь? Слышишь? – шумели ученики. – Вот чудеса-то, Пиончик стихи сочинил!
Его прозвали Пиончиком за румяное, всегда пышущее юной свежестью лицо.
Учитель, едва помнивший фамилию этого ученика, удивленно воскликнул:
– Что? Что там? Стихи?
– Тссс! Тсс! – зашикали вокруг.
Взор почтенного учителя с интересом и симпатией обратился к юноше – учитель подошел к его парте, оперся на ее спинку и, полуприкрыв глаза, стал слушать молча, погрузившись в задумчивость.
Но напряженное внимание класса, устремленные на него взгляды, тишина лишили бедного Пиончика остатков его и так не великой отваги – он запинался, голос его едва был слышен, и, наконец, у него перехватило дыхание. Две крупные слезы – предвестье всей будущности поэта – потекли по его пылающим щекам.
Учитель явно огорчился – возможно, он подумал, что тот, кто так ведет себя на школьной скамье, будет и в жизни беспомощен, а может, жаль ему стало беднягу; он не спеша взял тетрадь у него из рук и, поднеся ее к прищуренным глазам, стал сам вполголоса читать эту стихотворную «весну».
Пиончик же стоял под сверлящими взглядами товарищей, как у позорного столба, обмирая от запоздалого стыда и страха. Ученики перешептывались, указывая пальцами на поэта, который в эту минуту получил уже новое прозвище. Одни глядели на него с сочувствием, другие с любопытством, иные чуть ли не с завистью, и этот решительный шаг, на который отважился новичок, не рассчитав своих силушек, неотвратимо определил отношение к нему всего класса на оставшиеся годы учения.
Глаза товарищей перебегали со смущенного юноши на учителя, ища на лице старика одобрение или усмешку жалости, но ничего такого не обнаружили в чертах этого бледного, усталого лица, на котором никогда не отражалось то, что волновало душу. Учитель читал спокойно, поднеся тетрадь к самым глазам, просмотрел сочинение до конца и, возвратив его Пиончику, кивнул, переходя к следующему ученику; он не сказал ни слова, лишь окинул юного поэта беглым взглядом.
Тот сел, опустил голову, да так и просидел молча, борясь со своим волнением, до конца убийственно долгого часа.
О, не так страшно было выступить с этой злосчастной «весной», прочитать, показать доброму учителю, как после конца урока оказаться в толпе соучеников, чья насмешка разила без промаха! Когда часы пробили двенадцать и учитель под дребезжанье звонка направился к кафедре и стал собирать свои бумаги, фуражку, платок и пальто, всегда сползавшее у него с плеч, Пиончик в предчувствии ожидающей его пытки едва не умер со страху. Вслед за учителем хлынули из класса ученики, как прорвавшая плотину полая вода, и рассыпались кто куда. Но все это не спасло несчастную жертву, надеявшуюся убежать первой: поэта окружили, стали дергать за мундир, хлопать по спине, давая волю рукам и языку.
– Да здравствует наш поэт! – кричали одни.
– Слушай, Пиончик, признайся, откуда стихи стибрил! – издевались другие.
– Ишь какой умник! – вопил кто-то. – Хочет нас всех обскакать, отличиться, вот и выступает solo basso [7]7
Соло баса (ит.).
[Закрыть]со своими стишками.
– Оставьте его в покое! Видите, как покраснел, сейчас из глаз кровь брызнет.
Хорошо еще, что после двенадцати все спешили домой и некогда им было возиться с Пиончиком, но и по дороге к домам, где жили ученики, еще можно было вдоволь поиздеваться, и пятый класс, объединясь с шестым [8]8
Польские гимназии Виленского учебного округа с 1803 г. имели 6 классов.
[Закрыть], проводил свою жертву до самого крыльца, немилосердно дразня Пиончика всяческими прозвищами да насмешками.
Как в школе, так и в жизни! Первое чувство большинства при виде какого-то необычного явления – это всегда злая насмешка и недоверие, увы, всякий триумф имеет своим началом мученье. Возможно, так оно и должно быть, ибо лишь тот достоин венца, у кого виски обагрила кровь, и испытание огнем – это проверка призвания и таланта. Не зная о том, бедный мальчик возлагал все свои надежды на одно это сочинение! Теперь ему предстояло переходить из класса в класс с презрительной кличкой «поэт», как с привязанным к ноге ядром, – с нею придется ему выйти в мир и принять все последствия неразумного шага, определившего в тот день всю его жизнь.
Словно предвидя, что его ожидает, Пиончик понуро шел по направлению к своему пансиону, едва слыша колкости да хихиканье товарищей, не отстававших от него; он только старался ускорить шаг, чтобы поскорей оказаться в одиночестве; сыпавшиеся на него язвительные словечки сливались в его ушах в невнятный гул – вроде шелеста сухих осенних листьев. С такою вот свитой он дошел до пансиона и поспешно юркнул в дверь, думая, что избавится наконец от насмешников.
Но и тут Пиончику уже не было покоя – его поджидал воспитатель, узнавший о его грехе от учителя, да товарищи по пансиону из разных классов, подхватившие на улице поразительную новость. Когда он вошел в пансион, все хором принялись его дразнить, а воспитатель пан Яценты, мужчина высокий, худощавый и строгий, с зачесанными назад волосами, в белом узком кожушке, из-за пазухи которого торчали табакерка да клетчатый платок, приветствовал питомца тем, что двусмысленно ухмыльнулся и пригладил свой хохол. Избегая его взгляда, бедняга поспешил прошмыгнуть в какой-нибудь уголок и спрятаться от всех.
Как ошпаренный пробежал Пиончик первую комнату, кинулся к своей кровати и столику в соседней комнатушке, бросил на стол книжки, сунул тетрадь в ящик и в изнеможении сел на постель. Но и тут его настигли, и пан Яценты не постыдился быть в числе мучителей – молча и неподвижно стоял он во главе собравшихся, то и дело поглаживая откинутые назад волосы и злорадно усмехаясь. Младшие ученики налетели на Пиончика как саранча, они прыгали, хохотали, теребили его:; – Вот так так! Шарский – поэт!
– Прочитай же что-нибудь!!!
– Поздравляем! Просим!
– Мне кусочек «весны»!
– И мне!
– И мне! – затянули нараспев, как, бывало, выпрашивали себе на завтрак ломоть хлеба с маслом, безжалостные дети, протягивая руки в чернильных пятнах.
– Оставьте меня в покое, пожалуйста! – удрученно повторял Станислав, прикрывая рукою глаза. – Оставьте меня, а то я всерьез рассержусь…
– А чего ж тут сердиться вашей милости? – обычным своим невозмутимым тоном спросил воспитатель пан Яценты. – Вполне естественно, что все мы удивляемся, поздравляем и радуемся!
С этими словами он снова пригладил свой хохол, обдернул кожушок и, узрев, что на столе появилась надтреснутая фаянсовая суповая миска, возвещавшая начало обеда, стал за своим стулом, набожно сложил руки и приготовился творить молитву устами, еще искривленными издевкой.
Вмиг стая голодных мальчуганов рассыпалась, спеша занять свои места, застучали отодвигаемые стулья, послышался гул молитвы, и несчастная жертва «весны», которой голод мучителей дал миг передышки, тихонько заняла свое место за столом.
Под вечер пан Яценты, по случаю субботы и хорошей весенней погоды, снял кожушок, надел черный парадный сюртук с бархатным воротником и фуражку, обычно висевшую на гвозде и прикрытую от пыли носовым платком, взял палку, с виду обыкновенную трость, но скрывавшую внутри чубук с вырезанной из рога собачьей мордочкой, и, спрятав в карман ключи от кладовой, предложил своим питомцам прогуляться на околицу местечка, за костел Ангелов-хранителей, пройти по песчаной равнине и кладбищу – то была обычная цель их прогулок.
Все, кроме Шарского (такова была фамилия нашего поэта), с радостью согласились, а Пиончик под предлогом, что ему нездоровится, остался один за своим столиком.
– Не трогайте его! – крикнул ехидный малыш-третьеклассник. – Пускай сочиняет стихи, будет у нас свой польский Гомер!
Пан Яценты, человек с добрейшим сердцем, но слегка завистливый, ибо ревниво оберегал свое превосходство, которому могла повредить слава юного поэта, усмехнулся чуть язвительно и вывел своих учеников на улицу в педагогический поход.
Наконец-то Шарский остался один, мог отдохнуть; выглянув в окно и убедившись, что его соученики удалились, он вышел на крыльцо и уселся на балюстраду, осененную ветвями каштана. Субботний покой и тишина царили в местечке, которому обычно придавали оживление ученики, теперь гулявшие по окрестностям, сидевшие взаперти в пансионах или отдыхавшие уже в счет воскресенья. В ряду пансионов, расположенных вдоль улицы, лишь кое-где слышался шум – это резвились ученики первого и второго классов, смеялись, кричали, били мячами о кирпичную ограду; во дворах скрипели колодезные вороты, из открытого окна в доме учителя музыки Брауна неслись звуки фортепиано. Вскоре раздались удары колокола, призывавшего к вечерне в деревянный костел, и протяжный, унылый звон разнесся вокруг далеко-далеко. Мальчик задумался, глядя в пространство и опершись о ствол каштана, росшего у самого крыльца; он даже не заметил, как со стороны школы и костела показалась щуплая фигурка учителя литературы; быстро пересекши песчаную улицу, учитель отыскал глазами пансион в тени каштанов и направился туда – улыбаясь, он подошел к ученику и хлопнул его по плечу, чтобы пробудить от грез.
– О чем ты, Шарский, так задумался? – ласково спросил учитель.
Только теперь, услыхав его голос, ученик вскочил на ноги; оробев от внезапного появления человека, о котором он как раз думал, Станислав опустил глаза, как захваченный врасплох преступник.
– Захотелось мне немного потолковать с тобой, голубчик, – сказал учитель. – Возьми-ка фуражку. Время у тебя есть? Пойдем погуляем в парке.
– Я готов, пан учитель.
– Так ты ж сходи возьми фуражку, а не то и пальто, вдруг холодно станет.
О каком холоде может идти речь! Да он был так счастлив, услышав доброе слово и предложение погулять вместе, что и про фуражку забыл бы, не напомни учитель.
Не спеша вышли они по улице на небольшую площадь перед школой и оказались в аллее старых грабов, которая вела к парку.
– Ты мне вот что скажи, Шарский, – начал старик, близоруко присматриваясь к мальчику, зрение у него было никудышное, – я хотел бы кое-что о тебе узнать. Кто твои родители? Откуда ты родом?
Смущение, робость и страх сковывали Стася, однако ласковый голос учителя и полные сочувствия речи приободрили его, сердце стало биться ровнее.
– Родители мои, пан учитель, – набравшись духу и понемногу приходя в себя, отвечал он, – живут отсюда милях в пятнадцати, владеют наследственной деревенькой в За…ском.
– Одной деревней? – спросил учитель.
– Да, одной, и то небольшой.
– А много вас в семье детей?
– Шестеро, пан учитель.
Учитель покачал головой и глубоко вздохнул.
– Братья или сестры?
– Три брата да две сестры, пан учитель.
– Где ж ты раньше посещал школу? Кто тебя учил? – допытывался старик.
Шарский назвал школу и учителей.
– У тебя, видишь ли, есть способности к поэзии, – сказал учитель, терпеливо выслушав его, – даже, я бы сказал, сударь мой, то, что ты написал про весну, совсем недурно для первого опыта; однако, вступив на этот путь, дорогой мой, если хочешь чего-то достигнуть, надобно много трудиться, даже когда небеса тебя одарили! А читать любишь?
Юноша, весь покраснев, даже задрожал.
– Разве можно не любить читать! – пылко воскликнул он.
Странная усмешка искривила бледные губы учителя, и он снова исподлобья глянул на ученика.
– Что же ты читаешь?
– Да книг у меня не много… У пана Яценты на полке только Мольер есть и Монтескье…
– И ничего польского? – спросил учитель.
– Есть книга Станислава Потоцкого… [9]9
Потоцкий Станислав Костка (1755–1821) – польский писатель и политический деятель.
[Закрыть]
Учитель покачал головой.
– Я, конечно, еще не знаю, что из тебя выйдет, голубчик мой, – медленно заговорил он, – но только учиться тебе надо и много и систематично, если пойдешь по тому пути, который, как я думаю, тебе предназначен… Поэту надо долго и сытно кормиться, прежде чем запеть перед миром. Нелегкое это дело – предстать перед людьми и тронуть их сердца так, чтобы даже насмешники сочувствовали тебе; люди покоряются неохотно, зато с готовностью топчут в грязь ближних своих.
И старик снова вздохнул.
– Путь это тяжкий, – заключил он, забывая, к кому обращается, – он усыпан терниями, завален камнями… Тут первым быть трудно, а вторым – нельзя, да и не стоит. Либо ты на вершине, либо свергаешься в пропасть на нескончаемые муки… А тогда лучше о поэзии и не думать. Почти у каждого юноши порой что-то сверкнет в мыслях, что-то затрепещет в сердце, и ему хочется запеть, но, когда он с песнею своей явится к людям, куда деваются и мысли и слова! О, надо трудиться, трудиться! Даже тем, кому бог дал сразу много, и им-то, пожалуй, больше всего. Без труда ничего не дается, мой мальчик, все приобретается в поте лица, в усилиях духа. Видел, как товарищи встретили нынче твое выступление? То же самое ждет тебя и в жизни. Помни об этом! И после всех минувших веков, после поэтов, которые тогда пели, после дивных творений, которые нас питают, дыша жизнью прошлого, будучи наивысшим его выражением, – как много требуется, чтобы дерзнуть выйти на сцену, взять лютню и призывать слушателей. Толпа, которой ты будешь петь, состоит из тысяч людей, каждый отличается от другого, а у тебя для всех них одна песнь! Ты должен будешь их покорить, привлечь, преобразовать, заставить понять тебя и пойти за тобой. Какова же должна быть эта песня, чтобы победить тысячи видов самолюбия и сломать лед сопротивления, равнодушия, черствости? Какая мощь нужна, чтобы выйти победителем в такой борьбе? Сколько жизненных сил надо истратить, сколько слез пролить, сколько ран нанести себе, раздирая свою грудь?
Учитель шел вперед и все говорил, говорил, видимо, позабыв об ученике; слова лились свободно, от души, будто он рассуждал сам с собою, но вот он со вздохом глянул на Шарского, и речь его зазвучала по-другому.
– Да, мальчик мой, – сказал он, – надо трудиться прилежно, трудиться много, чтобы что-то в жизни сделать. Человек мысли и пера, к чему, кажется, ты чувствуешь призвание, должен прежде всего быть выше толпы, чьим вожатаем, выразителем чаяний, утешителем, проповедником он хочет стать. Так что задача тут двойная: как жрец, ты должен стоять на высоте, и облачение твое, частная твоя жизнь должны быть не запятнаны, ибо тот, кто выступает во имя самых высоких чувств, сам первый обязан их испытывать, иметь чистую душу и чистые руки, – а как человек духа и мысли, ты должен стоять ступенькой выше, идти хоть на шаг впереди толпы, которая за тобою следует, должен угадывать будущее, к которому она стремится, чувство, от которого завтра забьется ее сердце, направление, указанное на завтра господом богом… Много тут помогает гений, талант, инстинкт, дух Творца, еще в колыбели овеявший голову младенца, однако вырастить зерно, дарованное тебе, должен и обязан ты сам, своими силами. Учителя, книги, жизнь – все это вехи, торчащие кое-где в степи, путь по которой тебе надо искать самому – глазами, сердцем, разумом… О, трудиться надо, много трудиться – бог дал тебе мысли и чувства, но они у тебя не заговорят, пока их не распеленаешь, не расправишь им крылья, не раскроешь им уста непрестанной работой… Нетерпеливо, бурно мятутся в молодой груди зародыши мыслей и семена чувств, ударяясь о стенки своей темницы, как запертый в клетке зверь, но многие, очень многие задушили в себе то, что принесли из другого мира, ибо не питали свою мысль, иссушали ее голодом и жаждой, а чувства свои делали пошлым орудием успеха в тупой, будничной жизни!
Шарский все слушал, впервые слух его и душа внимали словам возвышенным и значительным, которые были продиктованы горьким жизненным опытом, и будто животворный ручей освежал его, – пред глазами открывались неведомые, таинственные пути, сияли на горизонте невиданные дали. Труд не страшил его, в силах своих он не сомневался, но вместе со стремлением к высокому овладевал им смутный страх, и дрожь пробегала по телу.
– Подумай, что тебе предстоит, – говорил, продолжая шагать, учитель. – Тебе придется изучить мир, полюбить его, познать себя, познать людей, да еще усвоить мудрость прошлого, все, когда-либо созданное людьми, дабы не повторять вяло то, что уже было высказано со страстью, – и, наконец, ты должен в совершенстве овладеть своим орудием – языком и литературой, – той нивой, которую будет орошать пот твоего лица.
– Я буду учиться, – горячо отвечал Шарский, воодушевленный идущими от сердца словами старого учителя.
Тот ласково взял его руку.
– О да! – сказал учитель. – Учиться, учиться! Всю жизнь надобно учиться, хотя бы для того, чтобы в конце концов уразуметь, что наука это неиссякаемый источник наслаждения, духовной пищи и разочарований. Со временем, дорогой мой, какие-нибудь скороспелые умники скажут тебе, что учиться и корпеть над книгами – это-де значит губить вдохновение, уничтожать оригинальность, подавлять свою индивидуальность, – но это ложь, ложь! Всегда можно оставаться самим собой, быть господином своего труда и мысли, но трудиться и мыслить необходимо! Только труд может придать вдохновению крылья.
Они долго шли в сумерках по безлюдным уже аллеям парка, а учитель все говорил, то и дело вздыхая с облегчением, точно радуясь тому, что нашел перед кем открыть душу. Начал он, обращаясь к ученику, а потом уже говорил для себя – так много у него накопилось и требовало выхода, – затем, вспомнив о юноше, вновь обращался к нему и тут же, снова увлекшись, о нем забывал. Но ни одно слово учителя не пропало втуне, даже те истины, которых Шарский еще не мог понять, запали в его память как афоризмы и нерешенные задачи, которые надо решить в будущем. Слушал он их с жадностью, и чем возвышенней и важней они были, тем больше влекли.
Вечерело, сумерки становились все гуще, от пруда повеяло прохладой. Наконец учитель, у которого непослушное пальто вечно сползало с плеч, заметил, что уже поздно, и, не прерывая беседы, быстро повернул назад.
– А природу ты любишь? – спросил он со вздохом, глядя на отблески вечерней зари в небе и на серую, засыпающую землю. – Волнуют твое сердце повседневные ее красоты, которые оставляют равнодушными людей заурядных?
– Ах, пан учитель, – горячо сказал Шарский, – мне иногда даже стыдно бывает, надо мною даже смеются!
– Пускай смеются, это превосходно! – так же пылко перебил старик, трепля его по плечу. – Пускай смеются, пускай потешаются, они, сами того не ведая, учат тебя терпению, которого каждому человеку на свете требуется немало, а в нашем-то труде ох сколько терпения надо! Если над кем-то смеются не потому, что он глуп, а что отличается от толпы или видит нечто такое, чего другим не видно, – у того есть будущее!
Когда он это говорил, они, все ускоряя шаг, уже выходили из парка и приближались к большому школьному зданию, во флигеле которого находилась скромная квартирка учителя. При виде школьных стен, напоминавших опрятную белую тюрьму, из груди старого учителя опять вырвался вздох: что-то пришло ему в голову, он обернулся к Шарскому и, слегка колеблясь, запинаясь, промолвил:
– А знаешь что, зайдем ко мне, я дам тебе книги… Как прочитаешь, принесешь и возьмешь другие. Школьную науку ты ради чтения не запускай, но читать тебе необходимо, если ты и впрямь хочешь пойти по этому пути.
– О, я так этого хочу, пан учитель! – робко отозвался ученик. – А еще, можно ли мне спросить, как мое сочинение? Очень было плохое?
Последние слова он произнес, опустив глаза и едва слышно. Учитель добродушно улыбнулся.
– Genus irritabile vatum! [10]10
Раздражительное племя поэтов! (лат.)
[Закрыть]– пробормотал он. – Уж наверно, не такое плохое, раз оно меня удивило, раз я решил тобою заняться, – но только ты не подумай, будто неопытным своим глазом подметил в весне то, чего до тебя не видели другие. Да, тебе удалось уловить несколько Удачных созвучий, несколько выражений, свидетельствующих, что у тебя есть чувство прекрасного, но мысль твоя не залетела высоко, у нее еще нет крыльев.
– Возможно, крыльев Икара, – шепотом вставил Шарский.
– Даже и на таких стоит немного взлететь, дитя мое, лучше это, чем ползать по земле. Да и могут ли быть у людей другие крылья? Счастливец, кто хоть на миг приблизился к солнцу… а потом упал в море… в море забвения. Забвения! – с тревогой повторил учитель. – Да, о нем-то я кстати заговорил, забвение и меня одолело, увлекся, а уже темно! Пошли живей, пошли, пан Станислав!
Они уже были возле школы, учитель устремился вперед, раз-другой по близорукости споткнулся, пальто непрестанно съезжало с его плеч, наконец, поднявшись по нескольким ступенькам, они вошли в убогое жилище, которое учитель занимал с женой и детьми, – сперва в сени, потом в комнаты. Теснота, духота – и неудивительно, что, войдя в комнатушки, где плакали дети, хлопотала его супруга, а двое учителей помоложе, сидя на кушетке, беседовали, явно стараясь понравиться хорошенькой хозяйке дома, готовившей чай, старый учитель нахмурился. Вошел он тихо, несмело, словно ожидая неминуемой бури, и, кротко ответив на ворчливые упреки жены извиняющимся, смиренным тоном, открыл дверь налево, в свой маленький кабинет. Войдя туда вместе с оробевшим вконец учеником, он нашарил свечу и спички, осторожно зажег фитиль, и, когда огонек сальной свечи осветил комнату, Шарский увидел, что вся она заставлена полками, завалена бумагами, и так много там всяческого бумажного хлама, что двоим едва повернуться. Учитель, обводя полки глазами и мысленно переходя от одной к другой, принялся искать и доставать книги, что-то бормоча себе под нос, наконец набрал порядочную стопку и вручил ее Шарскому.
– Вот тебе, возьми, выбор хороший, только читай внимательно и учись смаковать, а не глотать, как обжора. Размышляй, развивайся, и да благословит тебя бог, мой мальчик.
Тут в комнатку вошла учительша и с любопытством уставилась на мужа и на ученика.
– Где ж это ты был? – резко спросила она. – А за тобой давеча директор присылал…
– Сейчас, сейчас, – смущенно ответил старик, – сию минуту, душенька…
– И денег мне надо бы… – с укором начала жена.
Шарский схватил книги, поклонился, поцеловал руку даме и поскорей ретировался. Счастливый, помчался он домой с такой быстротою, будто у него и в самом деле выросли за плечами крылья.
Несколько книг, которые он нес, но еще больше слова почтенного учителя потрясли его юный ум и, быть может, неосторожно, но бесповоротно толкнули на путь, с которого ему было уже не сойти.
Он предавался мечтам, сердце колотилось, и будущее рисовалось перед ним таким светлым, таким ярким, точно в одну эту минуту он приблизился к нему, перескочив через многие годы.
Едва Шарский ступил на крыльцо пансиона, где на ограде сидели все ученики и даже сам пан Яценты на почетном, месте, у стены, его засыпали вопросами и упреками.
– Ага, с нами погулять побрезговал!
– Прикинулся больным, а сам затемно где-то шатается!
– И где ж вы, сударь мой, были? – спросил, важно надувшись, воспитатель. – Коли хотели прогуляться, думаю, мы не так уж плохи, чтобы избегать нашего общества.
– У меня и в мыслях не было куда-то идти, – отвечал запыхавшийся Шарский. – Да только вы ушли, пришел учитель… и повел меня в парк.
– Как? И ты до ночи с ним ходил? – снова спросил недоверчиво и с долею присущей ему зависти пан Яценты.
– Я сейчас прямо от учителя, он мне книги одолжил, – с некоторой гордостью возразил Шарский, – больше нигде я не был.








