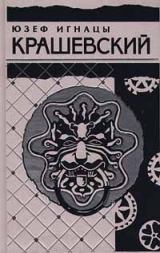
Текст книги "Последний из Секиринских"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Десять лет! Какая перемена в домах и на кладбищах! Сколько здесь прибавляется колыбелей, а там свежих или поросших травой могил! И из наших знакомых, по прошествии десяти лет, мы найдем нескольких не на прежних местах. Старый Матвей давно спит с табачным рожком своим на капуцинском кладбище. Дорота сидит на печи, едва имея силы сходить изредка в ближайшую лавку за покупкою; часто бывает ей теперь нужна палка в помощь отяжелевшим ногам; и она жалуется, что не может трудиться по-прежнему. Приходский священник, давнишний священник Секиринских, спит мирным сном в углу кладбища, под деревьями, где заблаговременно назначил место для своей могилы. Старый Петр Корни-ковский, стольник Пурский, был еще жив и по-прежнему употреблял латинские поговорки, но часто их перепутывал и говорил одну вместо другой. Он почти уже не вставал с своего кресла и только в хорошую погоду выходил на крыльцо, опираясь на руку слуги. Изредка он ездил в костел или к соседям, но был угрюм, жаждал развлечения и успокоения от скуки, но не находил нигде.
В Секиринке шумно и разгульно живут молодые Вихулы, потому что брат и жена покойного Вихулы умерли. Крестьяне, несмотря на несколько десятков лет, протекших со времени удаления Секиринских, вспоминают старых господ: принадлежавшая им часть деревни называется Секиринщиною, а другая Вихуловщиною. Старики показывают место, где стоял дом, описывают его устройство, рассказывают об обычаях своих бывших господ, о их роде и происхождении и, как всегда бывает, когда не станет барина на свете, повторяют со вздохом: «Так ли было при жизни наших старых господ».
А между тем подле ратуши лет десять уже продает Фалькович перец, свечи, имбирь и разные лакомства, и люди дивятся не мало, что сгорбленный, хилый старичок трудится без устали с утра до вечера, не старея и не нуждаясь ни в чьей помощи. Купцы и мещане смотрят на него завистливыми глазами – такое множество у него всегда покупщиков, так быстро у него расходятся товары. Но истинным талисманом Фальковича был его труд, постоянство и честность. Никто не заметил у него возвышения цены или испорченных материалов: он скорее выбросил бы плохой товар на улицу, нежели перемешал его, как водится у других, с лучшим, или даже захотел сбыть его по низшей цене. Вот почему все теснятся в лавку подле ратуши; вот почему старый купец с каждым годом расширяет свою лавку и увеличивает торговлю, не переставая быть таким же, как и прежде, тихим, сговорчивым, и даже по-прежнему носить широкополую шляпу и повязку на больной челюсти.
Но в одно утро горожане увидели дверь его лавки запертою, и через несколько дней появилась над нею новая вывеска; показались в лавке новые товары и новый купец, а Фалькович исчез, как будто канул в воду. Многие осведомлялись у молодого, нового купца о Фальковиче, потому что, несмотря на его молчаливость и мрачный вид, были люди, привыкшие и даже привязавшиеся к нему душою, – но с удивлением и горем узнают, что старик оставил торговлю, уехал в деревню, заболел и там умер.
Но еще больше удивилась Дорота, когда после удивительной десятилетней ее жизни, в течение которой только по воскресеньям и праздникам Собеслав оставался дома, теперь видела она, что в будний день он не спешит, по своему обычаю, уходить со двора и с особенным старанием занимается своим туалетом. Добрая служанка, сбитая с толку в своих поисках паном Корниковским, с тех пор, а особливо со смерти Матвея, почти не выходила из дому и перестала доискиваться, что такое делал вне своего дома молодой Секиринский. Она привыкла к его образу жизни; она была уверена, что, верно, он занимается бумагами у какого-нибудь делового человека и не смела даже спрашивать его об этом. Собеслав между тем вырос, возмужал, но нимало не переменился. Десять лет таинственных трудов делали его мужчиной, но характер его остался прежним. Молчаливый, скрытный, задумчивый, он жил так регулярно, так уединенно, так однообразно, что в его понятиях о людях и своих к ним отношениях не произошло никакой перемены. Как же была, однако, должна обрадоваться Дорота, когда увидала его веселее обычного, в праздничном наряде, и когда он сам обратился к ней с разговором! Он объявил ей, что ему наскучило сидеть в городе и он намерен ехать в деревню к Корниковскому, и велел ей приготовить все к отъезду. «А со временем» – прибавил он, – «мы навсегда поселимся в Люблине».
Между тем, как она, не помня себя от радости, побежала, – если только можно так выразиться о ее поспешности, – сообщить эту новость своей помощнице, наемной служанке, Собеслав отправился в Гродскую улицу. Там вошел он во второй этаж красивого каменного дома и, как старый знакомый, пробрался прямо в комнату хозяина, который был не кто иной, как Михаил Бальцер, купец и мещанин люблинский, тот самый старичок, которого Собеслав встречал в свое время на прогулках за городом.
Старичок был уже сед как лунь. Он сидел в комфортном кресле у окна и смотрел на движение по улице, в котором уже не мог участвовать. Несколько далее, за столом, средних лет женщина, его жена, занималась каким-то рукодельем, надев очки на нос, и в то же время весело толковала с румяным быстроглазым и веселым мальчиком, который вертелся и лепетал у ее ног. Подле нее сидела, также с работою в руках, их невестка, рассказывая что-то со смехом и следя глазами за всеми движениями ребенка, а в другой комнате сквозь полуотворенную дверь молодая, прелестная девушка, казалось, с любопытством ожидала прихода Собеслава.
Комната была убрана скорее богато, нежели изысканно. Это не была модная гостиная, в которой, кроме приема гостей, поклонов и легкой болтовни, ничего не бывает; тут вместе с богатством были видны следы простого, ручного труда и умственных занятий. В одном месте лежал кусок скроенной материи, в другом стоял станок для выделки шелковой бахромы и шнурков, а в резном из красного дерева шкафике видно было через стекло несколько отборных книг.
Едва только Собеслав показался в двери, все приветствовали его улыбкою, словом, поклоном. Купец поднялся с кресел, жена его указала ему самое удобное место; невестка значительно усмехнулась, но взгляд, брошенный на него сквозь дверь молоденькой белокурой девушкой, был всего выразительнее.
– Я пришел с вами проститься, – сказал Собеслав.
– Как это? Разве на короткое время? – спросил купец.
– Надолго ли, нет ли, право, я сам не знаю, только дела мои заставляют меня предпринять довольно далекое путешествие.
– Куда же это? Откуда вдруг явились новые дела и предприятия?
– Надобно съездить к своим, – отвечал, опустя вниз глаза, Собеслав.
Тут вошла в комнату молоденькая дочь купца Людвися, прелестное личико которой мы уже заметили сквозь дверь. Взглянув на Собеслава, она покраснела, смешалась – он также несколько смешался – схватила работу и быстро села подле матери. Та шепнула ей что-то на ухо. Людвися, бросив работу, ушла из комнаты и спустя минуту, румяная как яблочко, возвратилась с тарелкой яблок, бутылкою вина и двумя кубками на серебряном подносе.
Между тем, старый купец продолжал разговаривать с Собеславом. В разговор вмешивались его жена и невестка, а Людвися только взглядом и румянцем обнаруживала в нем свое участие. Взор ее от работы часто переходил на Собеслава, и потом опускался на материю, которую она держала в руках. Секиринский тоже раза два взглянул на нее, но как будто с грустью и сожалением, и, не проронив ей ни слова, взял фуражку, чтобы уйти. Людвися тихонько ускользнула из комнаты, мимо матери и сестры, так тихо, так быстро, что никто этого не заметил, и когда Собеслав, раскланявшись со старшими, хотел поклониться ей, то увидел только пустое место и брошенную на него измятую работу, которую она шила.
Старик проводил гостя до передней и, по-видимому, о чем-то крепко думал, боролся с каким то чувством, желал что-то сказать и не решался. Они были уже у двери, когда Собеслав растроганным голосом сказал ему:
– Дайте же мне еще раз поблагодарить вас за доброе наставление!
– За какое? – спросил старик, стараясь усмехнуться, хотя, очевидно, был грустен.
– Я помню наш разговор во время прогулки за городом и рассказ о вашей жизни. Часто одно вовремя сказанное слово изменяет судьбу человека. История вашей жизни заставила меня долго думать и навела на такие мысли, которые без вас никогда бы мне не пришли в голову. А пример ваш вдохновил меня, я принялся трудиться, и вы знаете, щадил ли я свои силы. Теперь будущность моя обеспечена, и я этим обязан всецело вам. Труд мой, правда, был не легок; но об этом ни слова; довольно, что я заработал себе кусок хлеба. Примите же от меня самую искреннюю благодарность за совет и помощь.
Старик слушал его со слезами на глазах.
– Я очень счастлив, – сказал он, – но знаете ли что? Послушайтесь меня еще раз. Не гоняйтесь за далеким счастьем, а поищите его возле себя. Вот, видите ли, я вам скажу откровенно. Мы с вами знакомы лет десять. Людвися моя выросла у вас на глазах. Я дам ей каких-нибудь тысяч семь дукатов приданого, не говоря о разных домашних вещах и нарядах. Если ваше сердце лежит к ней, то пускай Бог благословит вас.
Голос его задрожал сильнее прежнего. Он боязливо посмотрел на Собеслава. Собеслав глубоко опустил голову и тяжело вздохнул. Он был, по-видимому, сильно взволнован, прижал к груди своей фуражку и сказал с чувством:
– Если бы я был сам себе пан, вы сделали бы меня счастливым. Но я завишу от родных, я еду к ним, и если возвращусь, то не иначе, как для того, чтобы принять ваше предложение.
– Понимаю, понимаю! – отвечал купец. – Поезжайте с Богом, советуйтесь, почитайте волю старших, но возвращайтесь к нам. Ей-Богу, не найдете нигде лучшего сердца и преданнейших вам людей.
Сказав это, старик отвернулся, потому что глаза его были полны слез; а Собеслав быстро сбежал вниз по лестнице, как будто хотел уйти сам от себя. Вдруг перед ним мелькнуло белое платье: Людвися шла снизу вверх. Он посторонился, приподнял фуражку. Глаза их встретились. Она горела стыдливым румянцем; он был бледнее обыкновенного. Она остановилась перед ним с грустною улыбкою, хотела что-то сказать и не могла.
– Вы уезжаете от нас? – спросила она почти шепотом.
– Уезжаю и кланяюсь вам, дай Бог опять увидеться!
– Но скоро ли? – спросила она. – Скоро ли и не забудете ли вы нас?
– Никогда! – решительно сказал Собеслав.
– И возвратитесь к нам!..
Секиринский взглянул вверх, как будто в недоумении, можно ли на это надеяться. В это время кто-то зашелестел по лестнице, и Людвися полетела по ступеням, как ласточка, оставив его на минуту остолбеневшим, смущенным и дрожащим от внутренней борьбы.
Но это состояние продолжалось недолго; он вдруг как будто что-то вспомнил, бросился в дверь на улицу и не оглядываясь побежал к своему домику.
На другой день длинная еврейская кибитка вывезла Собеслава из Люблина. В домике осталась только Дорота с своею помощницею и старый Литвин, нанятый сторожем. Найдя оставшиеся после Матвея орудия для табачного производства, он занялся его любимым ремеслом в свободное от других трудов время. Но табак его выделки не был уже тот славный, систематически и даже педантски приготовляемый «матвеич», по котором многие мещанские носы в Люблине долго носили траур.
В один прекрасный осенний вечер пан стольник Пурский велел проводить себя на крыльцо, как вдруг загремели колеса, отворились ворота, и огромная кибитка подъехала к крыльцу с торжественным помахиванием кнута. Стольник не мог понять, кто бы такой мог к нему пожаловать, как видно, издалека; он еще не успел хорошенько разглядеть приезжего, как уже Собеслав стоял перед ним, с видом какой-то боязни, ожидая приветствия. Старик пристально всматривался в лицо гостя, как будто что-то припоминая, хотел сделать приветствие, но все еще колебался.
– Неужто вы меня не узнаете?
– Простите старым глазам, но…
– И по голосу?
– Нет, помнится мне…
– Пан стольник, вы не узнаете своего баловня! Как будто обданный кипятком, Корниковский, узнав его и в то же время вспомнив о его купечестве, отшатнулся назад, сделал гримасу и пробормотал сквозь зубы:
– Пан Секиринский?
– Стольник, добродзию, разве так здороваются с воспитанником?
– Прошу садиться, прошу садиться! – сказал Корниковский.
– Нет, я не сяду, – отвечал гордо Собеслав, – пока вы не объясните мне причины такого холодного приема.
Кто знал прямой, живой и вспыльчивый характер Корниковского, тот поймет, с каким нетерпением закричал он в эту минуту:
– Э, моспане, объясняй ты сам, а не заставляй меня осквернять черт знает чем язык! Кто вешал и мерил, того я не признаю за Секиринского, а до Фальковича мне нет дела.
– Кто мне это докажет? – сказал, покраснев, Собеслав. – Пан стольник, это клевета врагов моих. Ни один Секиринский еще не унижался, а я последний из их рода.
– Толкуй себе, коханку! – отвечал старик. – Трудно не верить собственным глазам.
– Но кто же это мне докажет? – спросил еще с большею живостью Собеслав.
Стольник посмотрел ему в глаза.
– Дай мне руку и пойдем в комнату, – сказал он, – там разберем дело.
– Ну, говори, коли хочешь, – сказал он, сев на своем привычном месте у столика, – мне не хотелось, чтобы нас слышали люди; да лучше признайся по правде, чем туманить меня.
– В чем признаться?
– В чем? А черт возьми, да в торгашестве, в барышничестве!
– Это басни.
– Ну, мое уж почтение, когда ты мне не веришь! – сказал стольник, ударяя очками по столу.
– Но положим, что дело было так, как вы предполагаете, пан стольник, кто мне это докажет? – спрашивал упрямо Собеслав.
– Кто, да целый город, пожалуй!
– Однако же, кто об этом знает? Кто говорил об этом в городе? Скажите.
– Эка штука! Да я там давно уже не был.
– Поезжайте же, пошлите. Соберите справки.
– Да зачем же ты сюда пожаловал? – сказал стольник. – Разве для того чтобы враги твоих родителей вырыли на тебя из-под земли клевету?
– Пускай враги ищут, чего хотят, – сказал Собеслав. – Что мне до них. Я сюда приехал потому, что кое-как выиграл-таки тяжбу с Лендскими.
– Как? Дело ведь было кончено?
– Не совсем.
– Лендские заплатили 3000 золотых, и мы с ними поквитались.
– Не имея на то права.
– Что ты говоришь?
– Я был малолетний.
– Неправда!
– Да, был, недоставало месяца до совершеннолетия.
– Ну, показывай, показывай, что у тебя еще там в запасе.
– Пан стольник, так третировать меня не годится. Корниковский пожал только плечами.
– Что же далее?
– Они вынуждены были заплатить мне 20.000 талеров, и теперь мы поспорим с Вихулами о Секиринке, и будь я не Секиринский, если не задам им перцу!
– Уж, пожалуйста, про перец-то не вспоминай! – сказал Корниковский.
Секиринский покраснел по уши.
– Ну, ну, – сказал старик, – славный проект, славный проект! Итак, ты приехал сюда с намерением…
– Завязать тяжбу с Вихулами, так как они не имеют права на наследство.
Старик призадумался и долго молчал; наконец, раскрыл объятия, чтобы обнять гостя.
– Собеслав, мой милый баловень, – сказал он, – ради Бога признайся, продавал ты перец?
Секиринский замялся.
– Что за странное предположение? – сказал он.
– Ну, скажи же, скажи, ради Самого Бога!
Секиринский пришел в замешательство и как будто придумывал, как бы увернуться от ответа. Но старик не отставал и беспрестанно повторял:
– Ну, ради Бога, скажи всю правду!
– Если вы не верите моим словам, – отвечал, наконец, Собеслав, – то для меня было бы унизительно перед вами божиться. Думайте, что хотите.
Стольник опустил распростертые руки, сник головою и вздохнул:
– Свершилось, – сказал он грустно, – свершилось. Не доставало только, чтобы последний Секиринский сам попрал свое достоинство. Увы, плакать надобно и радоваться. Садись и скажи, что ты намерен с собою делать?
Собеслав сел, потихоньку отирая пот на лбу.
– Так ты хочешь добиваться Секиринка? – спросил стольник.
– Не только хочу, но могу, должен и верну его, – сказал с уверенностью Собеслав. – Права мои на него не подвержены никакому сомнению; бумаги все готовы.
– Посредством кого же ты думаешь действовать? Не забывай, что несколько десятков лет прошло, как вы оттуда выехали. Ви-хулы приобрели себе связи и друзей, которых вы никогда не имели. Никто не станет на твою сторону.
– Нужды нет, – отвечал Собеслав. – Я сам о себе буду заботиться; я к этому приготовился.
– Где же это ты так насобачился? Неужто в лавке Фальковича? Но, молчи, ни слова об этом… Ведь тут не раз придется объяснять дело перед судом. Сумеешь ли ты это сделать?
– Ко всему этому я совершенно приготовлен и потребую от Вихул явки документов и очной ставки.
– Помоги тебе Бог! – сказал, поглаживая лысину, стольник. – А потом что ты намерен делать?
– Потом, получив во владение Секиринок, буду хозяйничать как все, женюсь и…
Стольник постоянно покачивал головой с недоверчивым видом. Он, казалось, думал о прошедшем и не верил настоящему. С большим трудом удалось Секиринскому развеселить его городскими люблинскими новостями; но ничто не могло возвратить ему той привязанности, которую подорвала ненавистная для старика торговля. Правда, Корниковский просил Собеслава пожить у него в доме, пока устроятся дела, но, очевидно, делал это не для Секи-ринского, а из уважения к памяти его родителей.
На другой день Собеслав, оставив шкатулку под кроватью пана стольника и приодевшись хорошенько, отправился на старых клячах пана Корниковского в Секиринок. Он совершенно не помнил родной своей деревни – таким молодым мальчиком из нее выехал.
Во главе рода Вихул стоял тогда пан Ксаверий, прямой сын своего батюшки, буян и пьяница. Он еще не был женат и жил с роднёю в отцовском домике, теперь расширенном и улучшенном. Хотя ростом он превосходил отца, однако же, сильно напоминал его своею наружностью: – те же самые черты лица, то же самое буйство характера, та же злость и запальчивость.
Соседи боялись связываться с ним; на сеймиках его крик слышен был громче всех; а когда он проходил по местечку, низко спущенная сабля его бренчала зловещими звуками. У него была привычка беспрестанно покручивать усы и свистать везде, а в силу свою он верил до такой степени, что готов был броситься один с саблею на целую толпу вооруженных слуг какого-нибудь магната. В доме он властвовал деспотически: братья и сестры дрожа, исполняли все его приказания; мужики по деревне прятались, завидя его издали. В отношении к евреям он был истинный бич. Один только Шмуль, рыжий, привычный к брани, арапнику и дерганью за бороду, имел к нему доступ и обделывал разные хозяйственные дела его, потому что в Польше в старину ни один помещик не мог сделать шагу без еврея.
К такому-то забияке, несмотря на предостережение стольника, ехал смело с бумагами за пазухой Секиринский, чтобы начать с ним дело объявлением своих притязаний и, если будет можно, покончить тяжбу миролюбиво. Ксаверий Вихула объезжал на своем дворе дикого коня в то самое время, когда бричка въехала в ворота, и из нее вылез совершенно незнакомый ему господин. Он бросил с проклятиями свою клячу и поспешил навстречу Секиринскому с фуражкой набекрень, в расстегнутом кителе, красный, засаленный и сердитый.
– Кого имею честь у себя видеть? – спросил он.
– Собеслава Секиру-Секиринского.
При этом имени Вихула закусил губу, нахмурился и указал дверь в комнату.
В комнате было нечисто и беспорядочно. Мужские платья и женские юбки валялись по столам и стульям. Посреди комнаты спали две огромные собаки и со сна бросились на входящих, но были прогнаны арапником и продолжали ворчать за дверью. На одном гвозде у двери висела скрипка, на другом узда, на третьем космы ниток. Сквозь полуотворенную дверь видны были в другой комнате женские наряды, и какая-то полуодетая паненка отскочила в сторону и с любопытством начала смотреть в дверную щель.
Вихула указал гостю на кресло, а сам схватил другое и загремел им об пол так, как будто хотел раздробить его в щепки.
Собеслав посмотрел вокруг, но не сел.
– Что же вас привело сюда? – спросил Ксаверий, тяжело дыша.
– Небольшое дельце.
– Кажется, – отвечал на это резко Вихула, насмешливо измеряя глазами Собеслава, – кажется, между нами и Секиринскими все дела покончены.
– Не совсем.
– В самом деле? А я думал, что, овладев имением за долги Секиринком, мы все покончили.
– Этого мало, что вы овладели, надо еще возвратить его, – сказал Собеслав.
– Ха-ха! После двадцатилетнего владения?
– Да, хоть бы и так.
– Ах ты, мой благодетель, так растолкуй же мне, как это может случиться?
– Я за тем и приехал. Вы не имеете права на наследство.
– Что же в этом?
– Я сын и наследник Лонгина Секиринского.
– Поздравляю!
– И не оставлю Секиринка в ваших руках.
– Прекрасно. Но надо заплатить отцовские долги.
– Заплачу.
– Вы заплатите? Ха-ха! Чем же?
– Деньгами, – отвечал спокойно Собеслав, – а от вас прошу счет за владение имением в течение стольких лет.
Вихула посмотрел так, как будто хотел выведать по глазам своего гостя, вправду ли он задумал такое дело, или намерен угрозою что-нибудь выжать из его кармана. Но Собеслав говорил серьезно и важно.
– Прежде, нежели начнем тяжбу, я хотел попытаться, нельзя ли нам кончить дело без дальнейших хлопот. Родители наши жили в постоянном между собою раздоре.
– И мой отец вашего выжил.
– А я могу вам заплатить той же монетою.
– Коханку! – закричал Вихула с налившимися кровью глазами, потому что всякий раз белки его краснели, когда он приходил в бешенство. – Коханку! Я не забыл, что ты в моем доме, и это одно спасает тебя; но ступай себе с Богом и начинай тяжбу, а потом посмотрим, что из нее будет.
– Итак, мы полюбовно ничего не сделаем? – сказал Собеслав.
– Я выеду из Секиринка разве мертвый! – сказал Ксаверий. – И знайте, почтеннейший, что задеть Вихулу хуже, нежели самого черта! Меня в каше не съешь!
– И меня также, – отвечал Секиринский. – А затем честь имею кланяться.
– И я также! – смеясь сказал Вихула и провел гостя в сени не без некоторого волнения. Там они еще раз церемонно раскланялись, и Собеслав отправился прямо в местечко искать юриста, которому можно было вверить свое дело.
В Секиринке между тем была страшная тревога. Пан Ксаверий тотчас побежал с новостью к брату, который присутствовал при сборе яблок; сестра, слышавшая весь разговор сквозь дверь, побежала за ним. Последовал крик, смех, угрозы. Наконец, Вихула велел седлать коня, вскочил в седло, ударил арапником свою клячу и поскакал к юристу, некогда приятелю, а теперь помещику пану Вертковскому.
Вертковский жил очень близко. Он был уже не молодой человек и хорошо помнил времена отречения Секиринских от владений деревнею. Знал он дела Вихул и Секиринских, потому что те и другие не раз бывали у него в руках. К несчастью, в деревенском уединении – он жил с одной женой, глухою старушкой – привык слишком часто заглядывать в свою аптечку и принимал лекарство так часто, что после обеда редко кому удавалось застать его трезвым. Но опьянение его было особенного рода. Он не держался на ногах, глаза у него хлопали, как у совы, и, по-видимому, он терял всякое сознание; между тем, спросите о чем угодно, он ответит вам как нельзя лучше на всякий вопрос. Только потому и можно было узнать его опьянение, что он не мог встать с кресла и постоянно заикался. Что же касается памяти, то в пьяном виде она была у него еще в лучшем состоянии, нежели натощак. Обыкновенно с женой он по целым дням играл бобами в марьяж. Под его креслом всегда стояла темная сулея с водкой, которую он называл целительным притиранием, полученным от доктора.
Войдя в комнату, Вихула тотчас по выражению лица адвоката, бутылке под стулом и тому, что он не поднялся навстречу гостю с своего места, узнал, что Вертковский под хмельком.
– Как поживаете, сосед? – спросил крикливо Вихула, усаживаясь против него. – Кажется, вы не совсем здоровы.
– А, а… а… – отвечал, выпучив на него бессмысленные глаза, адвокат. – Да… да… да…
– А я к вам за советом. Два слова, почтеннейший. Недолго буду вам надоедать. Курьезное, черт побери, дельце… Приезжает ко мне сегодня Секиринский.
– Что, покойник? – закричала пани Вертковская, бросая бобы.
– Нет, сын покойника… Но со смешной претензией.
Старый юрист вытаращил глаза больше прежнего, и в них заметно было на этот раз, вместо животного бессмыслия, человеческое любопытство.
– Представьте себе, любезнейший, вспомнила бабка, как молодушкой была: ему захотелось Секиринка!
– Quo ti… tulo? – спросил юрист.
– Взят он у них за долги, да, видите ли, мы не имеем права наследства; так хочет требовать и заплатить сколько следует… Скажите, может он в этом успеть?
– Может.
– Как? Отобрать у нас Секиринок?
– Si pecuniam habet?
– А черт его знает, habet ли он, или нет? Но без того, верно, не приехал бы. Ну, если habet?
– То и Секиринок habet.
– А чтобы его черти взяли! – вскрикнул Ксаверий. – Если бы я знал, что дело не шутка, я бы, не теряя времени, надрал ему уши и отбил охоту к тяжбам. Но еще можно поправить дело при первой встрече.
– Где же вы его видели? – спросила пани Вертковская.
– Он приезжал ко мне с предложением мировой, но я отделался от него смехом и выпроводил его из дому.
– Жаль! – коротко отозвался Вертковский.
– Как? Неужели в самом деле могут оттягать у нас Секиринок?
– Pecunia, – медленно выговаривал старик, – все может.
– А сабля, пан реент?
– Variabillis, – пробормотал Вертковский.
– Но рассмотрите хорошенько дело, помните ли вы его?
– Знаю, как негодную монету.
– И думаете, что выиграет?
– Probabilitas.
Вертковский всегда говорил лаконически, будучи пьян, потому что ему и одно слово было трудно произнести.
– Ну, по крайней мере, знаю теперь, что делать, – сказал Вихула. – Еду в местечко и первому, кто возьмет на себя это дело, обрежу нос и уши, а пана Секиринского выкурю отсюда фухтелями, но не допущу его до тяжбы.
Сказав это и видя, что Вертковский ему ничего не отвечает, Вихула повернулся к нему спиной, сказав: «до свидания, сосед», хлопнул дверью, сел на коня и поскакал обратно в Секиринок. Тут ему заложили бричку, и пан Ксаверий полетел в местечко Черск, чтобы настращать адвокатов.
На половине дороги между Секиринком и Черском был небольшой сосновый лесок, и подле него стояла убогая корчма. Все урочище известно было под названием Кошачья-горка. Сюда вала также дорога из Черчин, деревушки пана Корниковского. Случилось так, что Собеслав, едучи в Черск, избрал другую дорогу и потому не был настигнут Вихулою, но подъехал к корчме в то самое время, когда лошади Вихулы отдыхали у корчмы, а он прохлаждался в избе квартою пива. Бричка Секиринского тоже остановилась у корчмы, чтобы дать отдохнуть старым клячам пана Корниковского. Два убогие шляхтича, привязав лошадей к плетню, подкреплялись в сенях хлебом и сыром. Секиринский оставался еще в бричке. Вдруг выбегает из корчмы Вихула, обтирая ладонью намоченные в пиве усы и обращается прямо к бричке.
– Поклон пану Секиринскому!
– Челом бью пану Вихуле!
– А что? В Черск?
– В Черск,
– И я тоже.
– Веселее будет по дороге.
Вихула, которого в околотке все боялись, не привык чтобы с ним так небрежно обращались; он нахмурился и машинально протянул свою руку к воротнику кунтуша Секиринского. Но прежде, нежели он до него дотронулся, Собеслав достал саблю из брички и уже стоял перед ним, не только без всякого страха, но еще и со смехом.
– Не хотите ли начать тяжбу с ушей или носа? – спросил он.
– Ого, смотрите, как он громко поет! – сказал Вихула. – А ну-ка, брат! Ты думаешь, что нашел молокососа, который испугается тебя? Я покажу тебе, что значит Вихула!
– Я от этого не прочь, как видите, – смеясь отвечал Собеслав, – но только сделаем дело по-дворянски при свидетелях. Тут есть, в корчме, я вижу, два шляхтича. Вот они глазеют на нас через порог. Возьмем их в свидетели и, если воля и ласка твоя, мосьпане, попробуем!
– Панове братья, просим в свидетели! – закричал нетерпеливо Вихула и, обнажив саблю, осмотрел ее, отер с нее рукавом пыль.
– Просим покорно, – прибавил Секиринский, обнажая свою красивую небольшого размера шерпентинку, которая заблестела в воздухе.
Двое проезжих, обменявшись взглядом, подошли ближе, но ожесточенные враги уже сошлись на бой, как петухи: Вихула с явной яростью, Секиринский с хладнокровием, впрочем, наружным только. Пан Ксаверий был так уверен в своей непобедимости, что не связал себе даже висячих рукавов кунтуша. Собеслав осмотрел свою позицию, смерил глазом врага, и поединок начался.
Вихула дрался на саблях превосходно. Секиринский – ловко, как сатана (если только сатана когда-нибудь дрался на саблях). Видно было тотчас, что в этом искусстве он брал уроки у отличного артиста. Хладнокровием своим он брал верх над противником, который метался быстро, неистово, с криком, чтобы сперва застращать неприятеля, а потом поразить оробевшего. В самом начале, он задел Секиринского по руке; потекла кровь; но скоро получил от него такой удар по лбу, что кровь залила ему глаза, и он, заслоняясь рукавом, закричал:
– Згода, пане братие!
– Згода, – повторил несколько раз, ударив его плашмя саблей Собеслав. – Это тебе наука не задевать добрых людей на дороге, если не хочешь носить рубцов на лбу.
Сказав это, он вскочил в бричку, и, поклонясь свидетелям-шляхтичам, велел ехать. Вихула же, обрызганный кровью, оперся на свою повозку и кричал, чтобы ему подали тряпки и водки; но едва произнес эти слова, как упал наземь в бесчувствии.
Собеслав видел это, но не воротился назад, потому что без него было кому помочь раненому и продолжал свою дорогу в Черск.
Между тем пан стольник Корниковский спокойно занимался со скуки сочинением силлабических стихов в честь какого-то римского героя и плевал от досады всякий раз, когда ему приходила в голову фраза из современных стихотворцев, которых он запомнил наизусть. На дворе начинало темнеть. Вдруг появляется у порога его комнаты смиренная фигура убогого шляхтича, в сером капоте.
– А, мой панцырник, – сказал стольник, – каково поживаешь? «Ну уж оду, – подумал он в то же время, – окончу после». Что нового? Откуда Бог несет?
– Из Черска, вельможный пане.
– Как поживаешь, здоров ли?
– Слава Богу здоров, к вашим услугам! Проезжая мимо, зашел, не прикажете ли чего-нибудь?
– Ну, а дичи нет?
– Даст Бог будет. Но здесь на дороге я чуть-чуть не наехал на особенную дичь.
– Ну, что там такое? – спросил стольник.
– Что. Коротко сказать, слава Богу, что обошлось без моего греха – целая история. Еду я из Черска, кляча моя пристала; вот я и остановился у Кошачьей-Горки, возле корчмы, чтобы отдохнуть. Достал из торбы сыру и хлеба, смотрю едет пан Янцентий из Мушина и тоже привязал коня возле плетня. Вот мы и давай полдничать и балагурить. Толкуем о том, о сем, как вдруг летит бричка из Секиринка с паном Ксаверием и – тррр… остановилась. Мы с Янцентием дали пану место и сели себе в сенях; что же слышим: ру-ру-ру… опять кто-то едет; я узнаю лошадей вашей милости и какой-то егомосць.








