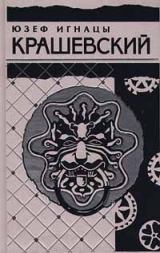
Текст книги "Последний из Секиринских"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Не всегда я был так румян и полон, как теперь, и не всегда так одевался… Ох, ох!
Сказав это, он вздохнул и замолчал.
– Не примите моего вопроса за нескромность, – начал он опять через минуту, – давно уж я замечаю, что вы ходите по городу, как будто без цели и с какою-то грустью; не могу удержаться, чтобы не спросить: что вы здесь в Люблине делаете?
– Я? Ничего, – отвечал отрывисто Собеслав, – хожу думаю…
– О, конечно, кого-нибудь или чего-нибудь ожидаете, – спросил старичок, – но извините меня за любопытство.
– Ничего, – отвечал медленно и стараясь не заикаться Собеслав, которому веселое лицо и показывающий зажиточность костюм незнакомца понравились. – У меня нет никакого занятия, я не ожидаю никого и ничего.
И сказав это, он вздохнул.
Старик, несмотря на видимое желание поговорить, замолчал на минуту и потом сказал, как бы вообще о молодых людях.
– Странное дело – молодежь без занятия; о, когда бы мне Господь возвратил прежние силы и годы!
– Что же вы делали бы? – спросил с любопытством Собеслав.
– Что делал бы? – Начал бы сначала прожитую жизнь.
– Зачем? Вы, как мне кажется, так довольны своею прежнею жизнью, что, верно, не захотели бы ничего в ней переменить.
– Айв самом деле, я не желал бы, чтобы хоть на йоту было со мной в жизни иначе, нежели было.
– Редкое счастье! – сказал со вздохом Собеслав.
Между тем начинало темнеть. Молодой человек поднялся, чтобы еще засветло пройти на обратном пути предместья. Старик встал также, и оба побрели потихоньку к городу, разговаривая о разных посторонних предметах. В одной из лучших улиц, называвшейся Гродскою, старик расстался с Собеславом и пошел в калитку большого каменного дома.
На другой день Собеслав, позабыв почти о вчерашней встрече, отправился вечером, по своему обычаю, за город и расположился на одном из возвышений, несколько далее того места, где сидел вчера. Не прошло четверти часа, как старик в меховом кунтуше показался в стороне и прошел мимо своего знакомца, кивнув ему слегка головою. Через полчаса он возвращался со своей прогулки и снова завел с ним разговор, из которого Секиринский узнал только кой-какие городские новости, но ничего о нем самом.
Через несколько дней, встречаясь почти каждый вечер за городом, они познакомились гораздо ближе, впрочем, не зная друг друга по имени. Казалось, обоим нечего было делать, и оба одинаково любили прогулку. Старик садился на траве подле молодого человека и, любя поболтать, довольствовался только тем, что его слушают. У него всегда было что-нибудь новое для рассказа, и он всякий раз умел незаметно сократить для своего слушателя время до самых сумерек. Он никогда не опрашивал Собеслава, кто он, а тот, с своей стороны, не решался его расспрашивать. Но однажды вечером, глядя на освещенный заходящим солнцем город, старик вздохнул и повел такую речь:
– Расскажу я теперь вам, кто я таков. Хоть, может быть, вы и не любопытны, но жизнь моя может занять самого равнодушного человека; так я думаю потому, что я вырос не в богатстве и все, что я имею, всем этим я обязан Богу и самому себе. По милости Божьей, у меня хороший кусок хлеба, и ни один магнат, за которым ездит толпа дворян, не похвалится большею моей чистотой совести. Всем этим, как я сказал вам, я обязан собственным стараниям.
– Счастье, – сказал Собеслав.
– Без сомнения, – отвечал старик, – но не скажу, чтобы у меня в жизни все шло как по маслу, потому что я знаком с бедностью и с горем; но дело в том, что я был упорен, как козел, и, сказавши себе, что буду богат, трудился до тех пор, пока не разбогател-таки.
– Хорошо было бы, когда бы для этого достаточно было только сказать: буду богат.
– А вот, послушайте. Отца моего я не помню, бедняжку мать мою чуть-чуть припоминаю. Она была – этого я совсем не стыжусь – торговкою и обыкновенно сидела под краковскими воротами с яблоками, а потом подле иезуитского коллегиума, на дороге, по которой ученики ходили в классы.
Собеслав покраснел, увидя с кем имеет дело, но любопытство взяло верх над его стыдом, и он слушал.
– Весь капитал наш состоял, я думаю, из нескольких десятков злотых, еще Бог знает, стоили ли и этого наши скамейки, коробки, корзины и домашняя утварь, разное тряпье и запас орехов, яблок, груш, слив, вишен, смотря по времени года. Сколько помню, ходил я босиком, в серой сорочке, редко покрывая чем-нибудь голову, и питался гнилыми овощами и домашней похлебкой, которую мать только по вечерам варила для меня и для младшей сестры, умершей потом от оспы. Жили мы в подвале, в задней части Городской улицы, в лачужке, темной и сырой, с одним только оконцем при самой земле, часто забрызганном грязью, без полу, со сводом, а в дождь у нас было полно воды. Я говорю жили, а в самом деле, я и мать проводили там только часть ночи, потому что целый день, с раннего утра до позднего вечера, надобно было сидеть за своим товаром и ожидать покупщиков, надобно было сидеть, несмотря ни на мороз, ни на ветер, ни на метель, ни на дождь, ни на июльскую жару. Мне не с кем было оставаться дома, и потому я всегда хаживал с матерью, одетый во что Бог послал, грел зимою руки над горшком с угольями; в летнюю жару прохлаждался у каменной стены и проводил свое время, глазея на прохожих.
Тяжко было начало моей жизни; как вспомню, то и теперь мороз по коже продирает. Мать моя была женщина больная, нетерпеливая и часто журила меня. Я переносил это молча и думал сам себе: „Когда вырасту, пойду работать, никто тогда не будет кричать на меня; буду сам себе паном“. Мысль эта утешала меня в детстве, из которого я вышел скоро; на десятом году я уже носил по городу корзинку с пряниками, молодым горохом, огурцами и тому подобными лакомствами. А началось это вот как: случилось однажды, что какой-то чиновник, шагавший по улице, выронил из кармана какие-то бумаги? Я поднял, догнал его и отдал. Он, очевидно, обрадовался найденной потере и дал мне за это два талера. Я спрятал их и, ничего не говоря матери, нашел себе старую корзину, купил у огородника на три злотых гороху и целый день ходил по городу, возвещая громогласно о своем товаре. К вечеру у меня в узелке оказалось пять злотых барыша, а в корзине осталось еще немного вялого гороху. Это ободрило меня на дальнейшие предприятия.
Случалось мне и прежде, несколько раз, из шалости уходить от матери и болтаться целый день по улицам и только вечером возвращаться на квартиру в ожидании порядочных толчков, но вместе с тем и ужина. На этот раз я также возвращался в свой подвал в сумерки, с корзиною на плечах и с гордым сознанием своей заслуги в душе. Мать уже стояла, видно, в ожидании меня на пороге, и лишь только меня увидела, подняла вверх огромную метлу, давая знать, что мне готовится. Но я не испугался; я был уверен, что она простит меня. В самом деле, взглянув на мою корзину и заметив на лице моем радостное выражение, она сперва как будто не узнала меня, а потом спросила: „Что это Михалко?“ – „А вот пойдем, матушка, я все расскажу тебе, как было, – отвечал я с уверенностью в самом себе, и мы осторожно спустились в глубину нашего жилища. Я снял с плеч корзину, сел на опрокинутом ведре и рассказал свои приключения от двух талеров до пяти злотых… – Теперь я и тебе, и себе, матушка, на хлеб заработаю, – заключил я, – не бойся“.
Мать до того была удивлена и осчастливлена неожиданным проявлением во мне коммерческого гения, что поцеловала меня в голову и заплакала от радости. Тотчас она принялась готовить ужин, расспрашивала меня о всех подробностях моей торговли и несколько раз пересчитывала барыш мой, повторяя: „Ну, дока, так дока“.
Не вытерпела старуха, чтобы в этот вечер не побежать к соседкам и не похвалиться перед ними моим барышом. Она зазвала даже к себе двух приятельниц, и все трое опять принялись меня расспрашивать снова, как я добыл денег, кто посоветовал мне пуститься в торговлю, и как я заработал столько прибыли.
В следующие затем дни мать сидела под краковскими воротами, а я ходил по городу торговать и недели через две у меня накопилось довольно много денег. Потом я нашел, что зеленью торговать не так удобно, – потому что этот товар скоро портится, и обзавелся детскими игрушками, шпильками, тесемками, иголками и другими мелочами. А так как я не ленился трудиться, приветствовал ласково покупщиков и знал, кому поверить в долг, то и вообще как-то все пошло мне в руку, и сверх прожитого на пищу у меня оказалось к концу года в запасе злотых сто.
Помню, что в это время уж ходя около лавок, я думал: „Даст Бог и у меня будет лавка“ – и такое мною овладевало честолюбие, что я трудился изо всех сил, не чувствуя усталости, ни сомнения. И в самом деле через несколько лет имел уже хоть не лавку, по крайней мере, будку, возле монастыря Святого Духа. Там я начал торговать обоями, бисером, картинками, книжечками и разными безделками. Мать все еще, несмотря на старость, сиживала над своими яблоками. Я советовал ей оставить торговлю, но она не любила быть праздною и до того привыкла спорить с покупщиками, что иначе не могла жить. Бывало, как заболеет, я уговорю ее посидеть дня два в тепле; но нет, тоска на нее нападет такая, что не рада жизни, и – смотри – на другой день уже плетется с корзиной и горшком на свое место. Я хотел было, чтобы она сидела в моей будке, но и на это она не согласилась, она знала каждого ученика, каждый ученик знал ее, и ей было скучно на всяком другом месте. Толпы проходящих мимо мальчишек, беспрестанные с ними споры и вечная осторожность, чтобы ее не обокрали, все это оживляло ее и придавало ей бодрость. Она сердилась, когда ее называли Цибелою, воображая, что это просто цибуля (лук, овощ), и просила, чтобы ее называли лучше грушею; но все поколения учеников знали ее под одним этим именем.
Мои дела шли между тем очень хорошо, и я не помню в жизни времени счастливее того, когда я носил свои надежды на плечах в коробке и лелеял их в убогой будке. Впоследствии я достиг всего, чего только желал, но это уже не так меня радовало, как детские мечты; не было также со мной и моей почтенной матери, чтобы поделиться с нею моим богатством. Старушка сидела, пока было в ней сил, у ворот иезуитского коллегиума; наконец, в один осенний день она почувствовала себя не в состоянии явиться к своей лавочке и скоро почила тихой смертью. Вы можете видеть на доминиканском кладбище прекрасный каменный памятник с корзиною плодов наверху – это памятник моей матери.
Оставшись на свете одиноким, я не переставал трудиться и из будки переместился в нанятую лавочку напротив ратуши. Лавочка моя была не велика, но хорошо снабжена кореньями, сахаром, кухонным материалом и тому подобными предметами. Барыш сперва, однако, был незначителен, потому что все это закупалось у оптовых торговцев на небольшие деньги. Долго я еще должен был работать, пока достиг того, что сам мог закупать товары оптом. Таким образом с двух талеров, брошенных мне прохожим чиновником, я разжился на две тысячи талеров наличного капитала, не считая товаров, составлявших мою лавку. Правда, что мне служило счастьем, но я этим могу хвалиться, потому что всегда строго соблюдал меру и вес, никогда никого не обманул ни на грош и сперва был так бережлив, как отъявленный скряга, а потом дал себе обет, который и доныне исполняю – подавать каждому нищему, где бы его ни встретил, грош на память о моей собственной бедности. Может быть, и эта милостыня дала мне счастье, не знаю, – но никогда я не терпел убытку ни от вора, ни от пожара, ни от обмана злых людей, и мало-помалу из уличного бродяги, который мог бы погибнуть навеки, я дошел до положения мещанина, оптового купца, имею каменную лавку, женился, благословил меня Бог добрыми детьми, а, вдобавок, в городе меня все уважают, и когда покойный король проезжал через Люблин, я держал над ним вместе с другими сановниками балдахин у краковских ворот.
Собеслав терпеливо дослушал до конца рассказ, и когда купец закончил и встал с своего места, он сказал только сухо и холодно:
– Вы были очень счастливы. Рассказ ваш действительно занимателен.
– А мораль моего рассказа, – прибавил старик. – Без труда нет плода, а трудись, так и Господь поможет. Славная мораль!
Последние слова произнесены были, по-видимому, с некоторым умыслом. Они глубоко врезались в памяти Собеслава. Задумчивый, возвратился он домой и долго не мог заснуть ночью. Дорота и Матвей сильно беспокоились, прислушиваясь к его тяжелым шагам, выражавшим крепкую думу. Видна в нем была внутренняя борьба с самим собою. Лицо его то прояснялось, то хмурилось, глаза блестели и потом снова затуманивались; он быстро расхаживал по комнате и вдруг останавливался, считал по пальцам, и только перед рассветом лег не раздеваясь в постель с каким-то решительным намерением. Утром его уже не было дома.
Слуги не знали, что думать о своем господине. Печальные, сошлись они на кухне и начали каждый выражать свои предположения.
– Молчит и ходит, – говорил Матвей. – Это худо, очень худо; я заметил, что и покойник перед смертью больше прежнего ходил и молчал. Лучше бы уж он сердился, бранился, даже пускай бы поколотил меня, но, как немой столб, двигаться из угла в угол – это уж что-то недоброе. Но что делать?
– Что делать? – отвечала Дорота, которая с некоторого времени сделалась особенно набожною. – Молиться и просить Господа Бога!
– Вестимо, – сказал Матвей, – молиться-то молиться, да не сидеть же с сложенными руками. Табак сам собой не смелется. Надо что-нибудь делать. Не дать ли знать пану стольнику?
– Разве ты не заметил, что он и с паном стольником не разговорчивее. Просил же его стольник сказать, что он сделает с своими деньгами, да ведь не упросил и уехал в сердцах. Это уж такая натура. А послушай, Матвей, что если бы мы попытались узнать, что он делает по целым дням в городе?
– Кто же за ним угоняется? – отвечал Матвей. – С моими ногами что-то приключилось: шагаю по земле точно не своими; да и ты тоже.
– И, что пустяки толковать. Я каждый день мили две выхожу по городу.
– А вечером и жалуешься.
– Да оттого, что это негодная мостовая везде. Бывало в Секиринках ходишь с утра до вечера, а ноги никогда не заболят.
– Ага, так и есть, что мостовая, – прервал Матвей, – непременно мостовая и мне повредила. Вот уже с год ноги как деревяшки…
И не смекнули, бедняги, что прошло более десяти лет после того, как они выехали из Секиринка.
Из совещания ничего не выходило. Дорота и Матвей пробовали поговорить с самим панычем, но он отделывался от них несколькими незначащими словами и с каждым днем все меньше и меньше оставался дома, особенно с того времени, как стольник прислал ему через нарочного деньги.
Такое непонятное поведение встревожило наконец до крайности слуг, и Матвей решился, вытерши ноги спиртом, отправиться по городу посмотреть, не встретит ли где-нибудь своего господина и не узнает ли, что он делает? Что за причина тому, что он два дня уже дома не обедает и велел Дороте готовить для него только ужин?
Оглядываясь во все стороны, толкуя сам с собою и со встречными по дороге, старый Матвей, с палкою в руке и с пузырями, полными табаку, под мышкою, бродил целый день по улицам, но напрасно. Продал только несколько фунтов своего „Матвеича“, полакомился медом у еврейских ворот и воротился домой ни с чем. Дорота решила утром на другой день идти сама за панычем.
Была уже ночь, когда он воротился домой, попросил воды умыться. – Дорота заметила, что вода была очень темна как будто он в чем-нибудь запачкался – поел немножко похлебки с хлебом, записал что-то в своей книжке и лег спать. Едва начало сереть утро, уж он проснулся, зажег свечу и начал одеваться. Дорота с вечера легла спать, не раздевшись, и лишь только он вышел на улицу, поспешила за ним. Любопытство придавало ей сил, но он уже был далеко впереди. Дорота не могла догонять его бегом, чтобы он не оглянулся, а Собеслав между тем повернул за ратушу и скрылся. Дорота долго бродила по городу и воротилась домой ни с чем, к великому торжеству Матвея, который уверял наперед, что из этого ничего не будет.
– Погоди, погоди, – отвечала Дорота, – завтра я еще лучше за него примусь.
Но на другой день Дорота видела, что он вошел в какой-то дом подле ратуши. Долго она ожидала его выхода и, не дождавшись, возвратилась домой.
Матвей смеялся до упаду; но на третий день, замкнув хорошенько домик, отправился сам с Доротой. Собеслав опять скрылся в том же самом доме. Матвей и Дорота расположились у двух выходов, ждали очень долго, но он не появлялся. Дорота утверждала, что Матвей не приметил паныча; а тот говорил, что она прозевала; поссорились страшно и воротились домой. Но тут же Матвею пришла мысль засесть у каменного дома вечером, не будет ли он выходить оттуда; и действительно, вечером старый слуга возвратился с торжеством к Дороте: Собеслав, просидев целый день в каменном доме, в сумерки вышел, завернутый в плащ, из той же двери, которою входил.
Оставалось узнать, что его туда привлекало и что он там целый день делал. Матвей решился проникнуть в таинственный дом с своим табаком. Оснастившись как следует пузырями с „матвеичем“, он часу в десятом отправился в свою экспедицию и начал исследования систематически, от самого основания до кровли дома, который был в три этажа. В нижнем этаже помещалась только бакалейная лавка какого-то купца Фальковича, да с другой стороны мастерская сапожника, который напевал песню во все горло. Матвей зашел сперва к сапожнику, продал ему четверть фунта „матвеича“ на пробу и поднялся по лестнице вверх: но там он находил то пирующих чиновников, то умирающего старичка, окруженного внуками, то молодых супругов, занятых своим счастьем и новым хозяйством, но нигде никакого следа Собеслава. Одно только жилье осталось неосмотренным, потому что было заперто. Матвей сошел вниз к купцу Фальковичу, чтобы расспросить о нем.
Он нашел в лавке купца, закутанного в епанчу, с широкополою шляпою на голове. Купец, по-видимому, был болен, потому что закрывал платком нижнюю часть своего смуглово оливкового цвета лица. Седые волосы, видные из под шляпы, и сгорбленная спина показывали в нем человека уже преклонных лет.
Матвей попробовал заговорить с ним, но купец отвечал на его расспросы молчаливым покачиванием головы и сидел неподвижно, скорчившись на своем стуле. Тут пришли другие покупатели и объяснили Матвею, что купец страдает зубною болью, что у него повреждена челюсть и что ему трудно говорить. Несмотря, однако ж, на это, старик проворно удовлетворял всем требованиям и объявлял такие умеренные цены на свои товары, что никто с ним не торговался. Матвею ничего больше не оставалось делать, как спросить на три гроша перца и убраться домой с своими наполненными табаком пузырями.
Сбитые с толков неудачею своих поисков, старые слуги делали самые дикие предположения на счет своего господина, но все-таки оставались в полнейшей неизвестности относительно его занятий.
Однажды Дороте понадобились какие-то припасы для кухни, и она, слышав от Матвея, как дешево все продается в лавке Фальковича, отправилась прямо туда. Лавка была набита покупателями. Старый купец в своей огромной шапке и с повязанным ртом, едва успевал мерить и вешать. Дорота долго стояла позади густой толпы, ожидая своей очереди и с любопытством следя за быстрыми движениями сгорбленного старичка. В это время кто-то заговорил с ним, и Дорота ясно услышала в ответ на вопрос голос Собеслава, голос, правда измененный, похожий на стариковский, но тем не менее знакомый ей с самого детства. То был его голос – она не могла ошибиться.
Пан Собеслав, последний из Секиринских, этот дворянин древнего рода – купец!.. Что с ним сделалось? Как это могло случиться? Она была убеждена, что не ошиблась в голосе, но ей было так мудрено постигнуть причину странного превращения, что у нее голова пошла кругом. Она чувствовала себя в странном волнении, как будто узнала о каком-то ужасном преступлении или сама его совершила. Вернувшись домой, она присела на кухне и начала горько плакать.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Матвей не видел ее слез и ни о чем не знал, потому что в это самое время встретил на дворе стольника Пурского, который, несмотря на свою подагру, приехал в Люблин узнать, как поживает сын его старинного приятеля и что сделалось с его капиталом. Он тотчас спросил Матвея:
– А что, мой старичина, что у вас нового?
– А, пан стольник, хуже всего, что ничего. Но знаешь, радоваться, или горевать, и все как будто ждешь бури, а какой сам не ведаешь.
– Что ваш паныч?
– Паныч?! Да мы его почти не видим. Бог его знает, что он делает! Уходит со двора чуть свет, возвращается ночью, и никто не разберет, чем он занимается. Меня часто продирает по коже мороз, как подумаю о нем.
– Да вы бы его спросили.
– Да, будто он станет отвечать! Точь-в-точь, как покойный отец, ходит да молчит, молчит да ходит. Добрый, почтенный паныч, да вот два недостатка только: все молчит, да табаку не нюхает. Это его и погубит.
– Что же вы о нем думаете? Верно гуляет, молодец?
– Пускай бы гулял, молодому пиву надобно поиграть так нет же, он всегда трезв и только что-то потихоньку делает и прячется со своим делом…
– Это очень худо, – сказал стольник. – Надобно непременно разведать.
– Разведывали уже мы с Доротой. Скажу даже вам, – прибавил Матвей потихоньку, – мы за ним подсматривали, но ничего не узнали. Войдет в какой-то дом утром, а выйдет из него только вечером.
– Ну, так надобно было разведать, кто там живет.
– А кто живет? Живет внизу старик купец, да еще сапожник, а вверху какой-то шляхтич, да еще какие-то две-три семьи, а о нем нет ни слуху, ни духу.
Стольник нахмурился, пожал плечами и замолчал.
– Я с ним поговорю об этом, – сказал он, – он мне признается. Не вор же он и не мошенник, в этом я уверен.
В это время вошла с заплаканными глазами Дорота, а Матвей пошел купить для лошадей сена. Старая служанка осмотрелась кругом и спросила гостя таинственным голосом:
– Знаете ли вы, что сделалось с нашим панычем?
– Знаю, знаю! Матвей мне рассказал.
– Нет, он ничего не знает, – и она залилась слезами, – он ничего, говорю вам, не знает!..
– Боже мой, что же такое? Говори, ради Бога, говори скорее!
– Если бы покойник это увидел, он умер бы с горя…
– Что же такое? – завопил он вне себя от испуга. – Ради Бога, говори!..
Дорота приблизила свои губы к уху пана стольника и шепнула:
– Он сделался купцом!
Если бы гром грянул над головой стольника, и тогда бы старик так не побледнел и не встревожился! Слова замерли у него на устах. Он задрожал всем телом и стоял как вкопанный с потупленными в землю глазами.
– Как, что? – произнес он, наконец, прерывающимся голосом. – Не может быть, говорю я тебе, быть не может! Он, Секиринский, потомок гетманов и каштелянов!..
– Тише, пан стольник, тише; еще кто-нибудь услышит вас. Да, да, он сделался купцом.
– Скорей ожидал я, что он бросится с моста в воду! – воскликнул стольник. – Но скажи, как же это случилось?
– Не знаю как, но только верно, что возле ратуши есть лавка с надписью Фальковича, да там никакого Фальковича нет – это его лавка.
– Какого же дьявола он продает в ней?
– Как какого? Бумагу, изюм, имбирь, сахар. Сказано – купец.
– Неужели? И все это среди белого дня, безо всякого стыда?
– О нет, вы увидите, что он сделал из себя! Нарядился как на масленице. Волосы седые, лицо желтое, горбатый, дряхлый.
– Что ты за чепуху городишь мне! – вскричал стольник, стукнув палкой об пол. – Это вздор, этого быть не может, говорю я тебе!
– Ох, Боже мой, – говорила Дорота, – я его вскормила, мне не узнать его голоса!
– Тьфу, – прервал старик ее, – с ума ты спятила, что ли? Вздор, нелепость, говорю тебе еще раз. Переодетый, замаскированный, что же он, рехнулся, что ли разве?..
– Так посмотрите на него сами, я вас проведу в лавку, – сказала Дорота, обиженная его недоверчивостью.
Несмотря на свою усталость, старик попросил только почистить Дорожное платье, пригладил седые волосы и отправился вместе с Доротою к ратуше, оставив в доме сторожем своего кучера.
Дорота немножко отстала позади, а пан стольник взобрался по Двум каменным ступенькам в лавку, над которою висела доска с надписью: «Бакалейные товары Яна Фальковича из Львова». Лавка была полна народу, как всегда. Старый, седой и смуглый лицом купец, согнутый летами, не успевал исполнять требования покупщков. На нем была описанная Доротою широкополая шляпа, а рот был повязав цветным платком. Стольник, взглянув на забавную фигуру старичка, внутренне рассмеялся над проницательностью Дороты; однако ж, остановись позади покупщиков, продолжал наблюдать его. По ловкости, с какою купец завертывал свои товары и рассчитывался с покупщиками, видно было, что он всю жизнь ничего другого не делал. Притом же, его сгорбленный стан, его седина, его смуглый цвет лица – все это совершенно уничтожало проницательность Дороты.
Стольник уже не сомневался в ее ошибке и, чтобы еще больше убедить себя в неподдельности поворотливого и деятельного старичка-купца, подошел к его прилавку и спросил фунт изюму. Купец без всякого замешательства отвесил ему изюм, завернул товар с неподражаемою ловкостью в бумагу, взял от стольника талер, дал сдачи и продолжал исполнять другие требования. Корниковский спросил его даже о чем-то, но в его голосе не заметил ничего знакомого. Обрадованный, он уступил свое место новопришедшим покупщикам и хотел уйти из лавки, но на пороге встретил знакомого и разговорился. Начался разговор о том, о сем. Вдруг до его слуха долетают знакомые звуки. Фалькович потерял его из виду, не старался более говорить глухим сиплым голосом и произнес несколько слов ясно и чисто, немножко заикаясь. Вслушивается Корниковский и думает – это голос Собеслава, нет никакого сомнения. Подходит, вглядывается в его оттененное шляпою сверху и полузакрытое снизу повязкою лицо и видит заметное сходство. Этого мало. Пытливый взгляд его на этот раз произвел на купца заметное впечатление; шнурок, который держал купец, готовясь завязать покупку, задрожал в его руке, и он быстро отвернулся в сторону. Купец знал, что его голос изменил ему, и не мог уже притворяться равнодушным по-прежнему.
Лицо Корниковского омрачилось; он сжал губы и ушел из лавки, позабыв даже проститься со своим знакомым, который в это время спрашивал себе какого-то снадобья. Он до того был поражен своим открытием, что только повторял одно слово: «купец, купец» и шел по улице как опьяненный. Потом он остановился, чтобы собраться с мыслями, совершенно расстроенный.
– Чтобы его черт взял! – сказал, наконец, стольник. – Фи, фи! Не скажу и ему самому, что я узнал его! Надо эту тайну утопить навеки, чтобы свет не знал, не видел, не подозревал такого поступка. А! Секиринские!.. Вот тебе и Секиринские! Что если бы узнали об этом их враги…
И стольник схватился обеими руками за голову.
– Никто, никто не должен знать об этом, ни даже я сам! Фалькович!.. Сумасшествие! Какой-то безумец посоветовал ему, а он, другой безумец, послушался. Теперь понимаю, на что ему нужны были деньги. Если бы он ими подавился, то это меня нисколько бы не удивило. Но сделаться купцом – Секиринскому!.. Не лучше ли бедность, нищенство, не лучше ли пойти по миру! Все лучше этого!
Долго бы еще рассуждал он так, идя по улице, если бы Дорота, догнав его, не схватила за руку.
– А что, – спросила она, – не правда ли, а что?
– Перекреститесь, моя умница, – отвечал с живостью Корниковский. – Что это тебе забрело в голову? Голос похож, что же в этом. Это старик, которого давно все знают; я спрашивал у нескольких человек. Ничего похожего! Ну, сохрани Бог, если ты сдуру сболтнула это кому-нибудь другому, ведь ты погубила бы малого!
– Да как же я могла ошибиться!
– Да так же, как я говорю тебе. Воображение, заблуждение! Выбрось это из головы. Напугали только меня попусту. Я сам говорил с ним. У него рот повязан потому, что цирюльник повредил ему челюсть, вырывая зуб – вот и все. Тут лет пятнадцать уже знают горожане Фальковича.
Сбитая с толку, Дорота замолчала и пошла за стольником молча. Она упрекала себя в опрометчивости, с которою встревожила старика, и вместе радовалась, что ее догадки не оправдалась.
Пан Корниковский, с своей стороны, был крайне озадачен этим необыкновенным явлением. Он припоминал характер Собеслава и не мог постигнуть, что с ним сделалось. Он был далек от мысли, что это обогатит молодого человека, и, гнушаясь торговыми занятиями, – которые, по его мнению, вкореняли в человеке жадность к деньгам и скупость, а, по общему мнению, были унизительны, – никак не мог распутать узла. Что же делать? Уговаривать, чтобы Секиринский бросил свою затею? Нет и надежды. Собеслав никогда не нуждался в его совете; и уж если затеял такое необыкновенное дело без его ведома, то, наверное, пропустит мимо ушей его увещания, как бы они ни были основательны. «Послушаться умного человека, – думал Корниковский, – может только тот, у кого есть свой ум; но с сумасшедшим что толковать. Лучше отстраниться – пускай делает, что хочет». Пан стольник в этом несчастии – перемену жизни Собеслава – решил показывать вид, что ничего не знает, молчать и молиться Богу, чтоб он обратил молодого человека на истинный путь.
Решив действовать таким образом, старик дождался возвращения Собеслава, и когда тот на вопрос, где он проводит свое время, отвечал: «у иезуитов», старик сделал вид будто поверил, хотя невольно с упреком покачал головой. Поговорив о предметах посторонних и поужинав, они разошлись спать, а на другой день, прежде чем Собеслав собрался идти к своему делу, повозка пана стольника стояла у крыльца; старик простился с ним без дальнейших объяснений и, к совершенному его удовольствию, уехал из Люблина.
По возвращению домой, домашние, соседи и приходский священник заметили в Корниковском большую перемену. Он как бы мучился какою-то ужасной тайной; сделался молчаливее прежнего, часто вздыхал, жаловался на жизнь и на людей, иногда сам с собой потихоньку разговаривал и пожимал плечами. Но что было всего удивительнее, он не только не говорил никогда, как бывало прежде, о Секиринском, но даже на вопросы о нем отвечал: «Он уже не ребенок, пускай живет, как сам знает. Что мне до него. Как постелет, так и выспится».
Десять лет в повести протекают очень быстро; но в действительной жизни какое множество в продолжение такого периода наберется страданий, памятных минут, тяжких и долгих дней и часов, сколько незаслуженных потерь, сколько перемен в самом себе, в людях и во всем нас окружающем! Есть, конечно, такие счастливцы, или, пожалуй, несчастливцы, которые, прожив десятилетие, не видят разницы между первым и последним днем его, но это исключение; это люди каменные, которые в десять лет порастут только немного мхом, не двинувшись с места, не сделавшись ни меньше, ни больше и не заботясь о том, что их окружает.








