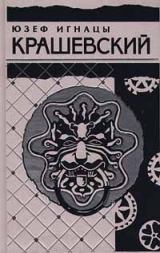
Текст книги "Последний из Секиринских"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
– Будьте ласковы, господа, пожалуйте ко мне, а я тем временем поуберу там; видите, пани, комнаты стояли пустые, так всего в них набросали; а там еще сова вышибла стекло в окне, так заткнули тряпкою; и печка развалилась, а пол так перегнил, что надо было его выломать.
Матвей слез уже с козел и, крутя ус, слушал болтовню толстой бабы. При последних словах ее он схватился за голову.
– Так этак вы бережете господский дом! – гаркнул он наконец. – Платите самую малость, лишь бы присматривали за всем в доме, да еще все растаскали! Погодите же!
Толстая баба испугалась и закричала громче прежнего.
– А что же вашей лачуге сделалось? Разве я виновата? Что я вам за сторож? Лачуга чуть не валится; я каждый год подпираю: то штукатурю, то белю, то крою. Чем я виновата? Пускай пани покамест идет ко мне, а там починим.
– Нет, уж лучше вы ступайте с детьми на пустую половину, – закричал Матвей, – а ее мосць займет вашу!
– Как бы не так! Вишь ты! Так-то легко и перебраться с детьми и пожитками, как тебе приказать… Пускай пани взойдет ко мне, а завтра кое-как уладимся.
Нечего было делать, надо было поместиться у торговки, оборванные дети которой, вытаращив глаза, выглядывали из-за углов на приезжих. Матвей, между тем, засветя с важностью сальный огарок, отправился на другую половину осматривать господские покои. Но в каком виде он нашел их! Выбитые окна, выломанные полы, сырые, покрытые плесенью стены, на потолке течь, печка в развалинах, а по сухим углам навалены мешки и всякая домашняя рухлядь. Другую комнату торговка обратила в чулан, а в третьей держала кур и свиней.
Напрасно она старалась оправдать себя, потому что Секиринская не слушала ее. Дорота была занята своим питомцем, а Матвей, возвратясь из осмотра и понюхав табаку, принялся читать торговке грозную проповедь, совершенно позабыв о лошадях.
На другой день наняли мастеровых для починки домика, а торговка начала перебираться к соседке, бранясь и проклиная нежданных гостей. Домик Секиринских стоял на высоком косогоре, окруженный небольшим садиком и невысоким забором. Он был об одной трубе и состоял из пяти комнаток и сеней. Вдова поселилась на первый раз в бывшем жилище торговки, а между тем, под руководством Матвея, отличного надзирателя за работниками, приводили в порядок другую половину, починяли кровлю, настилал! полы и подправляли стены.
При всей любви Матвея к его клячам, вдова принуждена была продать их тотчас, чтобы не тратиться на их прокорм. Не так-то легко было это сделать, потому что, кроме гнедой кобылы, остальные были никуда негодное старье; притом же Матвей соглашала уступить их не иначе, как за хорошую цену. Наконец, когда пришлось расстаться с ними поневоле, выбранил всех, потом дня две не переставал жаловаться на свою потерю.
Секиринская должна была тотчас истратить часть денег на починку домика, собранных перед выездом из деревни; а вырученные от продажи лошадей, разбитой таратайки и разных, менее нужных вещей, пошли на обзаведение разными домашними вещами, дороговизне которых Дорота не могла надивиться.
Несколько сот злотых составляли всю казну вдовы, но Дорота размышляла о том, чем им жить, осмотрела тотчас садик и, по дороговизне в городе овощей, рассчитала, что обрабатывание грядок и продажа капусты, свеклы и прочего будет им важным подспорьем для жизни. Матвей, не уступавший Дороте в привязанности к госпоже и желании помогать ей, расчистил для себя за конюшней кусок хорошо удобренной земли и принялся сеять табак, с намерением открыть у себя фабрику нюхательного табака в совершенной уверенности, что сбыт его будет огромен, лишь только жители Люблина узнают о его достоинствах.
Но Секиринская и не подумала о приобретении средств для жизни трудами своих рук – до того казалось ей это невозможным и неприличным. Она думала только о воспитании и будущности сына. Ее понятия о знатности рода Секиринских и об обязанностях дворянина были также странны, как и понятия покойного мужа, от которого она их восприняла. Он столько раз повторял ей на смертном одре, чтобы она воспитала сына сообразно с его происхождением; он так часто высказывал и прежде свое презрение к занятиям недворянским (какими, по его мнению, были ремесла и торговля), что вдове не пришло в голову трудиться самой или приучать сына работать собственными руками. Как ни велика была их бедность, как ни страшна была их будущность, но Секиринская воображала, что легко будет пристроить Собеслава где-нибудь при дворе магната, или в войске, или в каком-нибудь присутственном месте. Скоро, однако ж, пришлось расстаться ей с этими надеждами, потому что бедное дитя было слабого, нежного сложения, малого роста, худощаво, – словом, лишено тех свойств, какие требуются для воина, а медленная и с заиканием речь удаляла его и от судебного поприща. Но сердце матери еще долго противилось убеждениям действительности; она мечтала, что со временем он укрепится, вырастет и исправит свою речь.
Началась городская жизнь, полная забот о завтрашнем дне, постоянно угрожаемая недостатком, опиравшаяся единственно на промысел двух добрых слуг, которые лезли из кожи, чтобы своими трудами скрывать от госпожи бедственное состояние ее средств. На ее вопросы ей всегда отвечали, что доходов с огорода и сада довольно для домашних запасов; но какие надо было иметь слугам сердца, какое самопожертвование, чтобы, привыкнув прежде к городской жизни, добывать в ней средства к существованию и не сбиться с своей дороги порчею нравов, дурными знакомствами и тысячью других обстоятельств!..
Матвей, не дожидаясь пока вырастет на грядках его табак, начал покупать его на рынке. Он в совершенстве обладал искусством выбирать самый лучший и завел в сенях производство любимого своего порошка в большем, нежели когда-либо размере. Он был убежден, что если только городские охотники нюхать узнают его табак, который он называл «матвеичем», то у него будет довольно покупщиков, и он не замедлит составить для своей госпожи порядочный капиталец. Сперва это казалось очень легким делом, но, побродя по городу, он увидел, что там продавали множество разных сортов табака по весьма низкой цене. Правда, по мнению Матвея, щепотку его табака можно было ценить дороже фунта другого, и в каждом сорте он находил толченное стекло, золу, мелко нарезанную щетину и другие вредные для носа вещества, – но, тем не менее, конкурентов было множество, и трудно было приобрести перед ними первенство.
Уверенность в собственном достоинстве не допустила его, однако ж, упасть духом, и он засел молоть табак в огромной глиняной лохани, избрав себе позицию, выгодную тем, что Дорота часто должна была проходить мимо него и давала ему много случаев хорошенько побраниться. В антрактах он тешил себя монологами о свойствах табачных листьев и самого порошка и разговорами с самим собою, которые любил душевно и умел обращать в свою пользу. Так, например, засевши с утра над своею лоханью, приветствовал сам себя весело:
– Здравствуй, Матвей! Здравствуй! А что твой табак? Да вот мелется, добродзей. Мели, мели, только было бы кому нюхать. Об этом не беспокойтесь: лишь бы попробовали! А что это ты сегодня заспался? Заспался, а может быть и нет. Что тут толковать, я заспался. Разве уж и помолиться нельзя перед работою? Помолился Богу, следовало бы и позавтракать, да поди ты толкуй с этою егозою Доротою! У нее еще в печи холодно, у нее еще рано: а идя мимо, сама говорила, что долго сплю. Так бывало в Секиринках. Э, э, болтай, болтай, а табаку не три! Эх, голубчик, листочек, не крутись попусту ступай на дно, сотру тебя в порошок, хотя и не любо тебе. Ты, видно, какой-нибудь Вихула! Вот же тебе, вот, – и т. п.
Дорота, со своей стороны, разузнавши, чем живет торговка, занимавшая прежде половину их домика, не говоря ни слова госпоже, постаралась прежде всего о лавочке, накупила разных мелких вещиц и лакомств, и хоть ее журили, что она таскается беспрестанно по городу, но в торговые дни она проводила по несколько часов на рынке, продавая свои товары. Добываемый таким образом барыш шел на домашние потребности или, по крайней мере, на необходимейшие запасы для кухни.
Матвей, хотя с большим трудом, но успел-таки, прославить свой табак. Он был человек на все руки, как говаривал Корниковский; умел хвалить себя и свой табак и уверял, что в Мазовии его искусство пользовалось всеобщей известностью. Нашлись люди, которые этому поверили и начали покупать «матвеич». Старый возница насказывал им столько достоинств о своем зелье, что «матвеич» нравился иному поневоле; и хотя фабрикант не очень много добывал денег, по крайней мере, не ел даром хлеба и, сверх того, ожидал в будущем горы золота.
Любил старик помечтать. Бывало, сидя за работою и ворочая скалкою, как будто вместе с табачными листьями приводит в движение и свои мысли, начнет говорить себе сказки, как ребенок.
– Едет вельможный пан воевода шестиконною коляскою; за ними двор, слуги без числа. Едут, едут, а табаку в дорогу взять позабыли. А тут у пана воеводы нос отощал и даже скорчился. Ай, кто жив, кто в Бога верует, нюх табаку! Подходит кто-то и открывает табакерку. Воевода взял, потянул, отведал. «Ага, что за табак, наслаждение, блаженство! Откуда это вицпань достал такого табаку? – От Матвея это табак „матвеич“. – Ищите, зовите его! Матвей идет и только ус окручивает. „Извольте, пане воевода“. А тот ему горсть золота. Как тут и король узнает о „матвеиче“ и велит выслать его к себе. Деньги сыплются, сыплются, и я покупаю для паныча Секиринок, и на старости занимаю для себя комнату через сени и мелю ему табак, потому что разве не буду жив, а уж он у меня будет нюхать!
Так бредил Матвей, трудясь над табаком; а в комнате спокойно сидела вдова с сыном. Утром она ходит с ним в костел, наряжая его как можно лучше, хотя и сама была одета убого, как будто его служанка; днем учит читать его по катехизису, а вечером идет с ним гулять в сопровождении Матвея или Дороты. Когда же настанут сумерки, дитя садится за столом, а пани рассказывает ему историю о Секиринских, указывая на фамильные портреты и родословное дерево, и говорит, говорит до тех пор, пока не подадут ужин и дитя не начнет дремать.
Так с малолетства воспитывала она в нем дворянскую гордость и, повторяя все, что некогда скарбникович рассказывал с таким энтузиазмом, прививала в нем чувство собственного достоинства. По мнению бедной вдовы, не было в Польше семейства, не было высокого сана и должности, недоступных для Секиринских. В молодой голове гуляли уже гетманы, воеводы, каштеляны, и важные фигуры старых портретов снились ему не раз. Он видел, будто бы его берут за руку, ведут в великолепные чертоги, сажают высоко и осыпают золотом и почестями. Бедному мальчику грезилось, что его убожество и унижение не могут быть постоянны; что это только какое-то испытание, что выпадет какой-то случай, произойдет какое-то счастливое событие, которое выведет его из этого состояния – и он пробуждался с удивлением, что день за днем идут однообразно, что никто не приходит на помощь, что никто не прерывает печальной тишины, уединения и бедности. Мать поддерживала эти мечты, вспоминая часто о тяжбе с Лендскими, и хоть эта тяжба не двигалась вперед, по недостатку средств, но постоянно была какою-то звездою над головою ее сына. А сын между тем рос набожный, тихий, добрый, но до такой степени уверенный, что он переодетый королевич, как будто был им на самом деле. По вечерам он любил сидеть у колен матери и слушать ее бесконечные сказания о Секиринских, о их сражениях, об их обширных владениях, о милостях к ним короля, о почтении к ним дворянства, о богатстве, значении их в государстве; слушая все это, он думал: „и я буду таким“.
Матвей и Дорота, с своей стороны, набравшись повестей, которые в Секиринке с незапамятных времен были для всех насущною потребностью и обратились в народные предания, наперебой забивали мальчику голову знатностью его рода. Сверх того, и почтенный стольник Пурский, пан Петр Корниковский, некогда ближайший друг покойного скарбниковича, часто приезжая в Люблин и гостя у Секиринской по целым неделям, способствовал своими рассказами о старике к укоренению в молодой голове Собеслава мнения о высоком происхождении его семейства.
Собеслав имел в себе все фамильные черты своих предков. Он был небольшого роста, учтив, бел лицом, имел приятную улыбку, звучный голос, только немножко заикался, в чем маменька не только не видела недостатка, а напротив видела приятную особенность. Не будучи от природы проворен и развязен, он рано начал задумываться, и из его вопросов видно было, что он, подобно отцу, думает глубоко и понимает не хуже отца свое достоинство. Щедрый до расточительности, он готов был отдать нищему последнюю одежду, соболезновал до слез всякому горю, считал себя таким исключительным существом, что от соседских детей, заманивавших его в свои игры, убегал, как от огня. В доме он был более господином, нежели его мать; все ему служило, все повиновались ему, и воля Собеслава была законом. Так проходили годы. Собеслав ходил в иезуитское училище и выказывал некоторые успехи в науках. Сверх того, отец Ксаверий, учитель поэзии из сострадания к сироте, или из других видов приходил к нему на дом повторять уроки с ним и занимать его разговорами. Мать начала догадываться, что иезуиты завлекают ее сына в монашество, и до тех пор не успокоилась, пока Собеслав не объявил, что не чувствует ни малейшей склонности к духовному званию и не согласится ни в коем случае на убеждения своих наставников. К чему же чувствовал он склонность? Ему хотелось быть паном, а уж на худой конец зажиточным дворянином, владетелем деревни, помещиком, должностным человеком. Но как далеко до этого ему было! Матвей и Дорота едва добывали своими промыслами средства для жизни, да и то часто должны были сидеть на диете, за недостатком говядины. Великие расчеты Матвея на табак совсем не оправдались. Он все-таки приготовлял его по-прежнему, но большую часть его табака закупал стольник Пурский, а в городе только несколько купцов приучили к „матвеичу“ свои носы, находя его крепким и едким, как перец. Дороте посчастливилось несколько больше; но она с каждым днем становилась нужнее ослабевающей здоровьем госпоже и немного находила времени для производства торговли. Иногда Матвей занимал в лавочке ее место, но он так много болтал и бранился и так надоедал всем своим табаком, что у него немногие что-нибудь покупали.
Вдова, беспокоясь все более и более об участи сына, поручила, наконец, стольнику Пурскому окончательную сделку с наследниками Лендских касательно тяжбы и надеялась получить от них какую-нибудь сумму. Стольник Пурский, не без некоторой гордости, что столь великое дело зависит от его стараний, рассмотрел бумаги, посоветовался с адвокатами и отправился к Лен-дским. Сперва они обратили все в шутку, но потом изъявили готовность заплатить вдове три тысячи злотых в виде милостыни. Стольник рассердился и отвергнул предложение; но вдова, посоветовавшись с добрыми людьми и убедясь, что ей больше не получить, согласилась на мировую и за три тысячи. Так мечты о миллионах закончились ничтожной суммой; впрочем, и это было великой помощью беднякам. Капиталец был отдан в верные руки на проценты, что стольник Пурский выполнил со всею формальностью, и пани Секиринская, ослабевая с каждым днем, занималась уже только тем, чтобы внушать сыну дворянские чувства, о которых заповедал ей покойный муж на смертном одре.
Собеслав был полон таких странных понятий об обязанностях дворянина высокого происхождения, каким он почитал себя, что пан Корниковский видел в этом дело самой природы. Со слезами на глазах слушал он юношу, трактующего почти словами отца о роде Секиринских, и восхищался дивным возрождением отцовского духа в сыне; потом обнимал его с чувством и удалялся, полный отрадной мысли, что юноша, подающий такие блистательные надежды, не погибнет. Он предсказывал ему блестящую участь, и, по его мнению, не доставало только какого-нибудь случая, чтобы он вступил на предназначенную ему дорогу.
Случай этот, однако, не представлялся. На письма к далеким родственникам, которым вдова время от времени писала, получались в ответ отговорки, а часто одно молчание. Собеслав, между тем, рос быстро, и сердце матери билось тем неспокойнее, тем нетерпеливее, тем живее при мысли о его будущности, что она уже изнемогала от старости, уж не могла ходить в костел и большую часть времени проводила в креслах с молитвенником на коленях.
При жизни мужа она хлопотала об одном хозяйстве, будучи убеждена, что он лучше ее знает, как позаботиться о судьбе сына. Притом же, как ни убого жили они в деревне, но та жизнь была раем в сравнении с городскою. Теперь бедная вдова должна была нести все бремя забот, об устройстве будущности сына и, борясь с бедностью, отказывала себе во всем необходимом, чтобы только он не терпел недостатка. Все это быстро разрушило ее здоровье; открылись тяжкие болезни, она страдала постоянно, но из боязни опечалить сына скрывала свои страдания. С ангельскою кротостью переносила она свои бедствия и, сидя в креслах с молитвенником на коленях, молилась только о сыне. Смерть тем только и была страшна ей, что оставляла его одного на свете, посреди равнодушной толпы людей, которые толкают всякого, прокладывая себе дорогу, и если слабый падет, не слышат его стонов и попирают ногами. Все наследство Собеслава составляли его молодость, имя, домик, три тысячи злотых, а все его друзья были – Матвей, До-рота и стольник Корниковский, который тоже склонялся к могиле, седел и часто с улыбкой поговаривал, что ему пора уж к праотцам. Слуги сильно беспокоились о своей госпоже.
В таких обстоятельствах Собеслав достиг двадцати лет; но он не развился еще окончательно и не казался взрослым. Дорота пошла по бабкам спрашивать лекарств, делали припарки, пластыри, настойки, ванны, даже заговаривали болезнь, но ничего не помогало. Ему, по-видимому, было не более пятнадцати лет – так свежи были его розовые щеки, так невелик он был ростом, так мало было у него силы; но он казался скорее баричем, нежели сыном убогого шляхтича. Уединенный и робкий, он образовал в себе особенный характер, весь обращенный внутрь. Все, что было в нем, скрывалось от наблюдателя непроницаемо. Молчаливый, таинственный, избегавший дружеских отношений, хотя ласковый и добрый, он, казалось, боялся людей или считал их недостойными себя. Он ко всем был предупредительно учтив, никому не подавал повода к какому-нибудь неудовольствию, но ни с кем от сердца не сходился, никого не принимал близко к душе. Сверстники напрасно старались с ним сблизиться: он не отталкивал их, но холодно держал себя вдали и не открывал им ни своих мыслей, ни тайны своего положения в жизни.
Еще в иезуитском училище молодежь называла его холодным и бездушным человеком, и только старшие и проницательнейшие из учителей видели в нем умение владеть собою и сильное самолюбие, которыми они могли бы хорошо воспользоваться, если бы он согласился вступить в их орден. Но Собеслав искусно уклонялся от их убеждений, не отказываясь наотрез и не обещая, а откладывая до некоторого времени. Тогдашнее воспитание не слишком развивало человека и мало приготовляло его к жизни. Высшею школою науки жить была тогда для юноши служба при дворе какого-нибудь магната, в войске или в присутственном месте. Однако сирота наш не без пользы посещал училище иезуитов: он порядочно научился по-латыни, так что и самого стольника Пурского удивлял своими отборными фразами, которые кстати вплетал тогда в разговор по обычаю тогдашних образованных людей; познал немножко и других наук; но всего больше достиг успехов в математике и умел вести расчеты с необычайной быстротой.
В домашней жизни он обходился искренно только с одной матерью, тем более, что она никогда не пыталась заглядывать в глубину его сердца; с прочими он вел себя приятельски, но холодно. К стольнику Пурскому был почтителен, но не допускал его в тайник своей души и третировал старого друга немного свысока. До-рота и Матвей, взлелеявшие и вырастившие его своими трудами считали его восьмым чудом света, а его важность и умеренность в разговорах с ними возбуждала в них какое-то боязливое к нему почтение. Они посматривали на него вполглаза, украдкой и только удивлялись ему.
– Что это будет за человек, – говаривала Дорота. – А, а, далеко пойдет он, выше отца! Хотя точь в точь такой же молчаливый, как и покойник был, зато как заговорит – есть чего послушать!
Матвей, напротив, ставил ему в недостаток, что он так мало говорит, особенно с ним.
– Я люблю его, – шептал он Дороте, трудясь в поте лица над табаком. – Добрый паныч, да зачем он такой молчанка, как будто ему кто рот замазал? Нет, и покойник не щедр был на слова, это правда, царство ему небесное, но все-таки, как придет человек и начнет его подстрекать на разговор, то и отзовется и поболтает, да и моей болтовни иногда послушает. А паныч – повернется, усмехнется: „Хорошо, хорошо, Матвей“, и прощай. Как бы я ни заступил ему дорогу, найдет, куда ему увильнуть. Эх, жаль! Все-таки мог бы узнать от меня что-нибудь доброе и посоветоваться. Его мосць, бывало, в дороге, как едем по песку, так и о тяжбе со мной разговорится. И то худо, что табаку не понюхает, затем так и худощав.
Тем не менее Матвей любил своего паныча.
В таком положении были дела, когда в одно утро приехал довольно неожиданно пан стольник Пурский. Старик, встреченный на дворе Матвеичем, который тотчас попотчевал его табачком, медленно приближался к крылечку, волоча ноги, опираясь на палку и на Матвея и расспрашивая его о господах.
– Ну, каково поживаете, каково вашей пани?
– Да что, сидит, пане стольник, в кресле; и в костел нет сил дотащиться; молится, да охает. Старость не радость. Да и вы что-то ногами шаркаете.
– Это они у меня по дороге что-то сомлели.
– Эге, вот и у меня не знаю, от чего начали млеть ноги. А прежде, бывало…
– А что паныч ваш?
– Здоров, слава Богу, и румян; только деликатный, как панна. Такой уж породы, видно. Ходит все еще к отцам иезуитам, только не знаю зачем. Чему ему там еще учиться! Вот, если бы к какому пану на двор…
– Не по нем такая служба, Матвей: там иной раз надо потерпеть и холоду и голоду, а иногда под сердитый час и батогами попотчуют, не с его натурою…
– Это правда, – сказал Матвей, – вот, если бы нюхал табак, так больше было бы силы. Но что с ним сделаешь, когда меня не слушается…
Стольник рассмеялся и вошел к вдове с низким поклоном и готовою шуткою, какие он любил отпускать иногда уже слишком запросто. Но, взглянув на Секиринскую, прикусил язык – так она переменилась, так была бледна, так тяжело дышала. Он положил палку с шапкою в угол и, шаркая от дряхлости ногами, подошел к ее креслам.
– Ну, что, мосци добродзейко, как ваше здоровье?
– Как видишь, не лучше, пан стольник: кажется, что не надолго потянет; ноги не служат, в груди так трудно, что и лечь нельзя; только что живу и дышу.
– Ас доктором посоветоваться?
– Напрасный труд, пан Петр, напрасный труд! Что Бог предназначил, того не переиначит никакой доктор. Кажется, что пришла пора отдохнуть.
– Э, фе-фе! Не хочу я этого слушать и не затем приехал я, чтобы меня потчевали такими пустяками. Поговорим о чем-нибудь другом… Что Собеслав?
– Все тот же несравненный, милый мальчик.
– Ходит в училище?
– Ходит, потому что больше нечего делать. Хотела его к суду пристроить, так боится товарищей, которые всякого чем-нибудь преследуют.
– К чему же у него есть охота, как вам кажется?
– Я думаю, разве к хозяйству. Это врожденно дворянину. Но на чем хозяйничать? Разве за эти три тысячи взять где-нибудь подле нас, пан стольник, аренду?
– Тяжело, тяжело! Но, впрочем, об этом поговорим. Почему же и не так, лишь бы удалось приискать.
– А что о Секиринке слышно? – спросила тихо вдова.
– Что? Там уже молодой Вихула распоряжается и бушует, как в омуте черт. Не в свою меру гуляет. Не надолго ему хватит!
Старушка вздохнула. Стольник покрутил ус, поправил полы у кунтуша и опять вздохнул. Перемена лица и голоса вдовы сильно его поразила; он удивлялся, что не искали средств от такой явной болезни, и лишь только воротился домой Собеслав, он тотчас отвел его в сторону и начал говорить о докторе. Сын отвечал, что мать на это не соглашается, а вдова, вслушавшись в их разговор, или, может быть, догадавшись, о чем они трактуют, прервала его словами.
– Я знаю, о чем вы говорите. Я уже сказала, что это будет напрасно. Сами увидите, что мне совсем не нужно лекаря.
В самом деле, когда на другой день утром открыли в ее комнате ставни, ее нашли на постели мертвою с четками в руках.
Велика была горесть слуг, сына и друга. Дорота задыхалась от рыданий, а Матвей молчал как дерево, что у него было признаком величайшей скорби. Собеслав молился, стоя на коленях у постели.
После похорон Секиринской, пан Корниковский оставался еще несколько дней в городе, чтобы утешать осиротевших слуг и сына и потолковать с ним о дальнейшей его жизни, но едва через неделю мог добиться от него несколько слов. Собеслав, не отвечая прямо на его вопросы, просил его только возвратить отданные на проценты три тысячи злотых.
– Что же, например, ты предпримешь?
– Еще не знаю сам, – отвечал Собеслав, – но надо что-нибудь делать.
– Но, ведь это, милый Собеслав, последнее твое состояние.
– Знаю, пан стольник, но надо что-нибудь делать.
– Что же, например, ты предпримешь?
– Сам не знаю, время покажет. Только я хочу иметь деньги в руках.
– На это твоя воля. Не хочешь сказать мне, я не прошу, хотя старый друг твоего отца и твой опекун имел бы, кажется, право. Но… как угодно.
Немного обиженный, пан Корниковский допил стоящую перед ним рюмку вина и отправился в доминиканский монастырь, любимое место его молитв. Возвратясь, он опять приступил к Собеславу, но ни в этот, ни на другой день не узнал от него тайны, если она была в самом деле. Собеслав думал, ходя по комнате, и на все убеждения стольника отвечал, что не предпринял еще ничего решительного.
По смерти Секиринской, жизнь в домике очень переменилась. Правда, Матвей и Дорота были главными хозяевами, но не с кем им было обменяться словами, потому что Собеслав оставался по целым дням один и, подобно своему покойному отцу, молча ходил взад и вперед по комнате. На вопросы он не отвечал, и ни разу ни о чем не завел со слугами речи. Бедняжки должны были между собою потихоньку охать и горевать, пробавляться воспоминаниями прошедшего и утешать себя тем, что и их конец недалеко.
Когда уехал стольник, Собеслав начал реже и реже оставаться дома; уходил с утра, возвращался на минуту чего-нибудь поесть и опять до ночи его не было. Матвей сильно беспокоился и мучился любопытством, но его старые ноги отказывались следить за панычем. Что же касается Дороты, то она не хотела и проникать в тайну прогулок Собеслава, будучи убеждена, что все будет хорошо, что бы он ни делал.
А Собеслав бродил без всякой цели по многолюдному в то время Люблину и в общем движении, шуме и говоре искал облегчения тяготившей его грусти. Он заходил помолиться в костелы, слушал на суде адвокатов, зевал на депутатские коляски, на дома богачей, потом опять углублялся в тесные и неопрятные жидовские улицы и иногда вырывался даже за город. Правда, мысль его редко останавливалась на видимых предметах, еще реже билось у него сердце, но глаза были заняты, и тоска уменьшалась.
Часто он встречался с многочисленною толпой люблинской молодежи, но умел учтиво от нее отделаться. Любимейшей его прогулкой было – пробежать краковское предместье, пройти старые ворота, потом, минуя ратушу, спуститься в бедную часть города и выйти в поле, на возвышения, с которых открывались широкие виды замка, города и монастырей. Лежа на траве, он по целым часам смотрел на Люблин и думал, сам хорошенько не зная и не понимая о чем. Не раз мысль о самом себе наполняла его душу грустью. Он чувствовал себя чем-то выше других и между тем был так мал, так ничтожен, так никому не нужен в этой толпе горожан, что если бы его раздавили экипажи, то и никто бы не знал, кто погиб. И если бы он погиб, то это не было бы и замечено в городе, потому что никому не было до него надобности, кроме Матвея и Дороты.
Вслед за такими мыслями, как будто для того, чтобы еще глубже почувствовать свое горе, он начинал думать о минувшем величии своих предков, об их богатстве, их знатности и спрашивал сам себя: „Неужели эта бедность заслужена моим родом? Неужели нет средства выйти из нее?“
Однажды, когда он сидел в тягостном раздумье на любимом своем месте, он заметил подходящего к нему человека довольно забавной наружности: низенького, толстого, румяного, с усами, посеребренными сединою, в кунтуше из тонкого зеленого сукна, обложенного куньим мехом – дело было осенью – и с палкой, украшенной золотым набалдашником, которую он держал в руках за спиной. Незнакомец подходил медленно, делая повороты и слегка покашливая, как бы для того, чтобы обратить на себя внимание молодого человека. В глазах у него сверкали житейская смышленость и любопытство, но по всем его приемам видно было, что он не смел прямо обратиться с вопросом к Собеславу и искал благовидного предлога к разговору. Подойдя к нему довольно близко, он остановился, посмотрел с легкою улыбкою на город, сделал еще один шаг вперед и, видя, что молодой человек не удаляется от него, начал так:
– Правда, пане, что отсюда прекрасный вид на ваш городишко?
Церемонию, с которою приближался старичок, можно было объяснить разве горделивою наружностью Собеслава, его задумчивым видом и траурным костюмом, сшитым очень ловко из тонкого сукна, так что молодой человек казался гораздо богаче, нежели был на самом деле, а богатство, известно всякому, какое производит на людей впечатление.
Собеслав на вопрос старичка приподнялся немного с своего места и, может быть довольный случаем поговорить, отвечал:
– В самом деле прекрасный вид.
– Особенно для меня, – сказал господин в меховом кунтуше. – Я уже стар, утомлен жизнью, пора отдохнуть и это моя родина; но молодому, как вы, пан добродзей, и, конечно, нездешнему…
– Я не могу называться нездешним, потому что с детства живу в Люблине.
– Я и сам тут родился, – продолжал старичок, садясь в некотором отдалении подле молодого человека. – Приятно мне, глядя с горы на этот город, вспоминать, сколько пережил я на своем веку и бедности, и болезней.
Собеслав бросил быстрый взгляд на богато одетого румяного старичка, как бы удивляясь, что и он говорит о бедности. Тот разгадал смысл его взгляда и прибавил:








