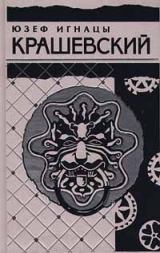
Текст книги "Последний из Секиринских"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Крашевский Иосиф Игнатий
Последний из Секиринских
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Необходимо знать, что род Секиринских, подобно другим польским дворянским родам, восходит, если не родословной), то гербом, к XI веку. Но, к удивлению моему, геральдикам нашим этот герб был неизвестен, потому ли, что его легко было смешать с другими гербами, или же потому, что одни только Секиринские его употребляли. Он состоял из топора на красном поле, простого топора, какими теперь рубят дрова, орудия, впрочем, очень древнего, как видно из того, что в тысячелетних могилах находят, если не железные, то каменные топоры.
Не могу ничем другим объяснить горькой обиды, нанесенной геральдиками этой достопочтенной и древней фамилии, как только ее размножением и следствием размножения бедностью; а, может быть, тут замешалась какая-нибудь особенная неприязнь к ней. Как бы то ни было, только я знаю, наверное, от покойника Петра Корниковского, стольника Пурского, что Секиринские не без основания считали себя едва ли не старшим дворянским родом в Польше и ценили выше, чем кто-либо свой позабытый герб. Они утверждали, что предок их, Собеслав Секира, получил в свой герб секиру в кровавом поле от короля Болеслава Великого за защиту его особы от чехов. Он основал на пожалованных ему землях местечко Секирин и, сверх того, пятьдесят деревень, населенных разноплеменными пленниками. Тот же покойный Петр Корниковский, стольник Пурский, пользуясь особенным расположением Лонгина Секиринского, слышал от него самого, что род их пользовался некогда даже княжеским титулом, – но впоследствии, при раздроблении имения, добровольно его оставил.
Несмотря, однако, на свою бедность, Секиринские заботливо сохраняли предание о своем происхождении и питали соответственную тому гордость. Стольник Пурский видал в их доме сильно закоптелое генеалогическое дерево, которое представляло вырастающий из лядвеи лежащего в латах с секирою в руке рыцаря дуб (символ долговечности), усыпанный бесчисленными именами Секиринских. Между этими именами некоторые прославились такими подвигами, о которых сама история не знает, и никто не перечел бы всех булав, печатей, мирт и других принадлежностей знаменитости, украшавших родословное дерево Секиринских.
Однако по закону общей превратности дел человеческих род этот, предоставляя обществу целую толпу доблестных мужей и плодовитых жен уже в XIV веке начал, видимо, клониться к упадку, так что ни великолепие генеалогического дерева, ни усилия его членов не могли возвысить его. Почтенные Секиринские знали недолговечность счастья и предавали себя воле Божией, но тем не менее действовали для сохранения своей прежней славы. Напрасно! Как спускающаяся с горы телега сперва ползет потихоньку, а потом, чем далее, катится быстрее и быстрее, наконец летит отчаянно и разбивается о камни – так и величие, слава, значение доблестного дома неудержимо рухнули, по общей судьбе всего временного и преходящего.
Судьба как будто смеялась над падающими Секиринскими. Сперва они размножились чрезвычайно, особенно по женской линии, которая разнесла родовое имущество по разным, только что возникавшим из мрака неизвестности, домам; а потом, через несколько поколений, все Секиринские оказались только в лице одного представителя, пана скарбниковича Черского, Лонгина Секиринского. Горько было это пану Лонгину, но он утешал себя надеждою на славное потомство и воспоминанием миновавшего величия. Часто покойник говаривал стольнику Пурскому: «Пали царства Ассирийское, Вавилонское, пали Тир и Сидон, Пальмира и Троя, почему бы вашему роду не подвергнуться участи всего великого?» – и произносил это (по словам покойного стольника) с таким убеждением, с такою важностью, с таким величием, что часто и сам пан Корниковский – особенно когда бывал не в духе – заливался слезами. Нужно же было судьбе еще устроить так, чтобы Секиринские заранее вкусили горечь могильного забвения: их давнее величие забыли почти все; мало того, оно сделалось предметом шуток, и дворяне самого недавнего происхождения считали себя гораздо важнее Секиринских, к крайней их досаде.
Один из таких господ, сосед последнего представителя исчезнувшей знатности, некто Вихула, в противность всякой учтивости, нахально занимал выше их место в костеле, на сеймиках и на дворянских съездах. Пан скарбникович терпел все это великодушно, как будто не замечая, чтобы не заводить ссоры с ничтожным шляхтичем; но до какой степени это было ему больно, не раз высказывал наедине пану Корниковскому.
– Смотри, друг, – говаривал он, – не извращение ли это света, чтобы Вихуле, который прапрадеда моего не знал, мог первенствовать передо мною, потомком гетманов, сенаторов! Но таков, видно, порядок вещей на земле, и язычник Гораций не раз намекал на это в своих стихах.
На такие жалобы пан Корниковский отвечал успокоительными, беседами о бренности всего земного и часто по целым вечерам; слушал предания о листьях описанного мною дерева, которое висело в столовой. Рассказчик возводил свой род выше времен Болеслава Великого, однако это не услаждало горькой истины, что; дед его владел одною деревушкою Секиринских – «Секиринском», названною, как он говорил, по имени их старинного города Секирина, а сам он – уже только частью этой деревушки. Но, беднея все более и более с каждым поколением, Секиринские женились не иначе, как на девицах старинных фамилий и предпочитали чистоту дворянской крови приданому. Вследствие этой мудрой родовой политики и пан скарбникович Черский Лонгин Секиринский, сочетался браком с убогой девицей Кунигундою Плецкою, предки которой были, как он слыхал, в родстве с Ягеллонами.
Жил он тогда в старом наследственном доме, который, по словам пана Корниковского, лет уже двести подпирали, обшивали, надстраивали, перекрывали и обмазывали глиной. Я сам видел этот дом и могу судить о его древности. Это была хоромина, вошедшая в землю, так что в сени входили по двум или трем ступенькам, как в подвал. Окна едва ли на четверть аршина были выше почвы, а огромная украшенная шпицами кровля издали была заметнее самих стен. Окружавшие его со всех сторон пристройки и подпорки придавали ему вид согнутого тяжестью лет старика, развалившегося в креслах посреди своих внуков. Кровля была некогда двускатная и деревянная, но потом оделась смиренною соломой, по которой почти сплошь проступил мох, и так сгорбилась, перекосилась, осела, а местами совсем разрушилась, что казалось чудом, каким образом она еще держится на этом строении. Кровельные окна со своими резными деревянными фронтисписами давно потеряли отвесные линии; одни из них как будто кланялись проходящим, а другие ложились на спину. Ни одна дверь не запиралась плотно и без труда; некоторые должны были каждое лето подрезать, а к другим приделывать куски свежего дерева. Полы так странно гнулись под ногами, как будто мастер сделал их на пружинах, к ужасу гостей. Старые, огромные изразцовые печи, починенные и залатанные сто раз кирпичом и глиною, потеряли также свои первобытные формы и нажили горбы. Но зато как пышно разрослись вокруг дома раскидистые липы, ели, яблони и груши! Какая была тень в саду!
Внутри дома, мрачного от окружающих его деревьев и кустарников, от низких стен, каждого входящего поражал запах разрушения.
За каждым проходившим по комнатам тянулось эхо, передразнивая стук шагов его и с сатанинскою резвостью разнося этот печальный стук по разным углам дома. Ветер беспрестанно свистел в трубах и стонал в печах; при каждом его порыве звенели в окнах стекла, а в бурю весь дом трепетал, как бы боясь обрушиться. В обширных сенях, оставшихся еще с того времени, когда паны приезжали сюда в гости с толпами помещавшихся здесь слуг, стояли какие-то пустые обломанные сундуки, битая домашняя посуда, висели лохмотья размалеванного полотна, и серые, хромые ширмы напрасно расширяли свои полы, чтобы закрыть все это от взора входящего. В первой комнате налево, некогда самой парадной, мыши оттянули вниз своими гнездами на потолке полотно и превратили его в безобразные висячие мешки. В двух или трех местах оно совсем прорвалось, и черные дыры казались глазами, заглядывающими с любопытством в пустую комнату. Одно разбитое окно вечно было закрыто ставнею, и сквозь ее сердечко болезненно пробивались лучи света; другое более уцелевшее состояло из небольших стекол, матовых, побелевших и как будто закрашенных мутною краскою. Софа, шаткий стол и несколько стульев разной величины и формы стояли в комнате беспорядочно, безжизненно, бессвязно. В старом, заделанном кирпичом камине стояли бочонок с уксусом и бутылка, заткнутая бумагой. В углу, у двери, торчал старый шкап с отворенными дверцами, обнаруживавшими голодную и запачканную внутренность, где на одной полке валялась разбитая тарелка. Паук затянул паутиною все углы комнаты, а мыши хозяйничали везде, перебегая среди бела дня от дыры к дыре. На стене висело на длинном шнурке огромное родословное дерево в черных рамах, но и оно висело криво, как бы готовое всякую минуту оборваться и упасть. Из всей его живописи видно было только несколько более ярких частей лежащего рыцаря, остальное было густо затушевано трудами мух и пылью. Два или три портрета предков, еще не разорванных и потому не вынесенных в сени за ширмы, с подбритыми чупринами, с важными лицами, с упертыми в бока или оружие руками, удивлялись окружающим их беднякам. По их толстым лицам видно было, что они жили в лучшие времена и вели жизнь привольную. Особенно один из них, которому пятно возле губ придавало насмешливый, бросающийся в глаза вид, словно готов был выскочить из рамы и закричать: «Как вы смеете быть бедными, мои потомки». Другой, с нахмуренной, величавой физиономией, казалось, размышлял как пособить горю.
Что же сказать о других комнатах, если такова была самая парадная? Из всего обширного дома пан скарбникович Черский с женою, сыном и немногочисленною челядью занимал только три или четыре; остальные служили для склада вещей, которых не стоило уже труда складывать, для курятников, для хранения дров и для обиталища привидений, которые по ночам делали осмотр предкам к беспокойству хозяев и слуг. Везде господствовали также бедность, то же разрушение и запустение. Самая уютная комната в доме обязана была своим достоинством расположению в ту сторону, откуда меньше всего дул ветер, заслонявшим ее деревьям и тому еще, что она глубже других вошла в землю. Не дай Бог проливного дождя! Тогда не было в доме угла, где бы не нужно было подставлять мисок, кувшинов и ушатов, а из сеней зачастую отливали набежавшую со двора воду.
Таково-то было жилище пана Лонгина Секиринского, над убожеством и гордостью которого осмелился подсмеиваться пан Вихула, владетель части деревни Секирника, межевой сосед и потому враг наследника старинных обладателей этого имения. Но никакие шутки и насмешки в свете не могли смирить человека, столь уверенного в своей знатности и столь глубоко проникнутого наследственною гордостью, как пан скарбникович Черский. В крови Секиринских это сознание собственного достоинства было, можно сказать, природное, усиливающееся еще более от выбора невест из древних дворянских фамилий и возраставшее по мере того, как родовое их имение более и более уменьшалось.
Скорбникович, самый бедный в своем роду, не уступил бы первенства ни одному из Любомирских и Потоцких, а не только новейшим дворянам в Литве и на Руси. Он говорил с улыбкою, что у Чарторыйских две генеалогии, а это все равно что ни одной; да наконец, что это за дворянство или княжество, которое не может сказать о себе ничего выше XIII века? Над Понятовскими он смеялся вместе с Радзивиллом, но не щадил и самого Радзивилла, особенно с того времени, как прочитал в летописи Стрыйковского о происхождении его от Лездейки. Этого было для пана Лонгина достаточно, чтобы поместить его в разряд обыкновенных дворян.
Немного было фамилий, за которыми бы он признал достоинство высокого происхождения, все же сделавшиеся известными с XIV века он называл новыми. Впрочем, для мелкой убогой шляхты он охотно отыскивал происхождение предков и гербы, но зато к знатным господам был безжалостен, всякий раз пожимал плечами, когда заходила о них речь. «Все эти люди, – говорил он, – взялись Бог знает откуда; лучшие роды обеднели, вымерли»… и качал головою и надувал нижнюю губу, ходя взад и вперед с заложенными назад руками по скрипучему полу самой большой своей комнаты.
Скарбникович был, очевидно, глубокомысленный человек, потому что всю жизнь проводил в размышлении: он ничего не делал, а только думал и думал. Сама его наружность показывала в нем мыслителя. Он был высокого роста, широкоплеч, воеводской толщины, не тучный, но умеренно округленный. Продолговатая, украшенная возвышенным лбом голова его покоилась на длинной шее и всегда была откинута несколько назад и к правому плечу. Глаза его прикрывались выпуклыми веками с длинными ресницами, нижняя губа всегда выдавалась вперед, особенно когда он бывал чем-нибудь взволнован и чувствовал сильнее обыкновенного. По фамильным портретам можно было увидеть, что и предки его имели те же самые черты, перешедшие к нему по наследству. Длинные усы, резко выделявшиеся на выбритой физиономии, висели над круглым его подбородком, как ветки березы над холмом. Речь его была медленна, уверенна, полна сентенций, порою немного ироническая, но всегда проникнутая чувством достоинства; взгляды – с высоты вниз, долгие, походка неторопливая и величественная; руки всегда были заложены назад. Что касается характера, то ни в чем нельзя было упрекнуть его: он был учтив до чрезвычайности, добр и благороден даже чересчур и терпелив на обиды. Два только и было у него недостатка – необыкновенная гордость и излишество мыслей при недостатке трудолюбия. Больше всего любил он, ходя по комнате, цедить по одному слову сквозь зубы, или, оставшись наедине, сам с собою думать и думать. Иногда приходили ему в голову самые счастливые предприятия, но исполнение их он откладывал со дня на день, медлил, медлил, ничего не начинал, потому что начинать было наконец поздно. Тогда перенеся великодушно duram adversitatem, как говорил он, вздыхал и думал снова спокойно, молча, величаво, как будто ничего не потерял, и, что еще более, как будто сам ни мало не был причиною своей потери.
В нем виден был, хоть и обедневший, но все же богатых предков потомок. Он возбуждал к себе почтение, неразлучное, правда, с сожалением; а злые люди, зная его слабость, часто пользовались ей. Гордый от природы, он никогда не давал милостыни по своему состоянию, и вменял себе в обязанность сыпать ее великодушно, хотя нельзя сказать, чтобы сердце его не принимало в этом участия, – потому, что он был добр и сострадателен. Бедность свою он закрывал и замазывал сколько был в силах, потому что, нося столь славное имя, стыдился ее, как нельзя больше; но так как ему все-таки было нечем скрасить свою голь, то он употреблял в дело свою гордость, которою покрывался, как золотою мантией. Надо было видеть, как он в своем вытертом кунтуше ехал в костел парою хромых и кривых кляч, пойманных на лугу и впряженных веревками и лыками в разбитую таратайку; можно было подумать, что едет магнат в позолоченной коляске – так высоко и величаво возносил он чело свое. А когда он входил в костел и подвигался вперед к первой скамье, едва удостаивая взглядом прочих прихожан, то даже злобный Вихула давал ему дорогу.
Сама ее мосць {Ее милость.} Кунигунда, урожденная Плецкая, выросшая в соседстве и знавшая по преданию о знатности рода Секиринских, считала необыкновенным счастьем, что, выйдя за пана Лонгина, носила это имя и взирала на мужа, как на некое высшее существо. Она брала на себя все тягости в жизни и предоставляла ему самое приятное. Заботы о здоровье, доходах, выгодах, спокойствии безценного Лонгина наполняли все ее время. Тихая, набожная, робкая, преданная, она дрожала при малейшем знаке его нетерпения и считала величайшим счастьем, если ему было угодно подарить ее улыбкою или подольше поговорить с нею. Она в тишине боролась с бедностью, отказывая себе во всем, работая, промышляя, – но к чему все это служило, когда плоды ее тяжких трудов уничтожались одним приемом гостей! Она не роптала, видя растраченным то, что она собирала с долгими хлопотами, но с ангельским терпением начинала хлопотать снова.
Между тем жизнь в Секиринцах становилась с каждым днем труднее. Вихула, которого скарбникович не хотел поставить на одной доске с собою, пылая мщением, с каждым часом надоедал более соседу, с каждым днем изобретал новые козни, и тем успешнее приводил их в исполнение, что земля его была отделена от земли Секиринских только межею.
Секиринский защищался от него с некоторым презрением, как будто от назойливой мухи или пискливого комара, которые не стоят и досады. Это величие души всего больше выводило из терпения шляхтича; он сжимал кулаки, топал ногами и клялся, что сбавит гордости соседу, хоть бы пришлось самому пойти по миру или сидеть в остроге. Это значило, что он не боится ни издержек, ни личной ответственности.
Скарбникович на эти угрозы, передаваемые ему приближенными, отвечал гордым молчание. Сколько раз приходский священник, почтенный старец, желавший жить с обоими в мире, пытался примирить между собою соседей. Напрасно. Вихула без обиняков отвечал: «Знать не хочу я того голыша». А Секиринский самым холодным тоном говорил: «Я не сержусь на него, но дружить с ним не хочу».
И на другой день пойманные в пшенице гуси Вихулы висели на высоких жердях, а откормленный боров пани Кунигунды, пойманный, видно, на улице, лежал убитый над дорогою возле проса. Наконец, завязалась грязная и скучная тяжба.
Вихула, отец которого нажился, служа у какого-то богатого пана, зажиточный, деятельный, скупой, болтливый, недалекого ума, но ловкий в мелких делах житейских, стоил многих слез пани Секиринской. Она рада была бы от всей души примириться, но смела ли она предложить это мужу? «Он знает лучше, что делает, – говорила она, – и неужели должен поклоняться и уступить ничтожному шляхтичу». Итак, играя в ту же игру, она, со своей стороны, не уступала места жене Вихулы ни на процессии, ни в костеле, ни при встрече у соседей и, будучи самой кроткой женщиной, должна была, в угоду мужу, поднимать нос кверху.
В таком положении и были дела, когда Бог дал пану Секиринскому сына, к великой радости отца, который боялся, чтобы с ним не прервался славный род его, и молился всем чудотворным образам о ниспослании ему наследника, несмотря на то, что этот наследник мог не получить по его смерти ничего, кроме бедности и горя.
Сколько радости было в Секиринке! Сама пани, беспрестанно молившаяся об исполнении пламенного желания мужа, так была поражена своим счастьем, что занемогла. А скарбникович бегал, как сумасшедший по пустым комнатам и повторял самому себе, портретам и шатающимся столам: «Сын, слава Богу! Сын!» И тут же определил, не соображаясь с карманом и кладовою, о которых всего реже он думал, праздновать пышными крестинами явление на свет потомка древнего рода. Он бы желал созвать к себе все Дворянство на несколько миль кругом, но этому ясно препятствовал пустой кошелек, ничтожные домашние запасы и жалкое состояние погреба; а кредита он давно уже не имел ни у кого, при всей своей учтивости и красноречии. Все знали, что в случае его смерти, имения его не хватит на уплату долгов. Это, однако же, не удержало его от великих приготовлений и приглашения всех знакомых на крестины.
Кунуся (так звал он жену) плакала, лежа в постели, при мысли о разорении, предстоящем ее хозяйству от этих великолепных крестин, но, как всегда, не смела противиться воле своего мужа.
Приходский священник, узнав о радостном событии в семействе Секиринских, поспешил к нему тотчас, надеясь воспользоваться случаем для примирения его с Вихулою. Вихула на эту пору стоял в воротах своего дома, опершись спиной о столб, засунув руки за пояс, заложа ногу на ногу и беспечно посвистывая. В таком занятии он привык проводить целые дни. Нельзя было похвалить его наружности: небольшого роста, коренастый, довольно тучный, более широкий, нежели длинный, с черными взъерошенными волосами, которыми зарос почти весь лоб его, с волчьими, глубоко сидящими во лбу глазами, он почти всегда злобно усмехался. Брань и насилие были у него нипочем; он не щадил даже своих приятелей, а дома, начиная от жены, с которою бранился беспрестанно, до последнего работника, не было человека, которому бы от него не досталось каждый день. Жизнь Вихулы проходила в перебранках и побоях, это была его стихия.
Священник, подойдя, поклонился Вихуле и с ласковой улыбкой, которая у этого доброго человека почти никогда не сходила с уст, пожелал ему доброго дня.
– А, добрый день, мосце-дзею, – отвечал он. – А куда это?
– К Секиринским.
– Как и всегда. А ко мне и не заглянешь. Неужели их заплесневелый хлеб вкуснее моего?
– Во-первых, – сказал священник, остановясь, – ты знаешь, пан, что я, благодаря Бога, никуда ради хлеба не хожу; есть у меня свой кусок; а во-вторых, скажу прямо, что хожу туда, где меня ласково принимают.
– Знаю, знаю, мосце-дзею, – возразил Вихула, – знаю давно, что я не пользуюсь твоею благосклонностью, а тот голыш тебе как нельзя более по сердцу. Что делать, не повеситься же с отчаяния!
– Если хочешь знать правду, – сказал с живостью священник, – то услышишь ее сейчас. Когда я прихожу туда, то не встречают меня у дверей жестокими словами и угрозами, которых у тебя всегда полон рот; там люди живут с Богом.
– А я так без Бога, мосце-дзею?
– Я тебя не упрекаю, – заключил священник, понюхав табачку, – но у тебя всегда гнев в сердце, и это худо.
– Зачем же меня раздражают, зачем выводят меня из терпения?
– А сам ты, пан, хорош?
– Кто же зачинщик? Не я.
– И что долго толковать? К чему напрасно разбирать кто прав, кто виноват? Бог дал Секиринским сына – примириться бы вам. Сделай только один шаг к миру.
– Я, – воскликнул Вихула: – я? Чтобы я уступил этому голышу? Скорее, мосце-дзею, земля подо мною провалится. Нет, уж этому-то не бывать!..
И сказав это, метнулся в сторону, как раненый вепрь.
Что после этого оставалось говорить? Священник покачал головою и пошел к скарбниковичу. Он застал его расхаживающего, как и всегда, большими шагами по первой комнате, с поднятою вверх головой, с одной рукой за поясом, с другой заложенной назад и с улыбающейся физиономией.
– А, а, – сказал он, разменявшись приветствиями, – знаете ли важную новость? Бог дал мне сына! Я думаю о том, какое бы дать ему имя. Вы пришли как раз вовремя!
– Поздравляю и желаю от всего сердца счастья всему вашему дому, как истинный ваш богомолец!
Скарбникович поклонился.
– Благословение Господне, – заключил священник, – подобает ознаменовать добрым делом.
– Крестины будут торжественные.
– Не о крестинах речь, добрейший скарбникович; а если бы ты во имя Божие помирился с Вихулою, так была бы на небесах великая радость, да и вам было бы лучше.
Лицо Секиринского омрачилось, и он молчал.
– Если бы этак, по-братски… – продолжал священник.
– Как это по-братски? – прервал его обиженный хозяин.
– А разве мы не все во Христе братья?
– Не я с ним ссорюсь, – сказал Секиринский, – а он со мной. А впрочем, батюшка, он для меня человек не важный, и дружить с ним я никогда не намерен и не буду.
– Почему?
– Да потому, если сказать правду, что пускай он ищет равных себе.
– О, гордость, гордость! Скарбникович, это не христианское чувство. Предать бы все забвению!
– Гордость, не гордость, а должен человек понимать свое достоинство.
– Он такой же дворянин, как и вы, – сказал неосторожно священник.
При этих словах Секиринский отскочил назад, как будто его обварили кипятком, закусил губы, посмотрел сверху вниз и ответил с гордостью выразительно, коротко и сухо:
– Извините, не такой дворянин, как я, потому что таких дворян, как Секиринские, в целом краю только четыре фамилии. Впрочем, оставим это.
Священник больше не настаивал, видя, что оскорбил своим советом и этого, что, впрочем, и случалось очень часто, и пошел поздравить ее мосць с новорожденным.
Вслед за священником прибыли и другие соседи, любившие и Уважавшие скарбниковича, а в числе их и мой пан, Петр Корниковский, стольник Пурский, который питал особенное расположение к этому семейству и был удостоен искренней дружбой Секиринского. Все они были приглашены хозяином на крестины, отложенные на несколько недель по причине больших приготовлений.
Действительно, через месяц крестины совершились, как только было возможно торжественнее. Наехало множество соседей и родственников, которых Вихула, стоя у ворот, считал со злобою и завистью невыразимыми. Он хотел даже заманить к себе некоторых посетителей, советуя им не ездить к Секиринскому, но напрасно. Единственным для него утешением было то, что он вдоволь набранился и накричался. А так как крестины сына Вихулы при всех его приглашениях, не были и вполовину там многолюдны, потому что все боялись этого буйного человека – без приключения у него никогда не обходилось – то легко вообразить, с каким чувством смотрел он на возки, брички и таратайки, съезжавшиеся к соседу. Хозяйка, несмотря на болезнь свою, которая еще продолжалась, распорядилась так хорошо, что мужу не стыдно было перед гостями; угощение было порядочное, можно сказать, даже отличное и, по их состоянию, обошлось очень дорого. Вихула, по обычаю всех завистливых соседей, имел в доме Секиринских шпионов, и так ему любопытно было знать все, что там происходит, что на другой день он мог, как нельзя лучше, описать что там ели, пили, говорили, делали, что разбилось, чего не достало и какие надобно было употреблять фокусы для соблюдения приличия.
После крестин Фаддея-Собеслава (такое было дано имя новорожденному) скарбникович деятельнее прежнего принялся ходить и размышлять, видно, о судьбе сына, будущность которого должна была его беспокоить. Действительно, дела были в самом плохом положении. Недостаток в доме закрыт был только трудами и искусной заботливостью Кунигунды. Хозяйство шло плохо, потому что пан скарбникович не знал в нем толку и не любил его. Он в продолжение целого дня расхаживал по большой, пустой комнате в задумчивости, так что на полу даже обозначилась дорога из угла в угол. При этих удивительных неизменных прогулках каждый день приветствовал его огромный белый гриб, выраставший в ночь с несколькими другими поменьше, в темном углу комнаты, как предсказатель падения дома, как символ приближающейся нищеты. Лишь только скарбникович замечал его, тотчас бежал, топтал его ногою изо всей силы и разбрасывал по полу остатки своего неприятеля с сильным гневом и запальчивостью, но на утро упомянутый гриб вырастал снова в том же самом месте, итак, сто раз уничтожаемый повторял свое немое пророчество. Каждый день начинался у Секиринского войною с этим грибом, и, отходя ко сну, он присматривался, не поднимает ли его неприятель головы. Нет и следа; но в ночь так постарается, что на другой день как раз пожелает хозяину, как будто с насмешкою, доброго утра. Гриб этот отчасти отравлял Скарбниковичу сердце, но не было против него никаких средств, как и против Вихулы, и кто знает, не он ли был причиной этих молчаливых, по целым дням, прогулок. Скарбникович с утра до вечера расхаживал, как на часах, по шаткому полу большой комнаты, время от времени заглядывал к жене и сыну; а когда вечером приходил староста и останавливался у порога, он спрашивал только, что тот намерен был завтра делать и на все соглашался.
Пан Секиринскии прерывал обычно свое молчание и свои думы тогда только, когда ему представлялся случай говорить о павшем величии своего рода и о его подвигах. Тогда он делался красноречивым, неисчерпаемо обильным, веселым, – словом, другим человеком; но едва разговор переходил на другой предмет, он снова погружался в задумчивость и молчал, как мертвый.
Сама Кунигунда надеялась, что рождение сына придаст ему желание вести хозяйство, побудит его к труду и к приобретению; но все кончилось только глубокими размышлениями и откладыванием до завтра. Он все ожидал, что со временем все пойдет лучше, что все уладится само собою, что настанут лучшие обстоятельства. Секиринские издавна вели тяжбу с наследниками Лендских о приданом умершей без потомства Агаты Секиринской. Пришла очередь и скарбниковичу подать какой-то позыв в Люблинский трибунал, чтобы не допустить дело до забвения. Нужно было ехать в город. Долго он сбирался в дорогу, откладывал, медлил, наконец, когда уже начала ему угрожать просрочка, двинулся с небольшими деньгами в Люблин, напутствуемый благословением священника, к удивлению которого он объявил перед самым выездом по секрету, что если только Лендские сделают шаг к полюбовной сделке, то он готов на нее согласиться.
– Видишь ли, вацпан добродзей, – говорил потихоньку скарбникович, – я не сказал об этом никому, даже и самой Кунусе, но решился, по здравому размышлению, лучше оставить сыну в наследство спокойный кусок хлеба, нежели великие надежды и хлопоты.
– Святы слова твои, скарбникович добродзей, – отвечал с живостью священник. – Мирись, мирись: вы уж и так разорили себя этой тяжбою.
– И выиграли бы мы ее, когда бы еще немного терпения: но я старею, мальчику нужен хлеб, мы в стесненных обстоятельствах; кончу уже, хоть с потерею.
– Прекрасная мысль; одобряю ее многократно. Да лучше полы обрезать, лишь бы уйти от тяжбы.
– Так и быть, – важно сказал Секиринскии, – возьму хоть половину своего иска.
– Хоть бы и четверть, так за то слава Богу, – сказал священник.
– О, нет, уж этого-то не будет. Приданое Агаты Секиринской равняется тогдашним 50 000 злотым, а с процентами за столько лет нам следует, очевидно и ясно, более полутора миллиона.
– Если вашмосць рассчитываешь таким образом, – прервал священник, – то едва ли из этого что будет.
– А как же иначе, – сказал скарбникович, – это святая справедливость; но для спокойствия я уступлю половину.
Священник пожал плечами, а Лонгин Секиринский сел в таратайку и, в глубоком размышлении, отправился в Люблин. Там он нашел юристов, которые утверждали, что с его правами можно судиться еще сто лет; но он остался верен своему намерению и объявил адвокату своего противника о своей готовности на мировую. Послали к наследникам Лендских, но те, к изумлению пана скарбниковича, рассмеялись, пожали плечами и отвергли предложение. Итак, он подал новый иск и возвратился домой, молчаливый, но, очевидно, потрясенный и огорченный.








