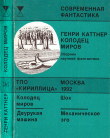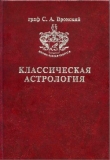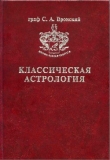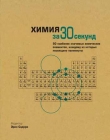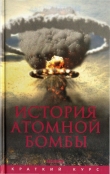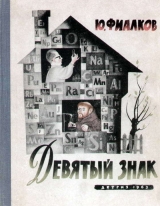
Текст книги "Девятый знак"
Автор книги: Юрий Фиалков
Жанры:
Детская образовательная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Все предположения сводятся к тому, что таким элементом станет… калифорний. Дело в том, что новые звезды обладают общей особенностью: период полузатухания их яркости (т. е. время, за которое яркость свечения уменьшается вдвое) составляет приблизительно 55 дней. А это почти точно соответствует периоду полураспада калифорния (с атомным весом 254).
Так свершались судьбы развития элементов во Вселенной. Непрерывное увеличение порядкового номера и атомного веса элементов, образующих звезду, приводит к повышению плотности и уменьшению яркости свечения звезды. Затем, когда в массе звезды накопится много калифорния, происходит ядерный взрыв – и калифорний, а также другие тяжелые элементы распадаются, образуя более легкие элементы.
Итак, можно считать, что по крайней мере один из трансурановых элементов образуется во Вселенной при процессах, происходящих в звездах. Ну, а если образуется калифорний, то должны быть и кюрий, и плутоний, которые возникают из калифорния при процессах радиоактивного распада.
Теперь второй вопрос: могут ли в настоящее время образовываться в природе заурановые элементы?
После того как заурановые элементы были получены в лабораториях, поиски их на поверхности земли, в горных породах все же не прекратились. Поиски эти диктовались следующими соображениями. Во-первых, розыски можно было теперь производить не вслепую, так как свойства, например, нептуния, не говоря уже о плутонии, были изучены очень хорошо. А во-вторых, надо было узнать, не могут ли где-нибудь на Земле возникнуть такие условия, при которых из урана образовывался нептуний или плутоний?
Последнее предположение кажется абсурдным, а между тем оно-то и подтвердилось быстрее всего. Уже за несколько лет до открытия плутония стало известно, что некоторая часть атомов урана, вместо того чтобы подвергнуться обычному радиоактивному распаду (испускание альфа-, бета– или гамма-частиц), распадается в буквальном смысле этого слова на две части. При этом не только образуются ядра-осколки, но и испускаются нейтроны. Правда, на один такой распад приходится несколько миллионов распадов обычного типа.
Но тем не менее так бывает всегда. Итак, нейтроны, необходимые для превращения урана в нептуний, а затем в плутоний, берутся из… самого урана.

Кроме того, не исключена возможность, что космические лучи разрушают атомы некоторых элементов, причем опять-таки образуются свободные нейтроны.
Все эти соображения и послужили основой для поисков природного плутония в урановых рудах. Первые опыты дали отрицательный результат. И только после того, как для переработки были взяты килограммы и даже тонны урановой руды, получился вполне определенный ответ: да, плутоний в природном уране есть. Каково же количество того плутония, который содержится в природном уране? Количеством-то назвать его трудно. Отношение веса плутония к весу урановой руды составляет 10 -14. Достаточно сказать, что отношение числа учеников в каком-нибудь классе к числу людей на земном шаре имеет порядок 10 -8– в миллион раз больший, чем соотношение плутония и урана в урановой руде.
В 1952 году урановая смоляная руда из Бельгийского Конго была подвергнута исследованию на содержание в ней нептуния. Потребовались такие же кропотливые исследования, как и в предыдущем случае, и нептуний был, разумеется, найден. «Разумеется» потому, что промежуточным звеном при образовании плутония из урана является нептуний. Нептуния оказалось в уране даже несколько больше, чем плутония: одна часть на две тысячи миллиардов частей урана.
Конечно, нептуний и плутоний содержатся в урановых рудах в таких количествах, что не приходится говорить всерьез об их выделении. Очень возможно, что другие заурановые элементы тоже присутствуют в исчезающе малых количествах в горных породах. Так, например, есть предположение, что кюрий-247 благодаря своему сравнительно большому периоду полураспада – приблизительно сто миллионов лет – может еще существовать в ничтожных количествах на Земле. При этом он, весьма вероятно, находится вместе с редкоземельными элементами-лантаноидами, так как свойства актиноидов, к которым принадлежит кюрий, весьма походят на редкоземельные элементы. Правда, уже подсчитано, что коль скоро кюрий сопутствует редкоземельным элементам, то один атом его может приходиться не меньше чем на 10 15атомов лантаноидов.
Разумеется, и плутоний и нептуний содержатся в урановых рудах в таких количествах, что не приходится говорить о возможности добывать эти элементы, так сказать, из природных залежей, но факт остается фактом: заурановые элементы существуют в природе.
Есть ли предел числу элементов
Этот раздел я собирался начать совсем по-другому. Более того, я уже написал его. Но называйте это совпадением или как хотите, но буквально через три дня после того, как была написана эта глава, мне пришлось в течение нескольких часов подробно дискутировать на тему: есть ли предел числу элементов? Я был приглашен на обсуждение новой научно-фантастической повести, написанной одним из наших писателей. Обсуждение состоялось в районной детской библиотеке, где собралось много ребят.
Повесть была как повесть. Был профессор (с бородкой), который говорил: «Ну, батенька». Был молодой ученый, кандидат наук (с прядью, упрямо ниспадающей на лоб), ученик профессора. Была молодая ассистентка профессора. Ну, и, конечно, была любовь. Но это между прочим. В центре действия был мальчик Леня, довольно развязный всезнайка, который вопреки желаниям родителей увязался за профессором и его учениками в геологическую экспедицию.

Автор провел экспедицию через лесной пожар, основательно выкупал в холодном болоте, столкнул с неведомым ящером и, наконец, более или менее благополучно привел героев к загадочному озеру в каких-то горах. Озеро было как озеро, только вместо воды оно было «до краев» заполнено неизвестным жидким металлом. И тут-то все началось. Этот металл был раз в двадцать тяжелее ртути (т. е. плотность его должна была составлять что-то около 260!); он не соединялся ни с одним из известных веществ, при нагревании он совсем не проводил электрический ток, но зато на холоде он был идеальным проводником. Мальчик Леня, вздумавший искупаться в чудном озере, схватил тяжелую болезнь, чем еще раз доказал читателю, как плохо не слушаться старших.
Дотошный профессор, который, как и полагается книжным профессорам, знал все, сразу определил без помощи каких-либо приборов, что неизвестный металл – это элемент с порядковым номером 150, который неведомо как сохранился на Земле.

В заключении книги был триумфальный полет домой, свадьба и все такое.
Я уже не помню, что говорили выступающие о художественных достоинствах книги, потому что очень скоро разгорелся спор о том, вправе ли был автор предположить существование на Земле 150-го элемента или нет. Когда такой вопрос был задан мне, я уклончиво ответил, что авторы повестей, особенно научно-фантастических, могут предполагать все, что угодно, но тем не менее необходимо различать фантазию и выдумку. Потребовали объяснить подробнее и сказать точно, сколько еще элементов может быль открыто. На это я ответил приблизительно так.
На примере уже полученных заурановых элементов очень хорошо заметно, что с увеличением порядкового номера быстро уменьшается период полураспада. Напомним, что если плутоний имеет период полураспада порядка нескольких десятков миллионов лет, то для 102-го элемента эта величина равна нескольким секундам.
Кроме того, помимо радиоактивного распада – выделения альфа– или бета-частицы, – в случае заурановых элементов большое значение приобретает эффект самопроизвольного деления ядер. Эффект этот проявляется в том, что ядро элемента, вместо того чтобы испустить альфа– или бета-частицу, распадается на две части. Для естественных радиоактивных элементов период полураспада относительно самопроизвольного деления очень велик. Так, для тория он равен 10 21лет (для сравнения: наша планета существует приблизительно 5·10 9лет). Период вольного полураспада относительно самопроизвольного деления заурановых элементов значительно меньше. Для фермия эта величина составляет всего 12 часов. Расчеты показывают, однако, что еще для нескольких элементов после элемента 102 период полураспада относительно самопроизвольного деления будет меньше обычного периода полураспада. Поэтому возможность получения элементов 103, 104 и, возможно, 105 – дело вполне реальное.
Возможно ли будет получить элементы с более высокими порядковыми номерами, покажет ближайшее будущее.
Однако неправильно будет сделать вывод, что работа над получением новых, искусственных, элементов близится к концу. Нет, эта работа только начинается. Почему? Прежде чем ответить, необходимо задать один вопрос: как построены атомы всех элементов Периодической системы Д. И. Менделеева?
«Смешной вопрос, – скажут многие из читателей. – Каждый знает, что все атомы построены из положительно заряженного ядра, состоящего из протонов и нейтронов, и из вращающихся вокруг ядра отрицательных электронов».
Разумеется, это так. Но разве эта комбинация является исчерпывающей? Представим себе такой атом, в ядре которого положительно заряженные протоны заменены на отрицательные антипротоны, а электроны – на положительные частицы с равной массой. Такие частицы, кстати, тоже известны. Перед нами атом антиэлемента. Какими свойствами будет обладать такой элемент? Кто возьмется это предсказать?! А ведь теоретически создать такой элемент вполне возможно.
А что будет, если в «обычных» элементах один или несколько электронов заменить на отрицательно заряженные частицы, более тяжелые, чем электрон? Такие частицы тоже известны. А какими свойствами будет обладать элемент, в ядре которого часть протонов заменена на другие положительно заряженные частицы?
Как видим, здесь одних вопросов с полстраницы. И все это вопросы не досужие. За последние годы они стали предметом теоретических и даже экспериментальных исследований. Однако сделано пока слишком мало.
Итак, наука, которую мы с достаточным на то основанием назвали алхимией XX века, только начинает свое славное существование. А тем из молодых, кто захочет стать алхимиком (без кавычек!), можно гарантировать работу, полную увлекательных и волнующих поисков, какой является любое истинно научное исследование.

Большое в малом

Что общего?
Начну с двух историй.
История первая
На визитных карточках Юджина О’Винстерна было вытиснено золотыми буквами: «негоциант» – торговец. Портовые лоцманы, отлично осведомленные о деятельности О’Винстерна и плохо разбирающиеся в правилах хорошего тона, называли его «спекулянт». Это звучало несколько грубо, но несомненно было справедливее. Та же справедливость требует отметить, что Юджин О’Винстерн не обладал особым умом. Однако недостаток последнего он компенсировал нахальством. Нахальство – это было, пожалуй, единственное, чем располагал в 1937 году лондонский «негоциант», так как последняя операция по закупке на корню канадской пшеницы стоила ему всего его состояния.
Вот почему О’Винстерн решился везти в Индию партию станков, рассчитывая продажей или, вернее, перепродажей их поправить свои дела. В станках Юджин смыслил мало, но еще меньше ведал он об Индии. А если говорить правду, то, кроме того, что оттуда вывозят бананы и малярию, «негоциант» ничего не знал о той громадной стране, куда он плыл вместе со своим грузом.

Было бы излишне описывать первые впечатления от знакомства Юджина О’Винстерна с Индией. Ведь мы не затем повели о нем речь, чтобы познакомить читателя с описанием бомбейских баров и контор, а в других местах наш герой не бывал. И поэтому мы сразу расскажем о том, что увидел он на товарной площадке железнодорожного вокзала города Дели.
Зрелище было удручающим. Когда небольшая бригада грузчиков выгрузила первый станок из вагонов, О’Винстерн сразу заметил неладное: изо всех щелей деревянной обшивки струилась какая-то бурая жижа. Встревоженный «негоциант» велел немедленно разбить упаковочный ящик, и его взору явилась картина, которую нельзя назвать иначе чем жалкой.
Станки представляли груду ржавчины. Ржавчина образовала на металлических частях такой густой налет, что они, казалось, все были покрыты бурым снегом.
Юджин О’Винстерн кинулся к станку, схватился за какую-то деталь, но она тотчас же отвалилась и с мягким стуком упала на землю. Когда были вскрыты остальные двадцать ящиков, то выяснилось, что станки в них сохранились ненамного лучше.
Кого было винить? Беспросветное невежество О’Винстерна, который не знал той истины, что металлические вещи перед далекой транспортировкой надо густо смазывать маслом? Или ругать начальника департамента железнодорожных перевозок Индии, по милости которого станки два месяца валялись в бомбейском порту, ожидая предстоящей отправки в Дели? Сетовать на жаркий и влажный, до густоты, воздух Индии?
Нет, незадачливый «негоциант» винил более непосредственного участника его «негоции» – бога. Бормоча по адресу всевышнего такие проклятия, от которых хватил бы удар даже самого хладнокровного миссионера, Юджин целые дни бесцельно болтался по городу, ожидая, пока из резиденции губернатора придет ответ на телеграмму с просьбой дать пособие для возвращения в Лондон.
Вот тут-то во время одной из прогулок О’Винстерн обратил внимание на знаменитую делийскую колонну. Громадный обелиск возвышался посредине большой площади и почти всегда был окружен верующими. От нечего делать Юджин протиснулся сквозь толпу непрерывно бормотавших индусов и рассеянно посмотрел на колонну. Основание ее было до матового блеска отполировано губами верующих, а верхняя часть была гладкой, как обеденный стол. О’Винстерн рассеянно притронулся пальцем к колонне… затем постучал по ней ладонью… потом кулаком. Колонна была сделана из железа. Да, никакого сомнения быть не может – из железа! Но, черт возьми, каким образом оно здесь сохраняется?
Не иначе, как эти индусы чего-то подмешали в сплав. Но что?
На последний вопрос лондонский «негоциант» безуспешно пытался раздобыть ответ в течение всей последующей недели. Но когда был получен скромный перевод и билет, по которому О’Винстерн должен был через четыре дня отплыть в Лондон, Юджин решился.
Той же ночью он достал где-то напильник, трясясь от страха, отпилил от основания колонны небольшой кусочек железа и спрятал его глубоко на дно своего саквояжа. Уж в Лондоне ему помогут разобраться, из чего сделана колонна и что такое подмешано туда, что не дает железу ржаветь!
Через полтора месяца О’Винстерн направил добытый им образец железа для анализа в одну из лондонских лабораторий. К образцу было приложено письмо, которое Юджин написал, сам дивясь собственной хитрости. В письме он просил произвести анализ прилагаемого образца железа, которое он думает употребить для изготовления своего сейфа.
Когда вместо анализа О’Винстерн получил приглашение явиться в лабораторию, он, естественно, насторожился: конечно, они хотят выпытать у него, где он раздобыл этот замечательный сплав; но его не проведешь, он будет молчать.
Однако вместо всего этого шеф лаборатории, тщедушный и очкастый профессор Голл, тысячу раз извинившись перед ошарашенным такой невиданной любезностью О’Винстерном, спросил его, где уважаемый мистер раздобыл образец такого феноменально чистого железа. Профессор добавил, что он занимается анализом вот уже тридцать лет, но впервые встречается с образцом, в котором нет никаких примесей: чистое железо, аб-со-лютно чистое.
Потерпев крах в своих надеждах организовать выработку сплавов, которые бы противостояли влажному климату Индии, Юджин занялся скупкой и перепродажей контрабанды, за каковое занятие и был в скором времени посажен в тюрьму.
А профессор Голл доложил на одном из заседаний совета института о проведенном им анализе образца железа неизвестного происхождения, в котором ему не удалось найти примесей, потому что железо было чистое, аб-со-лютно чистое!
История вторая
В 20-х годах в монастыре Киево-Печерской лавры объявился некий отец Иона. Этот священник, носивший библейское имя и священную бороду, скоро стал знаменит на весь Киев и на много верст в окрестностях. Как гласили объявления, вывешенные на воротах монастыря и написанные мирским шрифтом, отец Иона ежедневно пользовал верующих от «скорби во внутренностях» с помощью освященной им лично воды.
«Медицинские» способности привлекали в монастырь десятки больных, и скоро в приемные часы отца Ионы монастырский двор стал напоминать известный киевский базар Бессарабку в часы разгара торговли. Поднятая святыми отцами шумиха стала привлекать в монастырь и тех больных, которые до того не имели с религией ничего общего.

Все это заставило заинтересоваться новоявленным целителем редакцию комсомольской газеты. Вот почему в один апрельский день среди «болящих», толпившихся перед обителью отца Ионы, был сотрудник газеты Николай Карлышев. Николай пришел сюда без определенной цели. Он решил вначале просто присмотреться к больным, а заодно и к чудотворцу. Но, когда к больным вышел знаменитый целитель и широко благословил собравшихся, у Николая мелькнула мысль: а не притвориться ли ему больным! Решено – сделано. Согнувшись под прямым углом и не очень натурально охая, Карлышев стал в конце длинного хвоста очереди. Подойдя к отцу Ионе, Николай, подобно другим, приложился или, вернее, сделал вид, что приложился, к руке чудотворца, принял благословение вместе с пузырьком святой воды и поспешно стал в очередь снова. В тот день Карлышев раздобыл три пузырька воды. На следующий день четыре, а в последующие дни еще пять. Итого – 12 небольших бутылочек с «целебным средством», всего около литра.
Свою добычу Николай доставил профессору Бобрышеву – известному киевскому специалисту по внутренним болезням. Профессор посмотрел «святую» воду на цвет, попробовал на язык, а затем категорически заявил, что святая вода взята из Днепра и ничего дополнительного, кроме «божьей благодати», не содержит.
Все это заняло у профессора полчаса времени. В течение последующих трех часов Карлышев уговаривал профессора испробовать воду на одном из его больных. Бобрышев решительно отказывался, ссылаясь на то, что питье днепровской воды заведомо не может оказать никакого эффекта. Николай же, который хотел утверждения полной бесполезности святой воды подкрепить авторитетным свидетельством Бобрышева, продолжал настаивать. По истечении третьего часа Бобрышев, нетерпеливо поглядывая на часы, дал свое согласие.
Через три недели Карлышев снова сидел в клинике у Бобрышева. Статья была уже написана. Заключения профессора Бобрышева занимали в ней немалое место. Бобрышеву киевляне должны были поверить, а в характере заключений профессора сомневаться не приходилось.
Профессор принял Николая в своем кабинете, но в отличие от прошлого раза он не сидел в кресле, а быстро ходил по комнате, почему-то избегая смотреть в глаза Николаю.
Виноватым голосом он сообщил корреспонденту, что испытал предоставленный ему на экспертизу «препарат», то есть «воду», – поправился он – на двух больных с застарелым гастритом и одном язвеннике и во всех случаях констатировал не выздоровление, нет, но несомненное улучшение. Вот так. После этого профессор виновато развел руками, пробормотал что-то о необъяснимых загадках природы и оставил Николая наедине с собственным недоумением.
Вторичный химический анализ, на этот раз тщательный и придирчивый, подтвердил тождество с днепровской водой. Правда, бактериологический анализ выявил почти полное отсутствие микробов в воде, но это могло объясняться кипячением.
Подкупленный монастырский служка оказался весьма словоохотливым. Он рассказал, что таскает в келью отца Ионы ежедневно девять ведер воды. Отец Иона сливает эту воду в большую кадку, на дне которой лежит «мно-о-го» серебряных монет. Большего служка просто не знал.

Так тогда и не появилась разоблачающая статья против «святого целителя». Эта статья была написана позже, три года спустя. Правда, к тому времени новоявленный святой был арестован органами милиции за крупную спекуляцию иностранной валютой, но все же статья была нужна. Помогли же появлению статьи некоторые обстоятельства, о которых будет идти речь в следующих разделах.
Вот эти две истории, которые я считал нужным рассказать читателю. Предвижу вполне законный вопрос: во-первых, почему рассказы о незадачливом спекулянте и мнимом святом появляются на страницах книги, посвященной проблемам современной химии; и во-вторых, если даже предположить, что эти рассказы автор ввел просто для развлечения читателя, то что общего имеют они друг с другом. Я полагаю, что в дальнейших разделах этой главы читатель найдет ответ на все эти вопросы.
Чистое вещество… это не просто
В предыдущей главе «Алхимия XX века» читатель познакомился с тем, как химики настойчиво и неутомимо охотились за исчезающе малыми количествами вещества. Терпеливо, атом к атому, микрограмм к микрограмму, собирали они мельчайшие дозы химических элементов. Эти охотники знали, что микрограммы выделенных ими новых элементов принесут химии «тонны» ценнейших сведений.
В этом очерке речь тоже пойдет о химиках-«охотниках». И так же, как и там, здесь будет описана охота за малыми и сверхмалыми количествами веществ.
Однако «охотники» в этой главе будут заниматься поисками малых количеств веществ не с целью собрать их, а, наоборот, изгнать из исследуемого вещества.
Впрочем, если рассказывать по порядку, то, очевидно, следовало бы начать с химика Кольрауша. Это был видный немецкий исследователь, который работал в последней четверти прошлого века. Несколько лет своей научной деятельности Кольрауш посвятил… беспрестанной перегонке из сосуда в сосуд одной и той же порции воды.

К исходу четвертого года директор института, где работал Кольрауш, уже не решался заводить гостей в лабораторию исследователя. Директор знал, что на каждую группу посетителей всегда найдется присяжный остряк, который вспомнит Лапутянскую Академию наук.
Однако знатоки «Путешествий Гулливера» напрасно изощрялись в остроумии. В отличие от ученых летающего острова Лапуты, Кольрауш преследовал истинно научные цели: он пытался как можно лучше очистить воду.
Я не сомневаюсь, что у читателя сразу же возник вопрос: неужели очистка воды является таким сложным делом, что ему надо посвящать годы жизни? Не напутал ли здесь автор? Нет, не напутал.
Возьмем самый обычный пример из повседневной деятельности химика-исследователя. Вот я пришел сегодня в лабораторию и мне нужно получить чистую воду. Нет, далеко не такой степени чистоты, какой добивался и в конце концов добился Кольрауш! Мне нужна просто чистая вода, чтобы приготовить раствор какого-либо вещества, по возможности свободная от примесей.
Из водопроводного крана я наливаю в колбу воду, которая, с моей точки зрения, с точки зрения химика, является не просто грязной, а представляет собой какое-то болото. В этой воде содержится большое число различных солей натрия, калия, кальция, магния. В то время как вода протекала по трубам, в нее перешло большое количество железа, неощутимое, конечно, для того, кто пьет эту воду, но вполне достаточное, чтобы я мог обнаружить его присутствие с помощью роданида калия. На водоочистительной станции воду хлорировали, и при этом в ней осталось такое количество хлора, что прибавление к ней нескольких капель азотнокислого серебра делает ее похожей по внешнему виду на молоко – это выпало хлористое серебро. Кроме этого, в воде находится значительное, опять-таки с точки зрения химика, количество органических веществ: мельчайшие частицы растений, бактерий и проч. В этой водопроводной воде растворено не большое, а прямо-таки громадное количество воздуха – каждый, кто даст постоять стакану холодной водопроводной воды в комнате, может убедиться в этом: на стенках стакана появится большое количество пузырьков воздуха.
А углекислый газ, растворенный в воде! А сернистый газ, который пусть и в очень незначительном количестве поглотили воды реки, когда они протекали мимо любого завода, отапливающегося углем? А фенол, который где-то в верховьях выпустил в воду нерадивый директор химического завода? Словом, можно сказать, что в той водопроводной воде, которую я налил из крана, содержится в ощутимых количествах, помимо водорода и кислорода, еще добрая треть элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Ошибся бы я при этом разве только в сторону преуменьшения. Пусть все эти примеси безвредны для человека, утоляющего жажду, но мне, химику, они мешают. И я приступаю к их удалению.
Сначала я кипячу воду со щелочным раствором перманганата калия. При этом окисляется большинство органических веществ, находящихся в воде. Затем я повторно кипячу воду с подкисленным раствором перманганата. Эта операция должна привести к окончательному разрушению всех органических веществ. После этого воду перегоняют. При перегонке освобождаются от основного количества примесей: от солей металлов, от значительной части воздуха. Полученная так называемая дистиллированная вода далеко еще не чистая. В ней содержится сравнительно много воздуха, остался почти весь углекислый газ. Так как все операции проводились в стеклянной посуде, то вода содержит много едкого натра и кремниевой кислоты, которые перешли в нее из стекла. Словом, до чистой воды еще далеко.
Эту дистиллированную воду я снова кипячу в течение нескольких часов, чтобы удалить возможно больше газов, в том числе и хлора, а затем переливаю в перегонную колбу. В отличие от предыдущей, эта колба сделана из платины, холодильник, в котором конденсируются пары воды, отлит целиком из олова, приемная колба тоже сделана из платины. Эти металлы почти не растворяются в воде. При перегонке необходимо соблюдать предосторожность, чтобы вода нигде не соприкасалась с воздухом, иначе она снова «натянет» кислород, азот и углекислый газ. Полученная вода называется уже бидистиллатом. Конец! С этой водой мне уже можно работать.
Одно описание процесса очистки воды заняло у читателя, вероятно, несколько минут. Сколько же времени приходится его осуществлять на практике?
Но все-таки я получил не очень чистую воду. Установить это можно легко: достаточно опустить в нее электроды, соединенные с источником электрического тока. Стрелка прибора покажет, что вода проводит электрический ток, хотя она неэлектролит и проводить не должна. Значит, мы не полностью удалили из нее примеси. Электропроводность полученной воды, правда, небольшая и имеет порядок 10 -6обратных омов. Кольрауш, который значительно тщательнее очищал воду, смог получить значения электропроводности в сто раз меньше. Это означало, что вода у него была много чище. Однако достаточно было подержать эту воду в течение нескольких минут в открытом сосуде, чтобы электропроводность начала быстро увеличиваться: в воде растворялся углекислый газ воздуха.
То, что я сейчас рассказал о воде, с успехом можно отнести к любому другому веществу. Разница только в том, что в большинстве случаев очистка веществ является еще более длительной и кропотливой операцией, чем получение чистой воды.
Мы помним, что абсолютно чистых веществ в природе нет. В любом соединении всегда присутствуют большие или меньшие количества посторонних веществ. По мере того как усовершенствовались методы химического анализа, химики стали получать все более подробные сведения о том, сколько примесей присутствует в исследуемом веществе и каков их характер. Однако одно дело знать, сколько имеется примесей, а совсем другое – освободиться от этих примесей.
Да и то сказать, что эта последняя операция часто не была нужна. В самом деле, зачем прибегать к хитроумным манипуляциям, тратить много времени, губить ценные химические реактивы – и все это только для того, чтобы иметь возможность сказать, что добытое тобой соединение имеет чистоту, например, не 99,99, а 99,999. Да стоит ли этого одна тысячная?! Ну, разумеется, нет.
Вот почему никто из химиков пока не стремился получать абсолютно чистые вещества. Но тут как раз наступил момент, когда надо рассказать об одной истории, которую почти все химики приняли как научную сенсацию.
Проблемы возникают так…
Я написал слово «сенсация» и задумался: а правильно ли я перевел те определения, которыми характеризовалось в зарубежной литературе 20-х годов это открытие? Видимо, правильно. Подобно другим сенсациям, это открытие, нашумев, и притом весьма сильно, в научных и околонаучных кругах, потом с непостижимой быстротой забылось и в течение двадцати лет не упоминалось даже в самых фундаментальных руководствах. Почему? Возможно, потому, что слишком уж невероятными показались химикам 20-х годов факты, описанные в нескольких небольших статьях. Репутация солидных научных журналов, где публиковались эти статьи, заставляла относиться к ним с некоторым уважением. Многовековой же опыт физики и химии принуждал к мысли: не мистификация ли эти сообщения? Обдумывая все это, солидные профессора приходили к одному несомненному выводу: абсолютно непонятно. И как это часто бывает, люди предпочли не искать разгадку удивительных явлений, а попросту забыли о них.
Трудно приготовить тщательно очищенное вещество, но еще труднее сохранить его в чистом состоянии. Со всех сторон его подстерегают враги. В него может попасть капля постороннего соединения, пепел из трубки исследователя, маникюрный лак с ногтей ассистентки, залетевшая в окно пыльца цветов и тысяча других самых разнообразных веществ. Особенно трудно сохранить чистые вещества от проникновения примесей из воздуха и влаги, содержащейся в атмосфере. Ведь воздух проникает всюду, от воздуха не спрячешься!
Вот почему, сохраняя очищенные вещества, их запаивают в стеклянные или сделанные из какого-либо другого материала сосуды.
Так поступил однажды и английский химик Бейкер, когда он в 1908 году запаял в стеклянной трубке азотистый ангидрид – жидкость, которая кипит при температуре +3,5°. Правда, на этот раз азотистый ангидрид находится в трубке вместе с пятиокисью фосфора. Дело в том, что при получении азотистого ангидрида экспериментатор случайно примешал к нему некоторое количество воды. Пятиокись же фосфора является одним из самых «жадных» к воде веществ: почти ни одно из известных нам соединений так активно не соединяется с водой, как этот белый порошок.

Во всем, что я сейчас изложил, пока нет ничего удивительного, что могло бы явиться материалом для сенсации. Пока, как говорится, идет присказка. Сказка будет впереди…