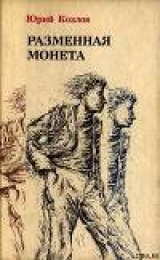
Текст книги "Имущество движимое и недвижимое"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Костя не видел выхода. Так бывает, когда ошибка заключена не в решении, но в самом условии задачи. Ему казалось, он ищет античные пропорции в зале заспиртованных монстров петровской кунсткамеры, в комнате смеха, где все зеркала кривые. Отсутствовал какой-то наиважнейший компонент, без которого люди не были людьми, а жизнь жизнью. Предстояло либо вернуть неуловимый компонент в действительность, либо переколотить зеркала. Но может быть, он рождается как раз в момент разбития зеркал?
Костя подумал, что отец, профессор, Вася, поэт, ребята, как ни крути, стоят на позиции «встретиться и рассказать». Но почему-то был уверен, что точно на такой же позиции стоят и их антиподы, к примеру, Боря Шаин, прогнавший птичку с фамилии. Стало быть, они мнимые антиподы. Была главная сила. За собой она оставляла право править неограниченно, непредсказуемо, абсурдно. За ними – искать доказательства, что любое свершаемое идиотство – мудрая необходимость. Таков был расклад. Невидимые магнитные линии, действующие с непреложностью природных законов. Вены, по которым страшное, как бог-кровопийца, сердце гнало в единственном направлении кровь-жизнь. Костя ощущал себя бессильным кровяным тельцем, летящем в общем потоке к неизвестности. Он осознавал неправильность такого движения и в то же время осознавал невозможность вырваться из общего потока, куда бы поток ни стремился. Вены были единственными. Другой кровеносной системы Россия не выстрадала. Перелить кровь было не во что. Вероятно, можно было революционно вскрыть их, но выплеснуть кровь в пустоту значило остановить жизнь. И вновь Костя стиснул руки в бессильном отчаянье. Бороться против рабства, нищеты, ненависти, подозрительности было всё равно что бороться против воздуха, которым дышишь, против самого себя. Косте показалось чудовищной несправедливостью, что он – юный, умный, думающий, вполне созревший для иной жизни – вынужден жить одной, необъяснимо дикой, жизнью со своим Отечеством.
За что?
За неурочными размышлениями скрывалась тщета, давно сделавшаяся сутью жизни, бытием, определяющим сознание. И чем неподходящее был момент (выпускной вечер, прощание со школой, цветы, белые платья девушек, рассвет, голубой утренний асфальт), тем безысходнее была тщета. То была вечная мелодия бессмысленности жизни, какого-то её похабного несоответствия тому, что в душе. Иногда мелодия звучала почти неслышно. Иногда доводила до сумасшествия.
Стоя у зеркала, поправляя на белой рубашке узел галстука, Костя мысленно проживал жизнь за жизнью, картины в зеркале менялись, как в калейдоскопе. Но куда бы ни уводили его фантазии, как бы высоко он себя ни возносил, итог был единственный: смерть. Всё прочее оказывалось золочёной шелухой на пути к неизбежному. И не было радости в шелухе, так как навязчиво долбило: что-то он уже невозвратно утерял (что? когда? почему?) и что это неведомое утерянное неизмеримо ценнее предстоящей череды лет. Костя вперился в зеркало, ища позади отражение дьявола, похитившего душу и не давшего взамен… ничего. Но пусто было в зеркале. Наверное, это был дьявол новой формации. Мыслимое ли дело, утерять себя в семнадцать лет? Однако у Кости сомнений не было: утерял, утерял!
Асфальт перед школой был устлан тополиным пухом. Пух сбивался в клубки. Они были чрезвычайно чувствительны к ветру. Косте казалось, никакого ветра нет, но клубки ползли куда-то, слово зверьки.
Во власти странных чувств Костя переступил порог родной школы. Его обступили возбуждённые, поблёскивающие глазами одноклассники. «Ты что, Баран, озверел? Уже половина четвёртого! Жми наверх, там Гутя и Крот в кабинете географии. Стучи вот так…» – ему показали, как стучать.
Костя совсем забыл, что тоже сдавал пять рублей на сомнительный аперитив перед получением свидетельства об окончании школы, выпускным вечером. Ему не хотелось пить, один раз он уже отказался, но тут покорно потащился наверх. «А… всё равно. Какая разница?»– сколь отважен был Костя в мыслях, столь безволен, подчинён в действительности. То было ещё одно свидетельство утраты себя, неизбывной тщеты.
Молдавский коньячок не развеселил. У Кости навернулись на глаза слёзы, таким жалобным и одновременно беззащитным было всё вокруг. Речи Гути и Крота, волосатых бугаёв, с которыми он никогда не дружил, были бесхитростны, косноязычны. Не верилось, что они десять лет ходили в школу. Костя едва не рыдал: да как можно идти в мир с такой… малостью? И то, что мир равнодушно принимал всех, а за познание мстил страданием, было очередным доказательством тщеты, возведённой в непреложный закон.
Костя более не нуждался ни в каких доказательствах.
Он отошёл к окну, увидел идущих к школе Сашу и Надю. У Саши была прямая пружинистая походка спортсмена, которой Костя всегда завидовал и которую никак не мог у себя выработать. Он почему-то сутулился. Надя всегда была красива, но сегодня в особенности: гибкая, надменная, смеющаяся. Костя был уверен, что Надя предпочтёт ему Сашу. Они так подходят друг другу. Это произойдёт сегодня, если только не произошло давно.
В зале, где вручали аттестаты, Костя сел подальше от них. Он плохо соображал, что происходит. Назвали его фамилию. Костя не пошевелился. Кто-то толкнул его в бок. Он поднялся на сцену к столу под зелёным сукном. Директор поздравил, пожал руку. Костя сунул растопырившиеся, неизвестно где успевшие отсыреть корочки в карман, тут же забыл про свидетельство.
Одна, одна идея овладела им. И чем чудовищнее, неисполнимее она казалась, тем невозможнее было себе в этом признаться, отмахнуться от неё.
«Что? Слабо?» – подзадоривал себя Костя, хотя понимал, что утверждаться подобным образом не ново. Так бывало в детстве, когда, пережив обиду, несправедливость, Косте хотелось умереть. Но так чтобы и остаться живым. Ему хотелось лежать в цветах в гробу, смотреть вполглаза, как убиваются родители. То была игра. Сейчас Косте опять хотелось сыграть в неё, хоть он и отдавал себе отчёт: смотрин из гроба не получится. Не знал он и на что, собственно, обиделся: на мир, на себя? Костя не разделял эти понятия.
Он ещё сознавал, что это игра, что пора остановиться, ноги же сами несли его из зала, где закончилось вручение аттестатов, мимо веселящихся, предвкушающих угощение и прочие радости одноклассников по лестнице вверх, на последний пятый этаж. Затоптанный паркет был тускл. Костя пошёл по коридору, пробуя подряд все двери. Незапертым оказался кабинет химии, единственный, из которого можно было что-то утащить. Окна смотрели на закат. Большие и маленькие пробирки и колбы светились как волшебные лампы. Костя прикрыл дверь.
«Это юношеская мания самоубийства, – подумал он, становясь на подоконник, с трудом размыкая залепленные краской шпингалеты, – она описана в учебниках по психологии, я сам читал».
В распахнутое окно ворвался воздух, тополиный пух. Костя чихнул, качнулся, ухватился за раму. Асфальт внизу был тёмен, пуст. Косте казалось, он распахнул не окно – заслонку пылающей холодным красным огнём печи. Чем пристальнее вглядывался Костя в красное месиво облаков, тем труднее было ему отступить, спрыгнуть с подоконника на пол, закрыть окно. «И… всё? – удивлённо подумал Костя. – Так я расстанусь с единственной, бесценной жизнью? Где откровение?»
Костя ещё сознавал, что играет, но уже и сознавал, что не остановится, доиграет до конца. Ему стало по-настоящему страшно. Он хотел спрыгнуть на пол, но не сумел. Ноги не слушались. Закат был ужасен. Он превратился в красный сапожный клей, в резиновый жгут, который всё сильнее тянул Костю вперёд. Впившиеся в раму пальцы побелели, но они были готовы в любой момент разжаться. Костя вдруг отчётливо осознал, что прыгнет, обязательно прыгнет. Ничто, ничто его не удержит. Он хотел закричать, позвать на помощь, но красный клей залепил рот, отнял речь. Костя мог лишь мычать, как бык, вступивший на бойню. В смерти все немы.
Это была уже не игра.
За спиной скрипнула дверь. Костя зажмурился: он знал, что полетит вниз под этот чужой крик, который не сможет его догнать. Но за спиной было подозрительно тихо, и естественное желание узнать, кто это там помалкивает, заставило обернуться. Шея была как деревянная. Но Косте показалось, жгут отпустил. У него задрожали руки, он покрылся потом, словно только что вышел из-под дождя.
На пороге кабинета стояла Надя Смольникова: в белом платье, с ополовиненной бутылкой шампанского в одной руке, с незажжённой сигаретой в другой.
– Приветик! Внизу ни у кого нет спичек. Идиоты утверждают, что директор всех обыскивал на входе. Я и подумала, где добыть огня, как не в кабинете химии? И посуды тут полно. Я же не сдавала деньги на этот дурацкий вечер, мне за столами сидеть не положено. А ты тут… тренируешься, что ли? Смотри, свалишься! – Надя открыла шкаф, где хранились колбы и мензурки, закопчённые спиртовки, реактивы в толстых стеклянных флаконах. – Вот эти пузатенькие подходят…
Костя не спрыгнул, как мешок, рухнул с подоконника на пол. Ноги не держали. Единственное, успел отвернуться, вытереть рукавом слёзы.
– Ого, я смотрю, ты уже, – покосилась на него Надя.
– Нет-нет, – голос не слушался Костю, – я трезв, совершенно трезв, просто…
Надя вымыла две огнеупорные колбы. Они сверкали на столе, как ёлочные игрушки. «Смола» – было вырезано в углу стола. «Это она, Смола, – подумал Костя, – это будет память о ней».
В колбах пузырилось, светилось шампанское.
Костя ничего не понимал в химии. Когда на уроках приходилось ставить опыты, обязательно добавлял в реактивы каплю чернил из ручки. Жидкость становилась перламутрово-синей, как море в тоскливых осенних мечтах. «Сколько таких, как мы, просквозило через этот кабинет?» – подумал Костя. Ещё он подумал, что, если Надя подстрижёт свои гладкие чёрные волосы, как грозилась, она больше не будет Смолой, превратится в иную, незнакомую девушку. И вообще новая жизнь быстро отдалит их друг от друга. «Время – сволочь! – решил Костя. – Оно обманывает человека, пока он ве рит, но в итоге не оставляет ему ничего! Что с того, что год назад я слушал Высоцкого сутками, знал наизусть все песни? Сейчас меня тошнит от его хриплого голоса! Хотя он не стал хуже или лучше. И так со всем!» Он уже пришёл в себя, только лоб оставался в испарине. Костя вытирал его платком, испарина выступала снова.
– Так, – сказала Надя, – теперь займёмся добыванием огня. Не помнишь, что надо смешать, чтобы получилась самовозгорающаяся смесь? Кислоту с фенолфталеином? Или с этим… как его, лакмусом?
– Не надо. Мы взорвём школу. У меня есть спички. Надя прикурила, протянула Косте колбу с шампанским.
– Вообще-то я не очень люблю шампанское, – сказала, – но, чёрт возьми, так приятно пить краденое! Ты меня, конечно, осуждаешь?
– Наоборот, восхищаюсь!
Воистину, пить краденое шампанское было неизъяснимо приятнее, нежели лежать на асфальте с раскроенным черепом. Костя подумал, блестящие, как смола, волосы, резкость, решительность, вольное отношение к так называемым правилам поведения роднит Надю с семейством врановых птиц. Разве можно так искренне радоваться, что стащила шампанское? Смотреть неотрывно на блестящее, словно в серебристый шарф, укутанное в фольгу бутылочное горло? «А, собственно, знает ли… догадывается ли она, что я чуть не…» Он жалко улыбнулся, впервые взглянул Наде в глаза.
Её глаза были мертвы от ужаса.
– Зачем… идиот? Что ты хотел? – шёпотом спросила она. – Ты хоть что-нибудь соображаешь?
Костя подумал: жизнь, спасение явились к нему в образе девушки в белом платье с украденной бутылкой вина в одной руке, с сигаретой в другой. Он восстал от смерти к пороку.
В глазах Нади более не было мёртвого ужаса. Надины глаза блестели сквозь ресницы. Закатное солнце превратило кабинет химии в факел. Белое Надино платье казалось красным. «Дверь, – прошептала Надя, – надо закрыть дверь на швабру…»
…Саша Тимофеев чувствовал себя неловко в белой рубашке, в пиджаке, хоть и снял ненавистный галстук, спрятал в карман. Галстук казался ему символом тупой покорности, воплощением всего, чего он надеялся в жизни избежать. Пиджак сдавливал плечи, рубашка раздражала тесным, беспокоящим шею воротничком. Белая рубашка была символом безликости, множественности. Саша давно привык одеваться, как ему казалось удобным, в одежду из мягких тканей, чтобы ничто не стесняло движений, чтобы в любой момент можно было заняться гимнастикой, побежать, без опасения, что затрещат штаны. Он мечтал о времени, когда в моду войдут просторные тряпичные рубашки. Он бы шил сам. Пока же, к сожалению, от шитья рубашек приходилось воздерживаться. В продаже отсутствовал материал, придающий воротничкам жёсткость и форму.
В разгар выпускного вечера Саша оказался в странном одиночестве. В актовом зале гремела музыка. Все танцевали. А он смотрел из вестибюля на улицу, сердился на пиджак и белую рубашку. Это было странно. Саша подумал, он вполне может сейчас уйти домой, и на этом выпускной вечер для него закончится. И всё? А как же прощание со школой, светлая грусть? С самого раннего детства инстинктивно, генетически Саша не доверял массовости, коллективному действию. Идущие колоннами, бешено аплодирующие кому-либо люди не казались ему людьми в полном смысле слова. И вот, когда все веселились и, надо думать, переживали светлую, прощальную грусть, он в одиночестве стоял в вестибюле и не испытывал никаких чувств, кроме досады на пиджак и белую рубашку.
Саша подумал, что и рад бы, да не сможет развеселиться, ибо веселье, как ни крути, явление групповое. В одиночку веселятся лишь гении да идиоты.
Хорош ли человек, разучившийся веселиться?
Саша был вынужден признать, что нет, нехорош, ещё как нехорош. Не веселящемуся чуждо многое из человеческого, он не любит людей.
«В самом деле, – подумал Саша, – неужели я не люблю одноклассников?»
Одноклассников, в пятнадцать лет пристрастившихся к водочке, остановившихся в умственном развитии, неизвестно как закончивших школу, не заглядывающих в будущее дальше армии.
Одноклассников, детей начальников, эти составляли особую касту. Жрали отборные, давно исчезнувшие из магазинов, продукты, ездили на таинственные дачи, где показывали американские, недоступные прочим, фильмы, завидовали другим детям начальников, которые жили с родителями за границей, в родную страну с неохотой приезжали только на летние каникулы. Если первые имели примитивное понятие о справедливости, были даже готовы в иных случаях её отстаивать, эти были изначально равнодушны к истине, презирали собственную страну, рассматривали нынешнюю свою в ней жизнь как печальную неизбежность перед поступлением в институт, откуда одна дорога: за границу. Саша уже видел их, аккуратно подстриженных, чистеньких, с комсомольскими значками на лацканах, равнодушно и уверенно пишущих вступительное сочинение про Павку Корчагина или на тему: «Есть у революции начало, нет у революции конца».
Были и третьи, не определившиеся. Такие, как он сам, как его друг Костя Баранов, как Надя Смольникова. Из них могло получиться что угодно.
Нет, Саша не любил одноклассников за безоговорочное принятие условий, хлопотливую мышью возню, трусливое нежелание даже помыслить о том, чтобы что-то изменить, за генетический, вбитый в позвоночник, страх, покорное сидение на комсомольских собраниях, молчаливое внимание отовсюду льющемуся бреду.
И в то же время бесконечно любил, но необъяснимыми, неожиданными порывами, в ситуациях, никаких оснований для любви не дающих, в совершенно случайных, глупых каких-то ситуациях.
Так, лет шесть, наверное, назад они ездили всем классом за город кататься на лыжах. Возвращались на станцию в сумерках. Саша предложил спрямить путь, его не послушались. Он один полез в гору, все потащились через равнину. На вершине горы Саша остановился, посмотрел вниз. Класс вытянулся гуськом, никто не лез вперёд, но никто и не отставал. Саше показалось, он слышит сосредоточенное, старательное сопение, видит красные от мороза щёки, блестящие глаза, заиндевевшие ресницы. Вот тогда-то на горе, откуда рукой было подать до станции, он понял, что любит тянущихся через снежную равнину одноклассников. За что? Да просто за то, что они живые люди. Вероятно, это было нелепое прозрение, но, стоя на горе, Саша плакал, и слёзы превращались в ледышки.
И впоследствии доводилось ему переживать похожее. То вдруг к окну кидался класс (что-то произошло внизу), Саша не двигался, замирал, жадно вглядываясь в родные, сжигаемые единым стремлением узнать, выяснить, что там, глаза, лица. Или в музее, стоило одному отклониться в какой-нибудь боковой зальчик, все немедленно устремлялись следом, хотя, убей бог, ничего интересного там не было.
Позднее Саша понял: он любил людей, когда они были самими собой. Стремление же к свободе, ненависть к несправедливости Саша полагал для человека столь же естественным, как, скажем, смотреть на улице в ту же сторону, куда смотрят другие. В эти мгновения Саша видел людей не такими, какие они есть, а какими должны быть, и любил, вероятно, не столько их, сколько себя в них. Странная была любовь. Но другой он не знал. Впрочем, озарения проходили, в действительной же жизни вопрос о любви не стоял.
Или всё-таки стоял, потому что Саша один находился в вестибюле среди пустых вешалок, бездарных стендов на гулком каменном полу, в то время как остальные веселились. И никому не было до него дела, даже ближайшим друзьям: Косте и Наде.
Тут было противоречие.
Саша ничего не хотел для себя одного, хотел для всех. Но как быть с этими всеми? Послать их к чёртовой матери, отбросить сомнения, близки или не близки им твои представления? Делать то, что считаешь нужным, потом рассудят, прав был или не прав? В иные моменты неправильные действия предпочтительнее правильного бездействия. Надо лишь решиться. Но в перспективе сей путь предполагал насилие. Тут было другое противоречие, которое в отличие от первого разрешалось просто: следовало сознательно свершить, преступить. Решиться на это с холодной душой Саша не мог. Пока ещё он не исчерпал веру в благородное, высокое насилие, которое в момент свершения перерождается в освобождение. Так, из гладкого дыма, ползущего чёрного тления вдруг возникает чистое пламя. Впрочем, Саша понимал: это поэзия, в жизни всё будет не так. Он стоял у черты, которую следовало или преступить, или же развернуться и уйти прочь, не оглядываясь.
Пока же он намеревался уйти, не оглядываясь, из вестибюля. Но вдруг увидел спускающуюся по лестнице Надю. Обычно белое, надменно-фарфоровое её лицо было румяным.
– Ты прямо как Наташа Ростова на первом балу, – сказал Саша.
– Это комплимент? – усмехнулась Надя, помолчав, добавила: – Ты не поверишь, но я не читала «Войну и мир». Фильм, где кони по кругу, смотрела, а книгу не читала. Я много потеряла?
– Так ведь никогда не поздно прочитать.
– Ты, как всегда, прав, – серьёзно ответила Надя, – я так и сделаю. Завтра же начну.
Саша отчего-то вспомнил воспоминания Наполеона Бонапарта, сочинённые им на острове Святой Елены. Он недавно записался в историческую библиотеку, заполнил формуляр на десять, наверное, книг, однако все, за исключением Наполеона, оказались на руках. «Почему вы не хотите сделать с книг ксерокопии? Чтобы все могли получить?» Девчонка-выдавальщица не поняла вопроса.
Так вот, Бонапарт утверждал, что военачальнику следует отдавать предпочтение людям, в минуты опасности краснеющим, а не бледнеющим. Краснеющий человек испытывает прилив крови, он энергичен, способен мыслить, решительно действовать. Бледнеющий, наоборот, испытывает слабость, головокружение, паралич воли, он лёгкая добыча для неприятеля, проку от него никакого. Саша подумал, что Надя, вне всяких сомнений, добыча для неприятеля трудная. «Только зачем она меня отвлекает? Я и не собираюсь спрашивать, где она была!»
Он не собирался, потому что знал.
И Надя знала, что он знает.
Её лицо сделалось совсем безмятежным. Саша подумал, если бы Надя жила в те времена и если бы Наполеон терпимее относился бы к женщинам, он мог бы произвести её в капралы.
– Кости не будет, – спокойно произнесла она, – он пошёл домой. Шампанское его доконало.
– Но я надеюсь, он проспится и вернётся? Надя пожала плечами.
Саша протянул руку, провёл по блестящим Надиным волосам. Она не отстранилась, но и не подалась навстречу. В волосах запутались тополиные пушинки. Должно быть, они с Костей были на улице. А может, на крыше. Или где-нибудь, где было открыто окно. Они могли быть где угодно.
«Вот и выбрала», – подумал Саша. Он не держал обиды на Надю и не знал, что будет дальше. Ему захотелось отвлечься от этих мыслей. Но что он мог в вестибюле? Разве что сальто?
– Смотри! – Саша отошёл в угол, разбежался и, как ни странно, легко его исполнил. – Ещё смотри! – удалось ему и весьма непростое боковое.
– Сделано, – засмеялась Надя, – не спорю, сделано. А вот так! – выбрав местечко почище, она плавно опустилась на шпагат. Подала Саше руку, пружинисто поднялась.
Саша обнял её. Он почему-то робел, хотя уже давно не робел в подобных случаях. Саша как будто принимал от Нади подарок, хоть и ожидаемый, но неожиданный. А сейчас – вдвойне неожиданный. «Только где? – подумал Саша. – Не в моей же швейной мастерской? И не под тополем же?»
Сзади кто-то кашлянул. Саша отпустил Надю. В дверях стоял представительный мужчина.
– Молодые люди, не могли бы позвать Таню Лохову? – голос его в пустом вестибюле звучал уверенно, командно. Сразу чувствовалось, привык человек отдавать распоряжения.
Сашу изумила гладкая, розовая, как у младенца, кожа на лице мужчины. У Сашиного отца, к примеру, лицо было морщинистое, серое, с навечно въевшейся копотью. Мужчина, судя по всему, работал в иных условиях, питался иными продуктами. Если какое и угадывалось в нём нездоровье, так от избытка в крови холестерина. Слишком много чёрной икры, карбоната, осетрины, прочих калорий.
– Сейчас позову, – буркнула Надя. Ей тоже не понравился холёный начальствующий тип.
«Отец, что ли?» – подумал Саша. Но вспомнил, что у Лоховой нет отца. Отчим? Мать Лоховой работала медсестрой в больнице, была в солидных летах и вряд ли могла рассчитывать на такую партию. «Да мне-то что за дело?» Лохова совершенно не интересовала Сашу. Маленькая, беленькая, кудрявая, она вела таинственную жизнь. В школе не выделялась. Тянула на троечки, помалкивала, прикидывалась скромницей. Но раз Саша встретил её ночью на проспекте Маркса, лихо разодетую, накрашенную, пьяноватую. Она взялась энергично зазывать его в «Националь». Саша, посмотрел сквозь чистое толстое стекло на тугие белые скатерти, серебрящуюся мельхиоровую посуду, наконец, на адмирала-швейцара, неподкупно вставшего в дверях, и выразил сомнение в возможности немедленного посещения сего престижного заведения, куда к тому же стояла внушительная очередь. Лохова в ответ расхохоталась. «Идёшь?» – «Не при деньгах», – Саше надоел бессмысленный разговор. «А!» – Лохова выхватила из сумочки пачку купюр. В ярком жёлтом ночном освещении явственно было видно, что некоторые из них иностранные. Суровый Александр Гамильтон, распушив бакенбарды, выставился на Сашу. «А как же уроки?» – усмехнулся Саша. Лохова открыла рот, чтобы выругаться, но тут её окликнули из подъехавшего такси, она убежала, забыв про Сашу.
В актовом зале по-прежнему гремела музыка.
Появилась Лохова.
– Смола сейчас придёт, – сказала Саше, нехотя подошла к мужчине.
Саша услышал звук оплеухи. Подумал, что ошибся, но трудно было ошибиться. Не приветствуют же Лохова и этот почтенный дядя друг друга одиночными хлопками? Поначалу было неясно, кто кого ударил, но потом дядя схватил Лохову за руку, потащил к выходу. Стало быть, бьющей стороной был он. Лохова упиралась, но всё же шла. Всё это было крайне неприятно.
– Таня, – спросил Саша, – тебя здесь никто не обижает?
Лохова не успела ответить.
– Дрянь! – заорал дядя, уже по-настоящему ударил её в лицо. – А ты давай-давай, защищай! Она и тебя наградит!
Саша замычал от удовольствия. Хоть так поквитаться с икорно-осетринным, рычащим в телефоны, розовомор – дым начальничьим миром! Хотя, конечно, вряд ли дядя был большим начальником, из тех, что носят на лацкане депутатские значки – свидетельства народного доверия. Большой начальник не стал бы рисковать, приезжать в школу. Наверное, это был обезумевший от воровства торговый чин, какой-нибудь деятель из треста ресторанов.
Саша в два прыжка нагнал милую парочку. Самое удивительное, дядя пытался драться: ругался, брызгал слюной, ткнул Сашу кулаком в плечо.
Тут ещё Лохова мешала, путалась под ногами!
Саша подождал, пока она отбежала в сторону, с плеча ударил дядю в скулу. Сытое изумлённое лицо лязгнуло, дядя качнулся, но удержался на ногах, зачем-то ухватил Сашу за лацканы постылого пиджака. Этого делать не следовало. Саша взмахнул руками, твёрдыми рубящими рёбрами ладоней ударил дядю по рукам, потом ими же – по ушам. Тут он умерил силу, но дядя всё равно рухнул на пол. Саша ухватил его за шиворот, как мешок с мусором вытащил на улицу.
В вестибюле Надя и Лохова встретили его как героя. Это, конечно, было приятно, однако Саша всегда стремился к геройству иного плана. «Сутенёры, вышибалы, – подумал он, – разве они герои? Хоть им и приходится драться каждый день».
– Извините, он сам этого хотел, – сказал девушкам. У Лоховой под глазом расцветал огромный синяк. Но она не унывала, энергично его замазывала-запудривала.
– Почему же, это было красиво, – на мгновение оторвалась от зеркальца Лохова.
– А красота, как известно, спасёт мир, – добавила Надя.
– Не этот мир, – усмехнулся Саша, – этот мир красота не спасёт.
– Ты бы мог неплохо зарабатывать, – щёлкнула пудреницей Лохова. – Столько разной сволочи пристаёт по ночам к бедным девушкам.
– Лечиться надо, – посоветовал Саша.
– Это чушь! – возмутилась Лохова. – Я вообще не знаю, кто он такой!
Саша и Надя вышли на улицу. Земля под деревьями казалась белой от тополиного пуха. Обошли школу. Гремящая музыка сделалась тише. В укромном месте у слепой стены спортзала Саша обнял Надю. Тополиных пушинок в её волосах было не сосчитать.
– Никогда не поверю, что ты не читала «Войну и мир», – сказал Саша, – ты читала, а над некоторыми страницами даже плакала.
– Плакала, – повторила Надя, – да только что толку?
Она знала, что будет дальше. И не жалела. Единственно не могла понять, отчего её холодное равнодушное сердце так спокойно за слабого, истеричного, едва не выбросившегося из окна Костю и так тревожится за сильного, справедливого Сашу, словно одному жить вечно, другому не жить вовсе.
1987








