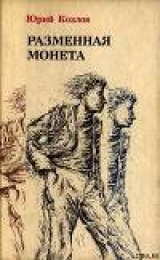
Текст книги "Имущество движимое и недвижимое"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Этого Костя не знал. Так же как и кто прав: Саша или профессор? Косте всегда казалось, на каждые две существует третья – его – точка зрения, настолько естественная и правильная, что её даже не надо высказывать, словесно формулировать. Она – в нём самом – как незримый компас, как рельсы, по которым он едет, не видя их. Если бы кто-нибудь сказал Косте, что эта точка зрения стара как мир, что имя ей – равнодушие – он бы очень удивился.
Костя вернулся в комнату. Письмо было закончено. Собирались расходиться. Отец что-то втолковывал известному престарелому писателю. Писатель был сед, артистичен, простые действия превращал в ритуал. Впрочем, добродушие, ласковость, братский интерес к собеседнику могли у него в любой момент обернуться резкостью, оскорбительной грубостью. Если что-то было не по его. Ухо с ним надо было держать востро.
Костя вспомнил, как однажды писатель осадил Васю. Сидели у них дома за столом. Разговор вёлся шутливый, непринуждённый. Писатель всегда был душой застолья, роль эту никому не уступал. Он прожил интересную жизнь, знал множество забавных историй, а главное, был обаятелен, умел рассказывать. «Наш имам», – произнёс кто-то. «Имам?» – насторожился писатель. «А как же? Старейшина, патриарх российской литературы! Да что там российской, мировой! – уважительно загудели присутствующие. – Имам, имам!» А Вася почему-то добавил: «Баялды». И каждый раз потом, когда звучало слово «имам», он непременно добавлял это глупое «баялды». «Прекра-а-ти! – вдруг закричал писатель. Когда он кричал, голос его становился тонким, капризным. – Прекра-ати! Тебе будет приятно, если я скажу тебе: «х…!»
А между тем за столом сидели женщины. Костина мать окаменела лицом. Когда она вот так каменела лицом, её уже ничто не могло смутить, вывести из себя. Костя жалел мать, ему казалось, жизнь для неё в эти мгновения останавливается. Костя за всю жизнь не слышал, чтобы мать возвысила голос. Когда она входила в комнату, где бушевали отец, ребята, те невольно умолкали. Всё вдруг становилось относительным. Оказывается, существовали другие люди, другие миры, в упор не замечающие отца и ребят. Это озадачивало.
Вася пошёл пятнами. «Идеолог», он не привык, чтобы на него кричали.
Мать, посидев ещё несколько минут за столом, вышла и больше не вернулась.
– А вот… Леонид Петрович, – увидел отец Костю, обрадованно повернулся к писателю. – Вот, Леонид Петрович, Константин и напишет. Парень школу заканчивает, готовится поступать на журналистику, ему и карты в руки. Пора, пора за дело! В субботу, говорите, крайний срок? Успеет, я проконтролирую.
Леонид Петрович посмотрел на Костю с сомнением.
– Так и подпишется: Константин Баранов, ученик десятого класса. Книга ведь для молодого читателя?
– Сказки, – улыбнулся писатель, – это детские сказки.
– Вот он и напишет! – сказал отец как о деле решённом. – Считай, тебе повезло! – хлопнул Костю по плечу. – У Леонида Петровича вышла книжка детских сказок. Напишешь рецензию, три странички, отнесёшь в субботу утром в газету, Леонид Петрович договорился. Смотри, не подведи, первое твоё испытание!
У Кости перехватило дыхание. Он не заметил ни недоверчивого прищура Леонида Петровича, ни затаённой ухмылки отца. Отец в последнее время частенько досадовал, что надоел «дед», то бишь Леонид Петрович, славушки захотелось под старость, а пишет галиматью. А как выступить на собрании – он в кусты: давление, лежит, встать не может… Он сделает, сделает! Россия, народ, служение идее – всё, о чём они так много и страстно говорили, всё для Кости сейчас сошлось в этом: написать, не подвести. При этом, как ни странно, он совсем не думал, хороша ли книга, понравится ли ему?
Леонида Петровича порадовал блеск в глазах юноши. Он обнял Костю, притянул к себе, поцеловал.
– Ну что ж, – ласково и в то же время требовательно взглянул ему в глаза, – благословляю, сынок… – И после паузы взволнованно возвестил: – В нашем полку прибыло!
Красивую яркую книжку Леонид Петрович подписал столь же лаконично: «Благословляю!»
«Что он там задирался с профессором? – подумал про Сашу Костя. – Прав тот, кто делает дело. Я уже, можно сказать, делаю, а он?»
Этим же вечером Костя прочитал сказки. В одной речь шла о храбром таракане. «У меня закон такой – наказую всех, кто злой. Если добрый, помогу. Я иначе не могу!» – такую таракан распевал песенку.
К утру рецензия была готова. У Кости гудела голова. Он едва дождался, пока проснулся отец. Тот начинал утро с зарядки, потом принимал душ, растирался полотенцем, брился. Всё не спеша…
– Что это? – изумился он, когда Костя за завтраком сунул ему исписанные листки.
– Как что? Рецензия!
– А… На деда. Уже написал? Так ведь надо было три страницы, а тут… – потряс в воздухе исписанными листами. – Вечером посмотрю.
– Вечером? – растерялся Костя. Неужели отцу не интересно, что он написал?
– Ты пока перепечатай, – сказал отец. – Не буду же я разбирать твои каракули.
Костя перепечатал. Получилось действительно больше, чем нужно. Ему вдруг стало всё безразлично. Захотелось спать. Последние строчки, где он сравнивал храброго таракана с… Ильёй Муромцем, показались отвратительными. Костя подумал, Саша прав: при чём тут Россия?
А вечером, когда отец наконец со вздохом принялся за чтение, Костя дрожал от волнения. Он так внимательно следил, что знал: какой именно абзац читает сейчас отец, над какой мыслью хмурится, какую строчку зачем-то подчёркивает карандашом.
– Больно ты его восславил, – сказал, закончив чтение, отец. – Зазнается дед. Эка хватил – былины, фольклор, мифы… Да деду до былин, как до… Таракан, что ли, миф? Совсем старый исхалтурился. Я тут кое-что убрал. Скромнее надо.
– Ну а вообще?
– Нормально, – усмехнулся отец, – пойдёт. Перепечатай и неси в отдел литературы. Это на шестом этаже. Они в курсе. Дед всю газету на уши поставил.
Казалось бы, отец ничего особенного не сказал, но Костя был совершенно счастлив. За ужином он приставал к отцу, мол, подскажи о чём, ещё хочу написать. Отец досадливо морщился, пусть сначала эту напечатают.
На следующее утро Костя отнёс заметку в редакцию. «Что это?» – Замотанный, молодой человек принял её с недоумением, пробежал глазами первые строчки. «Да-да, мне говорили… Это в секретариат», – тут же унёс. «Я больше не нужен?» – спросил Костя, когда он вернулся. Молодой человек пожал плечами. «Как вы думаете, напечатают?» – «Уже пошло в набор, – молодой человек впервые внимательно посмотрел на Костю. – В школе учитесь?» – «Да, заканчиваю в этом году». – «Первая публикация?» Костя кивнул. Ему хотелось продолжить разговор, хотелось, чтобы молодой человек предложил написать другую резензию, но тот как будто забыл про Костю, зашуршал, как крыса, бумажками на столе. Костя вышел. Непонятная неприязнь молодого человека не могла омрачить его праздничного настроения.
Костя почти не спал в ту ночь. Ворочался, вставал, ходил, курил под форточкой. Лишь к утру забылся тревожным сном. Снилось, что он разворачивает газету, а статьи нет! Снова смотрел – была. Переводил дыхание, успокаивался. Собирался прочитать – опять не находил! Статья была и не была одновременно. Костя извёлся. Пробуждение было как спасение.
В половине седьмого он нетерпеливо переминался у киоска, где кашляющий очкастый старик, похожий на черепаху в аквариуме, раскладывал только что привезённые кипы газет. «Есть!» Костя обнаружил рецензию на последней полосе в углу. Вроде бы текст был его. И в то же время это был какой-то чужой, чудовищный, казённый текст. В нём не было смысла. У Кости дрожали руки, пока он читал. Когда закончил, лицо горело от стыда. В рецензии не было концовки. Её попросту обрубили на полторы страницы раньше.
Но Костина фамилия стояла под колоночкой. Когда он вторично перечитал текст, ему уже было не так стыдно. Какой-то смысл в рецензии всё же был. «Что ж пусть так, – подумал Костя, – в газете, наверное, и не бывает по-другому».
Как назло, было воскресенье, хвастаться было не перед кем. Мать была в отъезде. Отец даже не взял газету в руки. «Видишь, а ты боялся!» – сказал он.
За день Костя истрепал газету до ветхости. Сквозь его рецензию проступили жирные буквы заголовка с другой полосы. Костя подумал, сколь, в сущности, быстротечно, ничтожно газетное слово. Завтра выйдет следующий номер, кто вспомнит про рецензию?
Саше он отчего-то не позвонил, не сказал. В последнее время Костино отношение к другу несколько изменилось. Ещё недавно они одинаково оценивали действительность. Они и сейчас думали, в общем-то, согласно. Но Костя чувствовал: кое-что в жизни придётся делать вопреки собственным представлениям о том, что хорошо, а что плохо. Слишком уж на высокую гору они забрались. Надо бы пониже. То была диалектика, отступление для наступления, гибкость. Но Саша не признавал такую диалектику, такое отступление, такую гибкость. Иногда Косте казалось, Саша сознательно упрощает жизнь, сводит всё к голому отрицанию, чтобы в каждом случае оставаться чистым, незамаранным. Иногда же думал, Саша в самом деле искреннее, чище его. Конечно, Саша не стал бы обсуждать с ним достоинства и недостатки рецензии, он бы просто вежливо промолчал, в лучшем случае снисходительно улыбнулся. Однако железный довод, который Костя мог привести кому угодно: рецензия была хорошая, её сократили, испохабили в редакции, Саша бы к сведению не принял. Более того, Костя бы и не посмел заикнуться об этом в разговоре с ним.
На публикацию как бы упала тень отступничества. К светлой реке радости примешалась струйка горечи. Но… от кого, от чего отступил Костя? Неужели написать хорошие слова про хорошего русского писателя – отступничество? Ну и что, что сказки не очень? Нужно для дела!
Костя подумал, что одна публикация у него уже есть, это хорошо. Осталось ещё две.
Но Саше не позвонил, не похвастался.
Зато похвастался девушке, с которой встретился вечером у метро. Её звали Наташа, она работала лаборанткой в научно-исследовательском институте полиграфического машиностроения. Была она какая-то безответная и скучная. Костя вспоминал о ней, когда уж совсем деваться было некуда. Не было случая, чтобы Наташа отказалась встретиться. Миниатюрная, светленькая, стриженая – временами она казалась Косте очень симпатичной. Наташа следила за собой, всегда выглядела ладно, аккуратненько, опрятно. Но иногда хотелось волком выть, так тоскливо-умеренна была во всём Наташа, такую несла мертвяще-правильную чушь. Костю раздражала её растительная рассудительность. Наташа не скрывала, что встречается с ним лишь до тех пор, пока не появится кто-нибудь с более серьёзными намерениями. Тогда Костя сразу получит отставку. Он не сомневался: так оно и будет. Не стоило труда представить Наташу в образе хозяйственной, добродетельной жены. Костя был уверен: в доме будет всё вылизано, но боже мой, какая там будет скука! Чего она была лишена совершенно, так это воображения, чувства юмора. Говорила каким-то суконным, словно нерусским, языком.
Костя встретился с ней у метро «Краснопресненская». Днём он слышал, отец договаривался по телефону быть у кого-то ровно в семь. Таким образом, два-три часа дома его не будет.
План был такой: погулять с Наташей до семи, может, заскочить в кафе, а с семи – домой. Тут Наташа была безотказна. Кто-то должен быть, пока нет мужа. Костя и был. Эта безотказность не вызывала у него раздражения.
Раз, впрочем, вышло недоразумение. Разгорячившись, Костя затащил Наташу в подъезд. До той не сразу дошло. «Нет! – неожиданно твёрдо заявила она. – Только дома на кровати и чтобы постельное бельё было чистое!» Требования были резонными. Костя с ними считался. Освободил в своём шкафу место, отныне держал там комплект белья, махровый халат, купальную шапочку. Наташа непременно принимала душ. И, похоже, не страшилась встречи с Костиными родителями. Парни с серьёзными намерениями что-то не спешили.
Пока отца не будет, они управятся, потом он проводит Наташу до ближайшего метро. Она жила на другом конце города, где-то за Речным вокзалом.
Они перешли Садовое кольцо, двигались по улице Герцена. Костя посматривал на стенды. Там были другие газеты. Костя и не знал, что в стране выходит столько разных газет. «Советский патриот», «Водный транспорт», «Лесная промышленность» – только той, где рецензия, не было.
Наконец показалась.
– Чуть не забыл, – равнодушно произнёс Костя, – должны были сегодня дать мой материал. Пойдём посмотрим.
Наташа, похоже, не поняла, о чём речь, но тоже приблизилась к стенду. Костя выругался про себя. Газета оказалась вчерашней.
– Сегодняшнюю надо, – сказал он, – ладно, ещё попадётся.
– Газету сегодняшнюю? – спросила Наташа. – Там что, про тебя?
– Посмотришь, – Костя вспомнил, что на Суворовском бульваре точно есть стенд. Правда, он хотел в кафе у Никитских ворот. Но ничего, можно будет потом вернуться.
Уже издали по знакомым заголовкам Костя определил, что газета сегодняшняя.
– Смотри-ка ты, – небрежно ткнул пальцем в рецензию, – всё-таки поставили.
– Это… ты написал? – изумилась Наташа.
Костя подумал, что, затащи он её в подъезд сейчас, может, она бы и не стала привередничать.
Настроение поднялось. Костя вдруг заговорил о том, как трудно проходят в газетах его материалы, о конфликте с главным редактором, о том, что лучшие его статьи до сих пор не напечатаны: боятся, снимают в последний момент. Слишком уж неприкасаемых людей он задевает, говорит то, что говорить не принято. Костя разошёлся. Он сам поверил, что всё это так, что он борец за правду. В голосе звенела искренняя боль. «Может, мне лучше в театральный?» – подумал Костя. Наташа слушала с открытым ртом. Потом зашли в гастроном. Костя купил бутылку вина, и они поехали к нему домой.
В школе рецензию вообще никто не заметил. Правда, через неделю, кажется, Костю остановила на лестнице учительница русского языка и литературы Ольга Ивановна: «Баранов, подожди… Что-то я хотела тебе сказать. А, чёрт, забыла! – молодая, длинноногая, незамужняя, она смотрела на Костю, а Костя смотрел на её блузку, где случайно расстегнулась лишняя пуговичка. – Ага, вспомнила! Я видела твою рецензию на сказки этого… забыла фамилию. Ну, не важно! Слушай, меня подруга попросила посидеть с ребёнком, там случайно оказалась эта книга, красиво издана, я пробовала ребёнку читать. Это бред, Баранов, самый настоящий бред! Ты не горячись, пиши про хорошие книжки, про плохие без тебя напишут!» – и побежала, забыв про Костю, про расстёгнутую блузку. Она всегда куда-то спешила. Ольга Ивановна вообще-то неплохо относилась к Косте, но любимым учеником у неё был Саша Тимофеев. Это было странно, потому что Саша плевать хотел на литературу.
Таков был единственный отзыв на Костин труд. Вскоре позвонил поэт, сочиняющий патриотические стихи. В разговоре он был тягуч, как-то непривычно для взрослого человека наивен. Разговаривая с ним, казалось, тянешь зубами смолу или резину. Отца дома не было, о чём Костя немедленно сообщил поэту. «Да, но мне нужны вы, Константин», – сказал поэт. «Что ему, зануде?» – удивился Костя. «Слушаю вас, Игорь Сергеевич». – «Как вам, наверное, известно, Константин, – раздумчиво начал поэт, – стихи мои выдвинуты на соискание Государственной премии…» – «Да-да, конечно, давно пора вам её получать!»
Костя вспомнил, как удивились отец и профессор, узнав, что поэт проскочил какой-то там тур. «Тихий-тихий, а смотри-ка!» – покачал головой отец. «Ты бы столько ходил-просил, – постучал по столу бумажным концом папиросы профессор, – давно бы в академики выдвинули! Игорёк с утра портфель в руки – и по инстанциям. Как на работу. Хочется человеку. Да пусть, лучше уж он, чем Раппопорт», – «Раппопорта тоже выдвинули?» – «Да. И ещё Сейсенбаева. Он и получит».
«Вот видите, Константин, вы тоже считаете, что мне давно пора получать», – живо подхватил поэт. Косте не понравилось, что он понял его столь буквально. «Да-да, конечно…» – промямлил он. «Вы можете повторить свои слова Ирине Авдеевне, она работает в… – поэт назвал литературный еженедельник, – и, между прочим, обещала поддержать мою книгу. Разговор, правда, был давно, вот вы ей и напомните». – «Да, но я… никогда не писал про стихи, – растерялся Костя, с ужасом чувствуя, что сейчас согласится, – у меня не получится!» – «Когда-нибудь надо начинать, – утешил поэт, – я ведь тоже не за себя стараюсь. Я думаю, моя премия – наше общее дело…»
Костя подумал, что в таком случае его поступление на факультет журналистики тоже общее дело, но что-то поэт ни разу с ним об этом не заговаривал.
…То, что сочинял Костя, как бы не имело отношения к убогим виршам поэта, являлось самоценным упражнением. Ах как сладко было сознавать власть над словами, над формой. Это было всё равно что спать с безотказной Наташей. Костя вдруг понял, что легко напишет рецензию на какое угодно произведение, но только если будет… абсолютно к нему равнодушен.
«А если нет?» – подумал Костя. Он не знал, сумеет ли в этом случае выразить свои мысли. Неужто истинное его мировоззрение невыразимо? Если невыразимо, существует ли оно? Косте, к примеру, бесконечно нравились роман Хемингуэя «Прощай, оружие!», повесть Сэлинджера «Над пропастью во ржи», но не приходило в голову написать о них. Это было всё равно что писать о себе самом, о тайне, хранимой в глубине души. Стало быть, истинное мировоззрение – тайна, которую каждый хранит в себе. «Что же мы все тогда выражаем? Как живём?» – подумал Костя.
Всё, что было над мировоззрением, над тайной, как бы уже не имело значения. Костины взгляды были странно уживчивы, легко перетекали в чужие, изменяли направление и качество. Профессор, между прочим, считал Сэлинджера подонком, растлителем юношества, полагал издание повести на русском языке идеологической диверсией. И Костя с ним… соглашался. Более того, приводил собственные доводы в поддержку этого дикого утверждения. То есть совмещал противоположности. Поддакивая профессору, не переставал любить Сэлинджера. Любя Сэлинджера, не переставал поддакивать профессору. И всё с чистыми глазами, без угрызений совести.
Костя даже не показал статейку отцу. В редакции еженедельника Ирина Авдеевна встретила его приветливее, нежели молодой человек в газете. Костя не стал говорить ей, что поэту «давно пора получать премию». Это было бы смешно.
Ирина Авдеевна прямо при нём и прочитала. «Сколько вам лет?» Костя ответил. «Рецензия написана вполне профессионально. Наверное, отец помогал?» – «Нет, он даже не видел». – «Ну что ж, – не поверила Ирина Авдеевна, – будем считать, что стихи Игоря Сергеевича так хороши, как вы о них пишете. Я, к сожалению, с его творчеством незнакома».
С третьей публикацией пришлось помучиться. Надо было написать репортаж или очерк – знающие люди подсказали, что лучше всего на рабочую тему. Костя, не считая хлестаковских школьных экскурсий, на заводах не бывал. Однако необъяснимая уверенность, что стоит лишь побывать, и он всё поймёт, напишет как никто до него не писал, не покидала.
Отец позвонил некоему Лунину – заместителю редактора журнала. Когда-то они дружили, но уже не виделись десять лет. Журнал выходил два раза в месяц, там были какие-то сменные полосы, на которые материалы готовились в течение недели. «Каких он взглядов, этот Лунин?» – значительно поинтересовался Костя. «Никаких, – усмехнулся отец, – алкоголик. Какие у алкоголика взгляды? Но ты сходи, может, что и получится. Не думаю, чтобы много было у них охотников на завод».
Лунин был краснолиц, сед, неуверен в себе и суетлив. Вызвал секретаршу, попросил два стакана чаю. Через минуту опять вызвал, велел узнать, на месте ли Боря Шаин – заведующий рабочим отделом. Не усидев, побежал следом, оставив Костю в кабинете одного. Костя никогда бы не подумал, что Лунин и отец ровесники. Выглядел Лунин глубоким стариком. Красное подвижное лицо сходилось и разъезжалось, как гармонь. Но Лунин искренне хотел помочь ему, это Костя почувствовал. Как и то, что власть Лунина, несмотря на внушительную должность – заместитель главного редактора, – в редакции невелика. Из окна Костя видел другое крыло здания. В коридоре у окна секретарша о чём-то оживлённо болтала с подругой, попыхивала сигаретой. Она явно не спешила выполнять распоряжение начальника насчёт чая, узнавать, на месте ли Боря Шаин.
Через полчаса примерно выяснилось, что Бори Шаина на месте нет. С Костей побеседовал другой человек. На фирменном бланке ему отпечатали «поручение», поставили печать. «Поезжай прямо сейчас, – посоветовал Лунин, – сделаешь к концу недели, сразу поставлю в номер».
Косте показалось, на заводе его не приняли всерьёз. Но это не смутило. Едва приблизившись к красным кирпичным корпусам, ступив под высокую застеклённую крышу инструментального цеха, он уже знал, как и про что писать. Из восьми членов комсомольско-молодёжной бригады – на месте оказалось четверо. Двое возили навоз в подшефном совхозе. Один сломал руку. («На производстве?» – «Ага, на производстве… Подрался в общаге, козёл!») Ещё один просто сегодня не пришёл. («Нажрался, поди, вчера, а мы тут за него отдувайся! Хоть бы позвонил, сволочь!») Не повезло и с бригадиром. Он должен был выйти из отпуска на следующей неделе. Ждать Костя, естественно, не мог. На заводской улице он наткнулся на стенд с фотографиями передовиков. Там была и фотография отсутствующего бригадира – Вахутина. Он смотрел угрюмо, губы стянуты в нитку, на щеках желваки. Костя не удивился бы, увидев такую фотографию на ином – милицейском стенде. Вахутин, стало быть, был не только надёжен, немногословен, но ещё и сердит, отечески сердит. «Потомственный рабочий, – решил Костя, – справедливость в крови!» Образ бригадира сделался совершенно ясен.
Костя купил в киоске несколько номеров лунинского журнала, почитал, как там пишут на подобные темы. Писали, по мнению Кости, превосходно. Впрочем, такова была особенность типографского на мелованных страницах слова – выглядеть превосходно. Это, казалось, и есть истина. Ни убавить, ни прибавить.
На следующий день Костя отнёс материал Лунину. Тот похвалил за оперативность, сказал, что быстро прочтёт, передаст в отдел, позвонит Косте. Костя возгордился, уже и заместитель редактора звонит ему домой! «Можно сделать неплохой снимок сверху, – заметил он, – там красивый вид на цех». Лунин посмотрел на часы: «Ты извини, у нас сейчас редколлегия».
Костя ждал день, другой. Лунин не звонил. На третий день Костя позвонил сам. «Здравствуйте, это Костя Баранов». – «Кто-кто?» – Голос Лунина звучал молодо, напористо, как будто он никогда не пил, не трясся поутру с похмелья, не пугался собственной тени, и дисциплинированная секретарша ловила каждое его слово. Костя подумал, что его эйфория насчёт начальственных звонков оказалась преждевременной. Качели качнулись в другую сторону, вновь отнеся его в туман безвестного ничтожества. «Константин Баранов, – повторил он, – вы прочитали мой материал?» – «Нет, к сожалению, не прочитал, – без малейшего, впрочем, сожаления, произнёс Лунин, – я сегодня улетаю в командировку. Подожди, сейчас посмотрю… А вот он. «Основа», да? Я прямо сейчас передаю его в отдел Боре… Борису Аркадьевичу Шаину, запиши его телефон. Позвони ему завтра, нет, лучше послезавтра. И вообще, давай поактивнее! Звони, тереби, ещё возьми задание». – «А куда вы летите?» – поинтересовался Костя, так как говорить больше было не о чем. «В Рим», – коротко ответил Лунин. Это известие окончательно прочистило Косте мозги. Они были на разных этажах жизни. «Желаю приятно провести время», – пробормотал Костя. «Да я там был уже три раза, – рассмеялся Лунин, – не исчезай, отцу привет!» На миг у Кости перед глазами встали склеротическое гармошечное лицо Лунина, трясущиеся руки. «Зачем ему в Рим? Что он там будет делать? Ведь только опозорит Россию! А… я? Неужели я никогда не побываю в Риме?»
…В назначенный час Костя переступил порог кабинета Бориса Аркадьевича Шаина. Борис Аркадьевич – Боря – оказался толстым, двухметрового роста человеком, черноволосым с проседью, с крупным носом, в роговых очках, с бритыми синими щеками. Смотреть в его лицо было страшно, таким огромным оно было. Боря был похож на фантастического очеловечившегося ворона.
Он с грохотом отодвинул стул, выбрался из-за стола. Кроме него, в кабинете находились ещё два человека. Видно, говорили о чём-то смешном, потому что на их лицах Костя застал улыбки, вызванные, надо думать, отнюдь не его появлением.
Костя протянул руку, но Боря вдруг остановился на полпути, Костина рука повисла в воздухе.
– Вот он! – Голос Бори загремел как иерихонская труба, поросшая крупным волосом, длань грозно протянулась в сторону Кости. – Вот юноша, посчитавший журналистику дармовым хлебом, едва освоивший грамоту, но уже решивший, что может судить-рядить о проблемах, в которых ни уха ни рыла не понимает! Сколько ты времени провёл на заводе? Знаешь, что такое фреза, резец, суппорт? – Боря стоял посреди кабинета, как колосс, как столб, как чудовищный Кинг-Конг, каждое его слово оглушало, как удар, потому что было правдой. – Ишь, развёл гладкопись! – ревел Боря. – Откуда в тебе этот цинизм, это равнодушие к людям, к судьбам? Лишь бы захапать гонорар! Да ты просто-напросто презираешь рабочий класс, считаешь работяг идиотами! Как же: готовишь себя к лучшей участи! Это же надо, так молод, а пишет так, словно истины не существует в природе! Лгун! Да в худшие сталинские годы не занимались такой лакировкой. Если уж решил – хотя, собственно, почему ты решил? – что можешь сидеть за столом, тюкать на машинке, в то время как другие трудятся в поте лица, чтобы тебе было что жрать, во что одеться, так хоть имей совесть, сострадание к рабочему классу! Не оглупляй его, не оскорбляй заведомой ложью!
Костя стоял оглушённый, ему казалось, происходящее не имеет к нему отношения, потому что такое унижение невозможно пережить.
Может быть, поэтому мысль работала чётко.
Вне всяких сомнений, Боря говорил правду. Но не всю. Точнее, лишь в плоскостном, евклидовом, измерении. В объёмном же измерении правда заключалась в том, что все здесь так или иначе грешили против совести. Достаточно было прочитать любой номер журнала. Конечно, не столь наивно-простодушно, как Костя, но грешили. И получали за это гонорары.
Так что, если бы Боря был бесстрашным воителем за истину, каким сейчас представлялся, ему следовало бы гораздо раньше заклеймить всех и вся, всю современную подцензурную журналистику, всё общество. И оказаться на сто первом километре или в сумасшедшем доме.
Но, судя по сытому рыку, начальственной повадке, дорогому костюму, Боря этого не делал. Скорее наоборот. Вне всяких сомнений, сейчас он говорил правду. Только Костя не верил, что Боря – правдивый, искренний человек. Будь Боря таковым, он не стал бы «шить» Косте единоличное дело. Костя жил в обществе и, следовательно, не мог быть свободным от общества. Боря же приговаривал его к «расстрелу» за катушку ниток, выставлял единственным ублюдком в чистом, прекрасном современном мире, не касался причин, доведших общество до состояния, когда человек изначально готов лгать, совершенно при этом не думая, что лгать – гнусно, более того, полагая это едва ли не единственным способом чего-то добиться в жизни.
– Твой очерк, – Боря брезгливо вернул Косте соединённые скрепкой страницы, – стыдно предлагать не только во всесоюзный журнал, но и в многотиражную газету. Мой тебе совет, старик: забудь про журналистику, займись другим делом, у тебя ещё есть время выбрать. Да, – небрежно закончил он, – я слышал, у тебя отец вреде что-то пописывает. Почему он тебя не остановил, не подсказал? – Боря изобразил на огромном лице тревожное удивление: как же так оплошал отец?
Костя, не говоря ни слова, вышел. Голова кружилась, лицо горело. К счастью, редакционный коридор был пуст. Лунин, наверное, в этот самый час любовался Колизеем. Хотелось порвать страницы в клочья, но урны поблизости не было. Костя быстро спрятал очерк в сумку. «При чём здесь отец? – подумал он. – Какое этому Боре до него дело?»
То была спасительная мысль. Она переводила справедливые Борины слова в иную – идейную – плоскость. Там действовали системы кривых зеркал. Хорошее, талантливое для одних оказывалось плохим, бездарным для других. Хвалил же Костя сказки Леонида Петровича, стихи Игоря Сергеевича, которому «давно пора давать премию». Ругал вместе с профессором Хемингуэя и Сэлинджера, писателей, лучше которых не знал.
Неужто же литературная жизнь столь густо, бессмысленно пронизана сообщающимися капиллярами, что капля яда, предназначенная отцу, упала на нос Косте? Что же это за борьба идей, если она выражается в злобе, ругани, а не в мыслях, системах доказательств? Помнится, он говорил об этом с Сашей. «Если злоба и ругань, – сказал тот, – значит, подлость и бессилие. Возня у корыта, чтобы жрали только свои».
«Идиот! – ругал себя Костя, спускаясь по бесконечной лестнице. – Телок! Это же чужое корыто! Боря Шаин на стрёме. Ишь, раззявил хайло… Получил…»
Дома он перечитал очерк. Стало стыдно. Следующим утром Костя поднялся чуть свет, поехал на завод. Утренняя смена заступала в шесть. Переделал очерк. Показал отцу.
«Нормально, – сказал отец, – только слишком мрачно. Такое впечатление, они там, как наш Щегол, гнут горб, и всё». – «А что ещё?» – «Должно быть что-то ещё, – сказал отец, – сам, что ли, не понимаешь?» – «Водочка, – сказал Костя, – десятилетняя очередь на квартиру, ну, ещё торгуют вынесенным через проходную инструментом». – «Тогда надо писать критический материал, – пожал плечами отец, – привести конкретные факты, фамилии. А у тебя ни то ни сё. Да, гнут горб. Ну и что? Все гнут горб».
Костя показал очерк Васе, рассказал, как встретил его Боря Шаин. При этом, правда, не уточнил, что очерк был другой. «Шаин? – задумчиво забрал бородку в кулак Вася. – Здоровый такой, в роговых очках?» – «Да-да, заведующий рабочим отделом». – «Ха, – хмыкнул Вася, – я его ещё знал, как Борю Шайна. Гляди-ка ты, шуганул с фамилии птичку. Чего ты от него ждал, зачем вообще ходил к нему?»
Вася отправил Костю к другому человеку – во всесоюзную отраслевую газету. Тот сказал, что в принципе материал ему нравится, есть два предложения: первое – вполовину сократить, второе – высветлить, добавить положительных фактов. «Никто не требует лакировки, но надо видеть и светлые стороны действительности. Вот вы мимоходом замечаете, что они держат цеховое переходящее знамя. Надо поподробнее. Или этот… Лылов… занял первое место в районном конкурсе «Лучший по профессии». Развить, прописать. У нас есть рубрика «Руку, товарищ бригада!». Посмотрите, как там пишут, и давайте в таком же духе».








