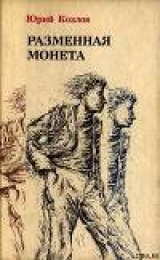
Текст книги "Имущество движимое и недвижимое"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Весенние поездки на кладбище в Одинцово, где были похоронены родители матери. Саша их совершенно не помнил, отец же ухаживал за могилами, как за родными. Может быть, потому, что его собственные родители безвестно сгинули?
Непременная водочка на скамейке, долгое тупое сидение под птичьи крики…
Отец с матерью как бы очутились между двух жизней. К одной опоздали, к другой не приладились. Вместо веры в Бога – пустота, чёрная дыра, где, как вычитал Саша в одной книге, «строго и жучковато». Вот этим пустоте, «жучковатости» или попросту страху, заменившему веру в Бога, Саша изо всех сил и противостоял.
Но родители кормили, одевали его. Неприлично было доказывать им, что они не такие. Другими им всё равно не бывать. Их священное право – жить как они считают нужным. Его – не принимать их жизнь, жить по-своему.
Отец хмуро смотрел на прыгающего вокруг самодельной груши, забавляющегося с гирей, с гантелями Сашу, но больше не трогал.
Следующим этапом была школа. Родители могли давить его под предлогом, что он якобы плохо учится. Саша стал учиться хорошо – с отвращением постигая дисциплины точные, находя некоторое даже удовольствие в гуманитарных. Однако окончательно определиться не мог. Выбрать значило примириться с действительностью. Примириться – увидеть смысл в гуманитарной или технической деятельности. Но при том, какая была действительность, смысла ни в той, ни в другой деятельности не было. Всё чаще Саша думал о третьем пути. Боялся, гнал опасные мысли, но не думать не мог. И чем больше думал, тем увереннее, спокойнее становился. Действительность должна стать другой. Чтобы любой путь – гуманитарный, технический, какой угодно – обрёл смысл. Пока этого нет, третий путь неизбежен. Хоть и ведёт к безвестной могиле. Саша понятия не имел – куда, в какой институт будет поступать после школы. Все институты казались ему одинаковыми.
Сложнее было с независимостью материальной. Отец неплохо зарабатывал на заводе, одно время имел даже подержанный «Москвич», пока не лишили водительских прав за управление в нетрезвом виде. Он вытачивал на заводе так называемые «секретки» для колёс, разные дефицитные детали, загонял во дворе автомобилистам. Впрочем, «загонял» не то слово. Те умоляли отца сделать то или это. Соглашаясь, он как бы оказывал одолжение. Если, допустим, лицо заказчика не нравилось, мог послать куда подальше. Где ещё так уважают человека труда?
Мать работала по совместительству в кинотеатре уборщицей. Даже эта – скромнее некуда! – должность позволяла ей притаскивать домой сумки с бутербродами, сломанными шоколадными плитками, песочными и миндальными пирожными. Видимо, общественный продукт расхищали не только те, кто непосредственно производил, принимал, хранил, перевозил, продавал, но и кто просто ходил с тряпкой поблизости, как, например, мать. Когда кто-то возмущался, что в магазине нет мяса или сыра, Саша думал: удивительно не то, что нет, а что потом появляется. Частенько они ужинали бутербродами, пирожными из материнской сумки. У Саши кусок в горло не лез. «Осуждаешь?» – однажды спросил отец. Он был приметлив, верно схватывал чужие мысли. «Я сыт», – ответил Саша. «Сейчас? – усмехнулся отец. – Или вообще?» Чтобы прекратить бессмысленный разговор, Саша взял пирожное.
Когда возникала нужда в карманных деньгах, он спрашивал у матери. Когда требовалась солидная сумма, скажем, на покупку куртки или ботинок, приходилось обращаться к отцу. У того, как ни странно, подобные просьбы раздражения не вызывали. Скорее наоборот. «Сколько, говоришь, хотят? – хмуро переспрашивал он, ковыряя твёрдым, как долото, пальцем ладонь. – Это за ботинки-то? Вот уроды! Ладно, получу в субботу за халтуру, дам…»
Но, после того как взяли проклятый участок, всё нарушилось. Побывав там раз, Саша наотрез отказался ехать в следующий. Крутиться с гнилыми досками, отбиваясь от комаров, на диком болоте было для Саши продолжением неприемлемого. Это было всё равно что работать на предприятии, выпускающем никому не нужную продукцию; опускать в урну бюллетень за абсолютно неведомого человека, благообразно выставившегося со стандартного застеклённого листка; стоять три часа за чем-нибудь в очереди с чернильным четырёхзначным номером на руке; жить весь срок в коммунальной квартире, зная, что и на кладбище тебя понесут через омерзевший коридор мимо чужих дверей. Однако объяснить это отцу было невозможно. Он врылся в участок, как крот. В Сашином нежелании туда ездить увидел единственно блажь и лень. «Ну-ну, смотри, парень, как знаешь, – не стал уговаривать отец, – только ведь всякий труд во благо, я правильно понимаю?» – «Только небессмысленный, не дозволенный в виде издевательства, – возразил Саша. – Тебя будут мордовать на болоте за летнюю кухню, а какая-нибудь сволочь задарма возведёт особняк на сухом месте у реки». – «Значит, парень, вообще не строить?» – «Строить, но по-человечески, а не как будто крадёшь».
Они больше не возвращались к этому разговору, но когда Сашины джинсы окончательно протёрлись – латать далее их было невозможно, он понял, что не сможет попросить у отца денег на новые. Вообще не сможет попросить. Обмен мнениями по поводу участка как бы развёл их по разным берегам. Теперь между ними протекала река, имя которой было принцип, и попросить денег значило засвидетельствовать, что нет в мире такой реки, а есть лишь носимые ветром, как пыль, слова.
Нельзя сказать, чтобы Сашу обрадовала досрочная самостоятельность. Он уже и в кафе похаживал с девушками, тратился на цветочки, шампанское. Об одежде и говорить не приходилось. Надо было покупать, переплачивая, у фарцовщиков, спекулянтов. Саша скорее согласился бы голодать, нежели надеть отечественные – с мотнёй до колен – брюки, чудовищную, криво пошитую рубашку. Что толку быть стройным и благородным, если на тебе отечественные штаны? Девушка предпочтёт любого – одетого как положено – ублюдка.
На дворе стояло время, когда встречали и провожали по одёжке. В местах, где собиралась молодёжь, джинсы ценились более, чем ум, честь и совесть. Покончить с молодёжным безумием можно было мгновенно и элементарно: сделать джинсы общедоступными. Но вместо этого с ними «боролись». Некоторые смышлёные люди приравнивали джинсы к контрреволюции, идеологической диверсии, организовывали газетные кампании, устраивали по радио посмешище на всю страну – «суд над джинсами». Занимаясь этим, они дорастали по службе до персональных машин, продовольственных пайков, закрытых магазинов, где без хлопот покупали эти самые джинсы для себя и членов семьи. А между тем миллионы рублей, полученных как зарплата, допустим, за производство отечественных штанов, точно в бездонную бочку уходили в карманы фарцовщиков и спекулянтов, торговавших джинсами, нужными всем. А оттуда – растекались гноем, заражая всё вокруг. Таков был главный результат «борьбы». Это было совершенно очевидно десятикласснику Саше Тимофееву, но почему-то не очевидно тем, кто решал, как быть с джинсами в масштабах государства.
Саша до сих пор помнил, какое первобытное счастье испытал, когда, надев первые в своей жизни джинсы, вышел на проспект. Ему казалось, он не идёт – летит, душа замирала от восторга, на лице блуждала улыбка идиота. Как мало надо, чтобы сделать молодого человека счастливым! Но в этой малости ему отказано. Счастливыми были спекулянт-фарцовщик да «борец» с джинсами.
Саша вспомнил, какое отчаянье охватило его, когда он увидел, что единственные джинсы безобразно разорвались – словно разинули пасти – уже по зашитому на коленях, что ранее поставленные заплаты не держатся на измочаленной, застиранной до прозрачности материи, что завтра – о, господи! – придётся выйти во двор в отечественных брюках. Да как он войдёт в беседку, где собирается их компания? Саша был гордым, самостоятельным парнем, но джинсовую моду ему было не одолеть.
В их квартире между кухней и ванной была кладовка – крохотное помещеньице без окна, но с дверью. Здесь всегда было темно и сухо. Вдоль стенки тянулись тёплые и запотевшие трубы горячей и холодной воды. Как колонна, проходила толстая труба мусоропровода, внутри которой с шумом пролетал мусор. В кладовке хранились отцовский сундук с инструментом, старые Лидины этюдники, холсты, подрамники, кастрюли, вёдра, цветочные горшки.
Здесь – под тусклой, годами не зажигавшейся лампочкой – Саша острым, как бритва, сапожным ножом распорол джинсы, вернее, то, во что они превратились, по швам, брезгливо бросил жалкую кучку лохмотьев на крышку сундука. Медная шириночная «молния» матово посвечивала. Она была готова служить второй срок. Саша чувствовал себя язычником, покусившимся на идола. «Из-за этого дерьма, из-за тряпок, – подбросил в воздух лоскуты, – столько переживаний. Сколько они значат в нашей жизни. Так почему, – стиснул кулаки, – нельзя пойти в магазин и купить?»
Его охватил приступ нервного смеха. Старые джинсы перестали существовать. Новых он купить не мог. Он не мог выйти во двор, потому что не было джинсов. Но и не выйти только потому, что их не было, тоже не мог.
Между двумя «не мог» словно проскочила электрическая искра. «Кто я? – подумал Саша. – Человек или тварь дрожащая? Я вызываю вас на бой! – крикнул лоскутам. – Поборемся, посмотрим, кто кого! Человек – звучит гордо!»
Разъятый идол был равнодушен и безгласен. Саша почувствовал в руках зуд, хотелось немедленно приняться за работу. Ему казалось, это не он минуту назад едва не рыдал от бессилия. Впрочем, человеку в такие минуты всегда кажется, что он другой и назад пути нет. Главное – каков человек на следующий день, когда выясняется, что он прежний, а путь назад есть.
Сейчас Саше думалось, всё было легко и просто, но в те дни он был близок к помешательству.
День ушёл на переоборудование кладовки. Саша вымыл пол, стены, ввернул яркую лампочку, надел на неё конический жестяной козырёк, чтобы свет падал направленно, установил старый кухонный стол, достаточно широкий, чтобы на нём кроить. Попросил у Лиды швейную машинку. Та купила её несколько лет назад, получив гонорар, да так и не удосужилась распаковать. Несколько раз порывалась сдать в комиссионку, но и на это сил не хватило.
Весь следующий день он возился с машинкой. Изучал инструкцию, смазывал, чтобы не стучала, учился вести строчку. К вечеру швы стали выходить ровными, словно он их вёл по линейке. Помнится, Саша долго не мог заснуть. Закрывал глаза: стучала машинка, стелилась бесконечная строчка, из лоскутов рождались дивные штанины.
Утром Саша поехал по магазинам. Конечно, джинсовой ткани там быть не могло, но стояла весна, он надеялся купить белую или голубую хлопчатобумажную. Это был бы высший шик – одеться по сезону. Будто бы по причине жары он перешёл на лёгкие летние джинсы. Но ничего похожего в магазинах не было. У Саши темнело в глазах, когда он входил в очередной. Казалось, невидимая когтистая лапа выгребла всё яркое, светлое, развесила повсюду коричневые и чёрные вонючие ворсистые отрезы. Из разговора тёток, злобно ощупывающих толстенный драп, Саша узнал, что вчера вечером в фабричном магазине в Орехове-Зуеве была саржа по два тридцать за метр. «Дура я, дура! Не взяла!» – сокрушалась тётка.
Саша не помнил, как оказался в метро, потом на многолюдном Курском вокзале, где цыгане чуть не набили ему морду, потом в стучащей по рельсам, как швейная машинка, электричке владимирского направления. В магазин он ворвался перед самым закрытием. Саржа кончалась. Саша ухватил последние пять метров.
В ночи, в крохотной кладовке, на кухонном столе под ярким пыточным светом он опускал на саржевое полотно джинсовые лоскуты, тщательно обводил карандашом контуры, вырезал, чтобы сшить их точно так же, как некогда были сшиты джинсы. Это был труд на грани вдохновения. Саша сам удивлялся своей ловкости – как сходились швы, как из небытия возникало что-то похожее на штаны. Но не светлым было вдохновение. Не добровольное стремление научиться портновскому мастерству подвигало Сашу на ночные бдения, но ненависть, воля и отчаянье. Надеяться можно было только на себя.
Велико было искушение надеть – они вполне бы сошли за польские или венгерские – джинсы на следующий день. Но Саша обнаружил досадные мелкие недоделки. Где-то кривился шов, где-то морщинился материал. Ему не хотелось, чтобы окружающие, глядя на его штаны, задавались сомнением. Сразу после школы Саша отправился в хозяйственный магазин, где вдруг оказался голубой немецкий краситель для хлопчатобумажных тканей. Саша не удивился. Стоило пересилить судьбу в главном, в мелочах она уступала сама. Вечером он всё доделал, поставил на пояс кожаную нашлёпку, развёл в огромной кастрюле краситель, прокипятил и прополоскал штаны.
Отныне Саша не ведал сложностей с одеждой, так отравляющих жизнь молодым людям. Да и не только молодым. Усовершенствовав своё умение, Саша оставил в дураках как государство, почему-то не признающее за гражданами право одеваться по моде, так и спекулянтов, дерущих за моду слишком дорого.
Случалось ему и шить на продажу. Наверное, это было не очень хорошо, но он плевать хотел. Во-первых, то был его труд. Во-вторых, не его вина, что в магазинах ничего не было. Кто-то, стало быть, рассудил, что так надо.
В штаны, предназначенные для продажи, Саша вшивал иностранные этикетки, ставил на внутреннюю сторону кармана якобы иностранно-фабричный штамп. Был у него штемпель с гербом – «Библиотека Д. В. Р.», «Библио», а также «а» и «Д. В. Р.» он аккуратно заклеил. Буквы «Тек», витиеватый герб должны были успокоить самую недоверчивую душу. Впрочем, овладевшими штанами счастливцам было не до этого.
Ни Костя Баранов, ни Надюша Смольникова, никто из друзей и представить не мог, что Саша шьёт-пошивает, крутится, куря и кашляя, ночами вокруг стола с сантиметром на шее, словно дореволюционный еврей.
Саша притащил в кладовку раскладушку, частенько лежал там, читая или просто глядя в потолок. Кладовка – грубые крашеные слепые стены – напоминала тюремную камеру. Только вряд ли в настоящей камере Саше позволили бы вот так валяться. Из комнат Сашу тянуло в кладовку, из кладовки – на свет божий. Пока что это была игра в свободу-несвободу. Сашу было не за что сажать в тюрьму, однако от мыслей о ней было не избавиться. В сущности, думал Саша, человек всю жизнь мается между свободой и несвободой. Можно сделаться внутренне свободным от властей, от радио-газет-телевизора, но не от родителей, друзей, общих представлений о жизни, о тех же свободе и несвободе. Они же таковы, что тюрьма для невиновных не кажется чем-то из ряда вон. «Интересно, – подумал Саша, – у какого-нибудь другого народа есть пословица, что «от сумы и от тюрьмы не зарекайся»? То есть изначально готовься быть нищим и посаженным?» Стало быть, власть, если она по-настоящему народна, не может игнорировать эти чаяния? Тут начиналась неизбывная тоска. Саша успокаивал себя, что процесс познания бесконечен. Быть может, со временем бронированный порог тоски отодвинется, он поймёт что-то, чего сейчас не понимает?
Друзья не могли представить, что он шьёт. Родители – что делает из этого тайну. Из двух Сашиных сущностей, таким образом, возникла третья, одинаково неведомая друзьям и родителям. Давно известно, где сущностей более чем две, там их бесконечное множество. Вот только счастья они не приносят, нет, не приносят.
Впрочем, Саша не думал об этом, поворачивая ключ в замке, входя в квартиру. Он стоял на пороге в темноте – только в конце коридора, где ванная и туалет, горела в матовом, сталинских времён, плафоне лампочка – и не мог разобраться в собственных чувствах. Любит ли он свой дом? Будет ли ему жаль с ним расстаться?
Конечно же, он любил дом. Любил двор, Москву-реку, набережную, по которой они столько лет гуляли, дикий противоположный берег, где вечерами жгли костры, раскачивались на самодельных качелях. Любил подъезды, лестничные площадки своего дома, выложенные плиткой или паркетом полы, окна, широкие мраморные подоконники, парадные и чёрные лестницы, высокие белые двери с табличками номеров квартир. Поначалу всё в доме было единообразно. Но со временем единообразие разрушалось. Разрушаемое единообразие свидетельствовало, что жизнь не стоит на месте. И за это тоже Саша любил дом. Любил ступенчатую, огромную, как стадион, крышу, фараоновые архитектурные излишества: башни, первобытные – с лопатами, отбойными молотками, охапками колосьев – фигуры на фасаде. Одним словом, Саша много чего любил, вот только о квартире, где жил, сказать этого не мог.
Хотя от его шагов, должно быть, стоптался коридорный паркет, от локтей – стёрлась полировка на письменном столе, за которым он столько лет готовил уроки. А здесь у двери на длинном, вбитом в стену костыле, некогда висела полосатая груша, сделанная из матраса. От постоянного её соприкосновения со стеной рисунок на обоях потемнел, засалился.
Саша вдруг подумал, что если когда и будет вспоминать эту квартиру, так прежде всего коридор – тёмный, тревожный, как туннель, из которого неизвестно есть ли выход? Сколько раз в последние годы он вот так же стоял на пороге, вглядываясь, вслушиваясь в темноту, об одном мечтая: чтобы не заметили, не вышли. Сколько раз раньше, когда отец пил, шлялся чёрт знает где, и мать укладывалась спать в детской комнате, надеясь, что тот не станет будить среди ночи детей, Саша просыпался от тупых тяжёлых шагов в коридоре и тоже думал: хоть бы пронесло!
Однажды, года полтора назад, измученный бессонницей, Саша вышел в коридор. Светящийся, оглушительно тикающий будильник на тумбочке показывал половину второго. Из-за приоткрытой двери ванной Саша увидел полоску света. «Забыли выключить…» – положил руку на выключатель, но, услышав за дверью шуршание, осторожно заглянул. В ванной Лида вытиралась полотенцем. На плечах дрожали невытертые прозрачные капли. В красной купальной шапочке Лида была похожа на курицу. Только вот Саша не чувствовал себя петухом.
Она, наверное, вернулась с вечеринки, была весела, что-то напевала, от неё явственно тянуло вином. Прежде чем их взгляды встретились, Саша отметил, какие полные у Лиды, особенно вверху, ноги, что они, как в тончайшей татуировке, в сеточке лиловых капиллярных линий. У него тяжело забилось сердце. «Сдурел? – бесстыже хихикнула Лида. – Мать узнает, в тюрягу упечёт, ты ещё несовершеннолетний». – «Буду передачи носить…» – Саша притянул её к себе, прижался к мягкому животу. Полотенце упало. Испытывая мерзкое суетливое волненьице, заспешил-заторопился, вздумал стянуть с себя одной рукой широченные синие трусы. Его вдруг прошиб какой-то неурочный пот, хотя раньше Саша потел исключительно на жаре да ещё в спортзале. Трусы приклеились к телу. «Ух ты! Прямо здесь, в ванной?» – оттолкнула его Лида. Она щёлкнула выключателем, набросила халат, вышла в коридор. Саша следом. «Свет не зажигай, Маринка проснётся! Тут стол, осторожнее! Тихо-тихо…»
«Не коридор – целая жизнь», – подумал Саша. Ещё он подумал, что его отношение к дому раздвоилось. Он любил всё – реку, набережную, крышу – где, как ему казалось, была свобода, где он чувствовал себя свободным, и ненавидел всё, где свободы не было. Коридор был пограничной полосой между светом и тьмой, свободой и несвободой.
Ещё он подумал, что расстаться с домом будет не очень жалко. Мать по-прежнему таскала сумки из буфета. Отец молчал, как камень. Лишь раз, помнится, посмотрев по программе «Время» репортаж про какой-то передовой завод, злобно заметил: «Чудеса какие-то показывают: продукция в сто стран мира! У нас – половина чистый брак, половина – металлолом. И у других то же самое!» Сестра уехала на Север, но ведь когда-нибудь она вернётся? Хоть и с деньгами, да без квартиры. Значит, опять как сельди в бочке. До каких же пор? Единственным порывом семьи к живому делу, к смыслу, стало быть, явилось возведение щитосборной конуры на бросовом болоте. Но это было ещё хуже, чем естественная нищета. Это была нищета искусственная, та самая сума, от которой народу грех зарекаться, равно как и от тюрьмы. Безропотно подчиниться такому порядку значило, по мнению Саши, потерять достоинство, расписаться в бессмысленности собственной жизни.
Он отчасти устыдился этих мыслей. В конце концов разве виноваты родители, что они такие? Виноваты условия. Чтобы родители сделались другими, требовалось изменить условия. Изменить условия могли только сами люди, которые, в свою очередь, не могли измениться при существующих условиях. Получался замкнутый круг. Иногда Саше казалось: не разомкнуть. Иногда круг расходился с пугающей лёгкостью: изменить условия должны люди, сделавшиеся новыми в прежних, неблагоприятных условиях.
Это было наивно.
Сделался ли, к примеру, новым сам Саша?
В чём-то, наверное, да. Он унаследовал от матери практичность, ловкие руки, смекалку. Так же легко и быстро выучился шить, как она таскать провизию из буфета. Не унаследовал рабьего смирения, безоговорочного принятия скотских условий за жизнь. Когда она, беспаспортная, жила после войны в деревне под Москвой, бригадир будил её в пять утра, стуча черенком кнута в оконное стекло. И она полагала нормальным работать по двенадцать часов в сутки и ничего за это не получать. Так же как сейчас полагала нормальным тащить из несчастного кинотеатра что только можно, даже железные банки из-под фильмов, в них теперь хранились краска, гвозди, олифа, ещё что-то нужное для строительства болотного дома.
Единожды согнутый человек впоследствии может распрямиться. Только вот опереться на него ни в одном, требующем мужества и самостоятельности, деле уже нельзя, так как он не верит в справедливость. Он не способен выстоять, способен лишь гнуться, ускользать, стелиться по земле, чтобы выжить.
Саша стелиться не хотел.
В отце он видел упрямство, животную волю к жизни. Отец, как акробат, пытался удержаться на зыбких, плавающих среди всеобщего хаоса островках. Двадцать лет приносил зарплату с завода, производящего брак и металлолом. Как крот, врывался в топкие сотки на границе с Калининской областью. Это ещё была лучшая половина отца. Худшая – угрюмая подозрительность, тиранство, необъяснимая нелюбовь к книгам, настоящая ненависть ко всему непонятному. Отец, вероятно, сознавал, что живёт убого, но злобу обращал не на себя, а на окружающих, которые хоть и разделяли общую вину, но никак не являлись первопричиной убожества.
Саша подумал, что унаследовал от отца обе половины. Волю к жизни, стремление быть сильным, независимым. Но не там, где дозволено: в бригаде, выпускающей брак, в покорной семье, на жалком болотном участке, – а везде, всегда. Отец всю жизнь молчал, как камень. Саша не собирался молчать. Но в то же время носил в себе надлом, слепое бессильное бешенство. Зачем врезал тому типу на набережной? Ведь он не собирался драться, сейчас Саша был в этом совершенно уверен.
Что-то тут было не так.
Чем дольше Саша над всем этим размышлял, тем явственнее ему казалось, что он стоит на пороге иного – не коммунального – коридора, вроде бы выводящего к свету, но внутри совершенно тёмного. Сквозь него пролегает тот самый пугающий третий путь. Неведомая сила, словно в водоворот, затягивает его в коридор. Он бы и рад отступить, да не может, не хочет, так как всем своим существом уже там, в коридоре. Ибо лишь там, в тёмном движении к свету, для него смысл. Не лгать, не гнуться, не стелиться. Жизнь должна быть другой. Он должен сделать всё, чтобы она стала другой. Пусть пока не знает, что именно и как. Пусть против будет весь мир. Пусть даже он пропадёт в коридоре, хотя, конечно, пропадать не хотелось. Это длилось мгновение, но в это мгновение Саше показалось, он понял, что такое судьба. А может, то была очередная фантазия? В семнадцать лет человек живёт фантазиями.
Тут вдруг Саша словно очнулся, увидел отца. Тот стоял в коридоре – в трусах, в несвежей майке, весь заросший диким волосом, какой-то низенький и кривоногий. А когда-то казался сильным, страшным. Саша подумал, что сейчас справился бы с ним без хлопот.
Но отец не выказывал враждебности. Напротив, смотрел с некоторой даже растерянностью. Прежде так не смотрел.
Отец, вне всяких сомнений, имел собственное представление о жизни, о людях. Что в его власти – по одну сторону границы. Остальное – по другую, на остальное плевать. Вероятно, он полагал: как бы Саша себя ни повёл, что бы ни предпринял, это будет внутри границ его власти. А что внутри, то можно придушить. И вот сейчас Саша нарушал, уходил, а он, похоже, не знал, как его задержать.
Лучше ничего не обносить границами. Думаешь, запираешь всех, в результате сидишь один. Саша даже пожалел отца, так отвык тот понимать то, что не желал понимать.
– Что, батя, не спится? – Он снял ботинки, поставил под вешалку, надел тапочки. Саша специально назвал отца «батей», чтобы возникла хоть какая-нибудь доверительность.
– Да вот, покурить вышел, – ржавым от долгого молчания голосом произнёс отец. – Сигарета есть, а спички… – потряс в воздухе пустым коробком. – И на кухне нет. Есть спички?
Спички были в кладовке-мастерской. В последнее время Саша мало шил, больше лежал там на раскладушке, почитывал. Даже повесил несколько книжных полок.
Саша шагнул в кладовку, щёлкнул выключателем. Отец следом. Саша не понимал, как можно курить среди ночи, потом лежать в кровати с кислой пастью, харкать, кашлять. Это было всё равно что ходить в несвежей майке, пробираться в бане к крану сквозь безобразное скопище голых тел, жарить на завтрак вонючую ливерную колбасу, от которой потом полдня в кухне не продохнуть. Это свидетельствовало о какой-то изначальной нечистоте, неизбежной, впрочем, при долгом житье в коммунальной квартире. Саша сам не понимал: откуда в нём такой снобизм?
– Держи, – протянул отцу коробок.
Тот не взял. Медленно, будто нехотя, перелистывал как бы случайно взятую с полки брошюру.
«Не врубится!» – подумал Саша, но тут же понял: вовсе не поиски огонька подняли отца с кровати, заставили дождаться его возвращения, привели в кладовку. Вот эта самая брошюра. Ещё Саша подумал, что настолько не брал в расчёт родителей, что даже не удосужился припрятать. Это было глупо. Глупо считать других глупее себя. «К вопросу о границах», – усмехнулся про себя Саша.
– Оставь ты эту галиматью, – как можно равнодушнее произнёс он, взялся за край брошюры. – Парень один работает в закрытой библиотеке, дал, так сказать, для общего развития.
Отец вроде бы отдавал, но в то же время продолжал держать. Так и стояли они посреди освещённой кладовки, ухватившись за брошюру.
Отец нехотя отпустил свой край. Саша облегчённо вздохнул.
– Помню я эту книжечку, – кивнул отец на выцветшую, некогда красную, обложку с черепами. – Мы тогда под Малой Вишерой стояли. Хотя, стояли, сильно сказано. В окопах, в мёрзлом поле на открытом пространстве. А они то с самолётов, то артиллерией. Ещё и живого фашиста не видели, а уже в нашей роте половину состава выбило. Так вот, парень, раз они вместо бомб книжечки разбросали. Эту вот помню, другая ещё была с зелёной такой рожей в паутине. Нам тут же приказ: кто поднимет – под трибунал.
– Ну и что, никто не поднимал?
– Шутишь, – усмехнулся отец, – а тогда не до шуток было. Все, конечно, прочитали. Из окопа-то не больно с доносом побежишь. Да и до особого отдела далековато. Но я, парень, не об этом…
– А о чём?
– А то, парень, что не было у нас выбора. Думаешь, мы ничего не знали? Знали. Да только что толку? Проволока на проволоку шла. Одна спереди, другая сзади. К своей хоть привыкли. Ну, и верили, крепко верили, сломаем одну, другая поослабнет. Не может не с поослабнуть. Да не вышло. Знаешь, почему победили? Нечем было нас пугать, не осталось для нас в этой жизни страшного, чего бы уже от своей власти не приняли. Ну и пространства, конечно, не европейские… И людишек не считали, воевали по-сталински…
Саша подумал, что впервые говорит с отцом о том, о чём надо было говорить давно и о чём сейчас говорить поздно. Под камнем молчания была значительная часть отцовской жизни, начиная со времени ссылки его раскулаченной семьи в дикую тундру в низовья Енисея. Родители, братья, сёстры вскоре погибли. Отец чудом выжил: жрал мох, глодал кору, добрался до Енисейска, пробился в ремесленное училище, скрыв, что родители репрессированы. Работал в ремонтных мастерских. Потом война, отец воевал в пехоте, имел награды, но в сорок четвёртом не повезло – оказался в окружении, проходил проверку, выяснилось, чей он сын, угодил в штрафбат, только после ранения – Саша видел ужасный шрам на плече – разрешили вернуться в свою часть.
Отец молчал. Родина одна, кому учить сына любить её, как не отцу? Отцу, которого его родители мало чему успели научить, так как слишком рано легли в угрюмую полярную землю. «Что он может мне сказать, – подумал Саша, – если ему самому всю жизнь не верили, не считали за человека?»
Сейчас в учебнике истории было написано: судьба второй мировой войны решалась в битве на Малой земле.
Саша подумал, что это «поднимешь – трибунал!» вошло в плоть и кровь отца. Что сейчас он, должно быть, видит в нём – сыне – то, что безжалостно пресёк – чтобы выжить – в себе. И поэтому не знает что сказать. Его выбор: каменное молчание, пьянство, теперь ещё бессмысленная возня на болоте. Но это не жизнь. Он сам понимает и мучается.
Саша вдруг почувствовал что-то похожее на симпатию к нечистому, волосатому, кривоногому человеку с корявыми, почерневшими от металла руками. Как бы там ни было, он его родил, водил перед его водянистыми младенческими глазами чёрным пальцем, может, даже катал в коляске до ближайшего пивного ларька и обратно. А перед этим воевал, видел смерть, сам убивал, ждал смерти. И снова ждал, томясь по выходу из окружения на полуночных допросах. А ещё раньше собственноручно долбил в ледяной земле могилы своим – не знающим вины – братьям, сёстрам, родителям. И всю жизнь на нём самом была неизвестная вина. Всю жизнь он боялся. Как миллионы других.
– Не волнуйся ты, батя, – как можно беззаботнее улыбнулся Саша, – завтра верну этому малому, и дело с концом. Что я, не понимаю, что к чему?
– Эту вернёшь? – усмехнулся отец. – А эту? Эту?
– Всё верну, – тихо сказал Саша. «Дурак! – ругнул себя. – Оставил на полке! Хорошо хоть тетрадь спрятал…» – Но это уже моё дело.
– Понятно, парень, – отец опасливо присел на раскладушку. Она застонала, прогнулась, – да только я о другом хотел.
– О чём же? – с интересом посмотрел на него Саша.
– О том, парень, что от добра добра ищешь!
– От какого же такого добра?
– А от такого, парень, что, худо-бедно, жить дают. Со свету не сживают. По ночам не ездят, не забирают, по пять лет не дают за прогул!








