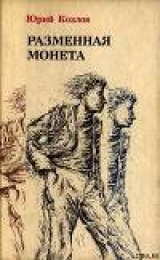
Текст книги "Имущество движимое и недвижимое"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
– Ну от такого добра не грех и поискать…
– Чего? – перебил отец. – Этого? – кивнул на книжки. – Да ты что, парень? Кинохронику не смотрел? Я-то помню, что они после себя оставляли… Если это добро…
– Далась тебе эта макулатура, говорю же, просто так взял, из любопытства.
– Не, парень, из любопытства девке под юбку лезут. Тут другое.
– Что другое?
– Не туда смотришь, парень! – возвысил голос отец. – Смотри, открутят головёнку. Сейчас ходишь – не думаешь, начнут сажать – поздно будет. Они всему учёт ведут.
– Ну уж прямо и сажать? За что сажать? Кого?
– Да кого угодно. Чтобы страх был. Страх водочкой не заменишь. Видишь, без страха-то какой развал идёт. Потыркаются туда-сюда и начнут. Нет другой силы. Нет и не будет.
– Ну и мнение у тебя о нашей народной власти. Вечен, стало быть, страх?
– На наш век достанет, – серьёзно ответил отец. – Не знаю, как там в Америке, а у нас нет другого средства, чтобы людишек в узде держать.
– Значит, по-твоему, – спросил Саша, – стоять, как скотине в стойле? Ждать, пока сажать начнут? Не думать?
– Думать-то думай, – сказал отец, – только про себя. А то открутят головёнку.
– А и открутят, – усмехнулся Саша, – так хоть за что-то. Скольким попусту открутили. Не обидно будет. Да и не собираюсь я, батя, головёнку подставлять. Нет…
– Да за что? – вдруг взревел, выпучил глаза отец. – Кто тебе позволит, чтобы за что-то? Пикнуть не успеешь! Книжечки твои «что-то»? Да они тьфу! Кто писал – не пересилил, а уж какую силу собрал! Ты… – Отец выругался, махнул рукой. – В пыль разотрут, дунут, и нет тебя!
– Напугали они тебя, батя, – отвернулся Саша, – сильно напугали. Я не знаю как буду, ничего не знаю. Только как ты жить не хочу.
– А и не живи, – с несвойственной ему готовностью согласился отец, – не живи. Я и сам не хочу, чтобы ты на завод, там, парень, радости мало. Ты с головой, с руками. Вон как портки наловчился строчить! Отметки хорошие… Живи как знаешь. Учиться поступишь, поможем, слава богу, денег хватит. Только выкинь ты это из головы… – покосился на книжки. – Христом-Богом прошу, отдай. Себя погубишь, а ничего не изменишь.
– Спички возьми, – Саша протянул коробок. Отец взял, растерянно повертел в руках.
– Всё ведь есть, – пробормотал, – живём, как люди, дачу вон строим… Чего ты?
– Спокойной ночи, батя. Отец вышел.
Саша остался бы спать в кладовке на раскладушке, но было душно, пришлось идти в комнату, там было открыто окно. Слушая шум листвы, торопливое шарканье запоздалых шагов по асфальту, он подумал, что дети – продолжение родителей во всём, даже в том, что не может продолжаться дальше. Терпение, подумал Саша, на мне истощилось их терпение.
III
К концу июня, перевалив на вторую половину, экзамены утратили торжественность. Лица экзаменуемых сделались равнодушными и наглыми. За длинным столом позёвывали учителя. Работник роно – председатель экзаменационной комиссии – всё чаще уходил курить в зелёный сквер за школой. Кто хотел – списывал, символически прикрыв ладонью шпаргалку. Никому уже не было дела. Всё, что длится слишком долго, превращается в привычку. Если при этом, как заклинания, произносятся одни и те же ничего не выражающие слова, наступает апатия.
Косте Баранову казалось, нет никакой разницы, готовится он к экзаменам или нет, оценки всё равно будут хорошими. Некая могучая сила уравнивала сейчас толковых и тупых, способных и бездарных. Уравнивала, чтобы, получив аттестаты о среднем образовании, они оказались во власти иной – не менее могучей – силы, которая каждого определит куда ему назначено. Все равны, но некоторые равнее.
Начиналась взрослая жизнь, где слова были едины для всех, дела – различны. Впрочем, школа исподволь к ней готовила.
Костя вспомнил недавний воскресник. Им строжайше приказали явиться к шести утра на вокзал – поедут работать в совхоз. Кто опоздает – выгонят из школы! Как каждый из них завтра поработает, так потом и пойдёт по жизни, помнится, заявил завуч, завтра узнаем, кто чего из вас стоит! Ни больше ни меньше.
В шесть утра все были на вокзале. Под водительством засучившего рукава, воинственно надвинувшего на лоб берет завуча погрузились в электричку, прибыли в совхоз. Никто почему-то их не встретил. До конторы тащились пешком. Но и там никто не проявил к ним интереса. До полудня слонялись по посёлку. К этому времени прибыл директор. После сытного бесплатного обеда в совхозной столовой – завуч и директор обедали отдельно – поехали на совхозном же автобусе домой. Завуч блаженно дремал на переднем сиденье. Раз, открыв глаза, затянул: «Вихри враждебные…» Но никто не поддержал. В другой – взглянул в окно, недовольно пробормотал: «Ишь, пьянь, из всех щелей повылазила!» И опять заснул. Костя тоже посмотрел в окно, но никакой повылазившей из неведомых щелей пьяни не обнаружил. Должно быть, завучу привиделось.
Зато Костя припомнил, как однажды пришёл в учительскую за журналом. Звонок уже прозвенел, в учительской никого не было. Только завуч стоял лицом к окну, не видел Костю. На подоконнике помещался графин с водой. Завуч вдруг решительно ухватил графин за горло, несколько раз крутнул его, разгоняя воду, после чего резко запрокинул голову, перевернул графин. Вода, как в воронку, устремилась ему в глотку. Через секунду графин был пуст. Завуч рыкнул, поставил его на место. Костя прошептал, что пришёл за журналом. Завуч, не заметив его, вышел из учительской. Он преподавал историю СССР.
Костя сидел в автобусе рядом с Сашей Тимофеевым. Саша, как всегда, был невозмутим, и, как всегда, было не понять: плевать ему, или же он в бешенстве? Как-то Саша заметил, что эти две крайности уживаются в современных людях. Быть всё время в бешенстве – сойдёшь с ума. Всё время плевать – отупеешь. По Саше, люди, не до конца сходя с ума, тупели. Или не до конца тупели, сходя с ума. «Зачем сюда ездили, жрали обед?» – спросил Костя. «Для отчёта, – спокойно ответил Саша. – Был, наверное, какой-нибудь план трудового воспитания, про него забыли, потом спохватились. Вот и вышел воскресничек. Подадут наверх справку: норма выработки составила сто один процент!» – «Мы-то зачем? Без нас нельзя было?» – «В воскреснике принял участие сто один процент учащихся!» Так и с экзаменами, подумал Костя, их успешно сдаст сто один процент выпускников.
Так что оставшиеся предметы не сильно беспокоили Костю Баранова.
Он с удовольствием предавался другому занятию – сочинял стихи. Косте казалось, мир насыщен поэзией, и он чувствовал в себе силы объять мир. Стихи начинали складываться по любому поводу, так пластична, ответна на красоту была душа. Костя чувствовал себя равным Богу. Но на этой ликующей ноте всё странным образом останавливалось, замирало, уходило в песок. Не то чтобы Костя не мог досочинить, он как бы не хотел, откладывал до следующего раза, когда, вне всяких сомнений, получится лучше, хотя, наверное, и сейчас бы получилось неплохо. Ни одно стихотворение за исключением злополучного про поле, которое можно «вспахать, засеять и убрать», не было доведено до конца. Оказавшиеся на бумаге слова были убоги, жалки в сравнении с тем, что творилось в Костиной душе. Он откладывал ручку. Человеческий язык был слишком ничтожен и беден, чтобы передать размах Костиных мыслей и чувств.
Не оставил он без внимания и прозу. Костя сочинял рассказ на, в общем-то, не самую близкую ему тему: как в деревне у старика и старухи сгорел дом, как они, погоревав на пепелище, не дождавшись помощи от разъехавшихся по стране детей, начинают строить новый. Писался рассказ лихорадочными урывками. Косте так нравилось, что он пишет, что он даже не перечитывал написанное. Стопка страниц росла, но и здесь пока конца не предвиделось.
Имелись задумки на будущее – написать про бабушку, скончавшуюся на скамейке в Летнем саду, в том самом месте, где она шестьдесят лет назад, будучи юной гимназисткой, познакомилась с уходящим на германский фронт кавалергардом.
Костя не решился обсудить романтический сюжет с Сашей Тимофеевым. «Совсем сдурел? – усмехнулся бы Саша. – Если гимназистка, значит, дочь достаточно обеспеченных родителей. Они или бы уехали в революцию из страны, или их бы в восемнадцатом взяли заложниками и расстреляли. Но даже если выжили, в тридцатых точно бы пошли в ссылку». – «И всё-таки, – возразил бы Костя, – как исключение». – «Хорошо, как исключение, – ответил бы Саша, – допустим даже совершенно невозможное: вернулась из ссылки в Ленинград, получила прописку, пережила блокаду. Неужели ты не понимаешь: если только она не сошла с ума, не впала в детство, не пойдёт она в Летний сад на какую-то скамейку! В лучшем случае лет пятьдесят назад порадовалась за этого кавалергарда, что тот легко отделался: погиб за царя и Отечество в германскую и знать больше ничего не знал. Проведя жизнь в коммуналках, в очередях, в голоде, в страхе, экономя копейки, кем она была – санитаркой в больнице, уборщицей? – она бы не только кавалергарда, сестру бы родную в Париже забыла!» Примерно так сказал бы Саша Тимофеев.
Косте иногда казалось, его друг излишне драматизирует жизнь, видит одну лишь сторону. Жизнь представлялась Саше железной птицей, неустанно склевывающей с земли справедливость, честь, достоинство. В иные моменты исторического бытия птица лихо склёвывала с земли людей. Люди были движимым и недвижимым имуществом птицы. Движимым – потому что птица всегда могла подвигнуть их на самоистребление. Стоило ей моргнуть железным веком, тут же одни люди приводили к клюву других. При этом и палачи и жертвы пели птице осанну. Недвижимым – потому что и те и те были покорны, безропотны, парализованы, недвижимы к осознанию общей своей убогой участи.
Костя не до конца соглашался с Сашей. Птица не была беспощадно железной, мелькали в боевом оперении мягкие райские пёрышки. Саша принципиально отказывался их видеть, так как думал не о мире, а о войне с непобедимой птицей. А между тем с ней можно было неплохо ладить. Где Саша видел стену, которую необходимо разрушить, Костя – лишь кажущееся стеной, эластичное заграждение для дураков, сквозь которое умному человеку вполне можно просочиться.
Вероятно, всегда есть люди, добивающиеся своих скромных целей в существующих условиях, таких огромное большинство. И – отвергающие условия, как будто жизнь – это игра, условия которой можно принимать или не принимать. Эти люди фанатично играют по собственным правилам, судьба их до поры достойна сожаления. Они гибнут, гибнут, гибнут, но рано или поздно добиваются своего. Тогда непредсказуемой становится судьба остальных. По мнению Кости, сейчас результат игры был предопределён: погибнуть, а не добиться своего. Стало быть, зачем рисковать?
Честно говоря, Костя пока не чувствовал себя в чём-то ущемлённым. Наоборот, казалось, стоит только начать – и пойдёт, не остановишь. Вот только что начать? Это пока было неясно, но не потому, что Костя был неуверен в себе. Слишком за многое хотелось сразу взяться, было боязно что-то упустить.
Но и этими мыслями он не мог поделиться с Сашей. «Чувствуешь силушку? – усмехнулся бы тот. – Что же это за силушка?» – «Что ты имеешь в виду?» – воинственно уточнил бы Костя, прекрасно понимая, что он имеет в виду. «Из чего исходит, на что направлена?» – спросил бы Саша. Пришлось бы признаться, что он сам – альфа и омега силы, из него она исходит, на него же направлена, чтобы скрасить, сделать приятной собственную его жизнь. «Это не сила, – вздохнул бы Саша, – охота сладенько пожить, поиск ливреи побогаче. Хотя, конечно, ты прав, это подвигает, ещё как подвигает».
Костя захлопнул учебник обществоведения. Наука впрок не шла. Для Кости всё обществоведение сейчас свелось к трём простым вещам.
Первое: мир бесконечно поэтичен, поэзия разлита в воздухе. Каждое явление имеет невидимую чувственную изнанку.
Второе: всё в мире тщетно, жизнь коротка, опутана запретами. Вроде бы свободен и в то же время не очень-то свободен. Будто бы не беден, но и отнюдь не богат. Даже если есть деньги, в квартиру новую не въедешь, машину вот так сразу не купишь, в Монте-Карло вообще никогда в жизни не поедешь, словно нет на земле никакого Монте-Карло.
Третье: чувствуешь себя личностью – в школе, дома, во дворе, на улице. Но в то же время ты – пыль. За тебя решают абсолютно всё. Воистину, имущество движимое и недвижимое!
И тем не менее ох как хочется жить по-человечески: не маяться в очередях, не сталкиваться задами в крохотной квартирке, вольно покупать нужные вещи, взять да и съездить, не вымаливая разрешения, скажем, в Ниццу. Увидеть статую Свободы, закат над Гудзоном, пирамиду Хеопса, рассвет над Нилом.
Этими обстоятельствами, а также лёгкостью, с какой, как ему казалось, он сочетал на бумаге слова, и был определён Костей выбор будущей профессии – журналистика. Выбор свершился на удивление легко и естественно. Косте уже виделись люди, прилипшие на улицах к газетным стендам. Они читали его статьи. Дело оставалось за малым – поступить в университет.
Однако выяснилось, что вместе с аттестатом о среднем образовании в приёмную комиссию следовало представить опубликованные заметки – две небольшие, хотя бы информации, и одну посолиднее. Костя обратился за помощью к отцу.
Костин отец был историком, специализировался на советском периоде, работал в академическом институте. Занимался ещё и литературной критикой. У отца регулярно выходили книги, в газетах и журналах появлялись его статьи. В последнее время отец писал главным образом о литературе. С историей, видимо, было всё ясно.
Отец хвалил Шолохова, Леонова, Фадеева, иногда подвёрстывал к ним кого-нибудь из менее известных современных авторов, пространно рассуждал о методе социалистического реализма. В последней историко-литературной отцовской книге Костя насчитал по меньшей мере восемь определений социалистического реализма, причём в одной главе писатель Олеша преподносился как одарённейший социалистический реалист, в другой же, видимо, написанной позднее, доказывалось, что Олеша – выразитель мелкобуржуазных, мещанских идеалов, к социалистическому реализму его творчество не имеет ни малейшего отношения.
Костя отчеркнул абзацы, показал отцу. «Сволочь редактор! – выругался отец. – Проклятый алкаш! Наверное, даже не вычитал расклейку! Так меня подставить».
Газетные статьи были написаны живее, в них отец неустанно полемизировал с различными фальсификаторами, однако доводы в защиту своей позиции приводил, как правило, дубовые, набившие оскомину. Косте было неловко читать. Он не верил, что отец это всерьёз. Каких-то совершенно неведомых литераторов объявлял истинными носителями народности. Костя пробовал их читать, благо книги с кудрявыми дарственными надписями стояли у отца на полке, это было невозможно. «Зачем ты их славишь? Это же графоманы!» – однажды сказал он отцу. «Ну, во-первых, это как посмотреть, – строго ответил отец, – во-вторых, хватит нам грызться, пора собирать силы. Спасение сейчас в сплочении!» Костя подумал, что Саша Тимофеев обязательно бы спросил, почему именно в сплочении графоманов спасение для России? Сам же промолчал, так как не хотел злить отца.
Слово «Россия» в последнее время всё чаще звучало у них дома. В устах «ребят» из литобъединения, которое вёл на общественных началах отец в педагогическом институте, некоего Щеглова – недавнего разведенца, то ли критика, то ли прозаика, кочующего по чужим домам с портфелем и раскладушкой. «Щегол горб гнёт, а вы тут жируете…» – была его любимая присказка.
Правда, было непонятно: где, на кого, с какой такой целью гнёт горб Щегол и кто тут особенно жирует? Нищие ребята жируют? Отец, который раза два пропускал очередь на машину – не было денег? Щегол люто ненавидел всех, кто не был изгнан из дома, не скитался по чужим углам с портфелем и раскладушкой. Похоже, ему хотелось, чтобы так неприкаянно маялась вся Россия.
Вели беседы о России и люди посолиднее – филологи, слависты, редакционно-издательские работники. Впрочем, и они не жировали, ходили в потёртых костюмах, а один уважаемый профессор даже в галошах. Если ребята, Щегол негодовали, гремели, сверкали глазами, хоть сейчас были готовы за Россию в бой, эти рассуждали спокойно, доказательно. Всё сходились, что дела сейчас в России обстоят худо. Сходились и на том, что происходит это из-за злобных происков внутреннего врага, а не потому, что огромный народ, по сути дела, отступился от права на волеизлияние, утратил интерес к собственной судьбе, ушёл в ленивое пьяное подполье. Самым логичным в этой ситуации, следовательно, было бы право это ему вернуть да послушать, что он скажет. Так, к примеру, считал Саша Тимофеев. И Костя с ним соглашался. Но у тех, кто приходил к отцу, была иная точка зрения. Парламентаризм совершенно чужд России! Для огромных пространств необходима твёрдая власть! Нет средства вернее погубить страну, чем ввергнуть её в хаос демократии! По их мнению, для исправления положения следовало, во-первых, всесветно изобличить внутреннего врага, во-вторых, отобрать у него власть, да и взять в свои руки. И всё само собой наладится. «Может, и впрямь демократия для России – зло? – думал Костя. – Вылезет всякая сволочь, попробуй её потом останови!»
Особенно полюбился Косте кандидат наук Вася, прозванный «идеологом». Казалось, не было вопроса, на который Вася не знал ответа, так разносторонни, обширны были его знания. Часами Костя говорил с ним о России, её тернистом, непознанном пути.
Вася снимал с Костиных глаз пелену.
Оказывается, все беды пришли на Русь с крещением. Татаро-монгольское иго, хоть и явилось в некотором роде национальной катастрофой, но катастрофой в конечном итоге созидательной, так как результатом его явились: крепчайшее утверждение на Руси спасительной идеи государственности в виде самодержавия, духовное единение народа русского с народами азиатскими, наконец, колоссальное расширение территории. Нельзя не учитывать и того факта, что монархическая власть на Руси, по сути дела, была народной властью. В ранний – московский – период собирала силы, чтобы ударить по татарам. После Смутного времени, к примеру, в выборах Михаила Романова участвовали представители всех сословий, в том числе и крестьянства! Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, мудро обнёс границы государства кордонами, практически прервал сношения с сопредельными странами, и чума, опустошавшая в те годы Европу, не просочилась на Русь! Власть на Руси прежде всего исполняла задачу нравственную – сохранения самобытности народа, его права следовать особенным – одному ему ведомым – путём. Так называемые «преступления» некоторых исторических личностей, скажем Ивана Грозного, сильно преувеличены. Да в одну Варфоломеевскую ночь погибло больше невинных людей, чем он казнил за всю свою жизнь. Иван Грозный в первую голову боролся с теми, кто хотел повернуть Россию на гибельный для неё – западный – путь, перенести на её почву гибельные – западные – идеи. Не случайно же многие из его противников бежали не куда-нибудь, а в ту же Европу и потом выступили против родной страны с оружием в руках! Российская история искажена. А после революции? Что творилось после революции, в особенности после смерти Ленина? Мрак! Шабаш! Каких трудов стоило Сталину вырвать жало, покончить с засильем, хотя, конечно, не обошлось без издержек…
Упоминание Сталина покоробило Костю. Может, он и вырвал жало у каких-то своих противников, но при этом вырвал у народа язык, забил, запугал на пять поколений вперёд. Саша Тимофеев, к примеру, вообще полагал, не будь коллективизации, голода, лагерей, разгрома военачальников, принятия абсурдной военной доктрины, позорной, чудом не проигранной, финской кампании, Гитлер не решился бы напасть на СССР, так как всегда опасался затяжной кровопролитной войны.
Но Костин характер отличался чудесной гибкостью, позволяющей легко примирять крайности. Говоря о России, Костя пьянел от счастья, сознавая, что он русский, ему вдруг, как в блеске молнии, открывался смысл бытия: покончить с внутренним врагом, обняться всем русским, как братьям, да и двинуться разом к некой высочайшей духовной цели, смысл которой – единение человечества на началах добра, справедливости и уважения. Слово «Россия» пело в его душе так звонко, вырастало до такого величия, что уже и Сталин казался не чудовищным деспотом, а гнусным, упившимся кровью клещом, засевшим за голенищем сапога у великана. Великана не убудет! Он идёт себе своим великим путём.
«А сейчас? Что сейчас?» – спрашивал Костя. «Сейчас? – Вася забирал в кулак бородку, задумчиво смотрел светлыми глазами на Костю. – Борьба. Кто кого». – «Ну и что… надо? Как бороться?» – «Надо объяснять людям, что происходит. Побуждать тех, кто наверху, действовать в интересах народа, России. Уже сейчас есть такие, но им трудно, они опутаны врагами».
Когда Костя искренне чем-то увлекался, в нём открывался дар убеждать, превращать в единомышленников. Даже Саша Тимофеев уже слушал его без скептической улыбки. Единственно усомнился, что человек, оказавшийся наверху, согласится проводить чьи-то идеи, действовать в чьих-то там интересах. «Человек, оказавшийся наверху, – возразил Саша, – станет действовать исключительно и всецело в интересах верхов. Верха – не студень, нуждающийся в идеях, а могучий монолит, всеми силами государства отстаивающий право на власть, привилегии, избранность. Не идеи им нужны, а подчинение».
Тут как раз в одном журнале вышла статья о традициях и народности – занудливая и, как показалось Косте, бесконечно серая. Однако у отца и его друзей она вызвала ярость. Отец выступил в другом журнале со статьёй-отповедью. Хотя, в чём именно заключалась отповедь, Костя, честно говоря, не понял. И автор той статьи и отец утверждали, по сути, одно и то же, оперировали одними и теми же цитатами из классиков марксизма-ленинизма, только первый утверждал, что классики всегда были против национальной ограниченности, отец же доказывал, что они были пламенными патриотами своих народов, прежде всего думали о национальном, потом уже об интернациональном.
Ребята смотрели на отца, как на Бога. Щегол кричал: он гнёт горб, настал решающий момент, а у него нет крыши над головой! Ужели мало он гнул горб, в то время как другие жировали? Необходимо собрать деньги, чтобы он смог сделать взнос в жилищно-строительный кооператив. Щеглу нужны: крыша над головой, раскладушка и письменный стол. Будет это, и он покажет, он развернётся! Деньги дали: отец, профессор в галошах, застенчивый поэт, пишущий патриотические стихи. Вася не дал. Вася и Щегол почему-то не любили друг друга. Если один слышал, что сейчас придёт другой, немедленно, уходил. Многочисленные попытки помирить их успеха не имели.
Саша попросил Костю принести ему оба журнала. «Ну и что? – спросил Саша, возвращая их по прочтении. – Из-за чего страсти-то?» Костя горячо и сбивчиво изложил Саше точку зрения отца и его друзей, в минуты воодушевления становящуюся и его точкой зрения. Как раз дома у них вечером собирались ребята – они хотели писать очередное коллективное письмо – Костя пригласил Сашу.
Пришли ребята, профессор в галошах, застенчивый поэт, Вася. Щегол, получив деньги, пропал, должно быть, штурмовал правление кооператива. Гнул горб не на общественном – на личном поле.
Костя гордился отцом, мужественно поднявшимся на защиту Отечества, гордился, что дома у них образовался настоящий штаб русской мысли. Единственно, несколько огорчало, что топтались на месте, толкли воду в ступе, повторяли сказанное. Подобная остановка отчасти объяснялась тем, что полемика как бы повисла в воздухе. Стороны высказались. Высший же судья, который должен был поддержать победителя, а побеждённого задавить «оргвыводами», пока помалкивал. Было произнесено «а». Чтобы произнести «б», хотелось одобрения. Кричать в пустоту было боязно. Накричишь, а потом накажут. Пока оставалось лишь гадать, как отреагируют инстанции, и это не могло не внушать тревоги.
В разгар сочинения письма Саша незаметно вышел из комнаты. Костя догнал его в прихожей. «Уходишь?» – «Да, мать просила в магазин зайти». – «Ты считаешь, они… мы не правы?» – тихо спросил Костя. «Почему?» – пожал плечами Саша. В полумраке прихожей его лицо не выражало ничего. «Я понимаю, это идеализм, – произнёс Костя, – но поговоришь о России, хоть чувствуешь себя русским человеком». – «Как ты думаешь, – спросил Саша, – что первично: человек вообще или, – чуть заметно усмехнулся, – русский человек?» Костя молчал. «Можно по-другому: что проще – взять да объявить себя русским человеком, которого давят враги, и успокоиться на этом, как будто уже достиг некой цели, или сначала… действительно сделаться человеком?» – «Как это, сделаться человеком?» – Косте не понравилась его усмешка. «Да хотя бы покончить с холуйством! Как можно полагать пределом мысли и действия: что решат наверху? Кто решит? Они что, умнее? Если это последний предел, значит, всё! Эта полемика напоминает мне спор двух лакеев, пока барин спит. Проснётся, рассудит, одному сунет пряник, другому надаёт тумаков. Надоест – поменяет их местами. Как же можно… Неужели русский – прежде всего раб, лакей?»
Позади кто-то осторожно кашлянул. Друзья оглянулись, увидели профессора. Он задумчиво разминал папиросу, не замечая, что табак лёгкой струйкой сочится на ковёр.
«Тяжело, – вздохнул профессор, – думать о будущем народа, когда в исходных данных рабство. Восстать от рабства почти невозможно, но восстать необходимо. Иначе пропадём. То, что вы сейчас переживаете, молодой человек, это отравление действительностью, через это проходят все. Многие так навсегда и остаются отравленными, погибшими для всякого дела, некоторые же, напротив, укрепляются духом, начинают лучше понимать свой народ, становятся невосприимчивыми к яду, которым брызжет действительность. Не следует отождествлять пороки действительности и народ. Народ в этом случае сторона страдающая. Его надо жалеть, а не бичевать». – «Как же он позволяет творить над собой такое? – возразил Саша. – Смирение – это, по-вашему, добродетель или вина?» – «Не добродетель и не вина, а беда, общая наша беда! – ответил профессор и продолжил: – Мне понятны ваши сомнения. Да, мы пытаемся воздействовать на власть, но не потому, что мы рабы и лакеи. Вы можете назвать сейчас в России другую реальную силу, кроме власти? Всё, молодой человек, всё сейчас, любое движение, как к свету, так и во тьму, может исходить только от власти. Всё прочее, к сожалению, обездвижено. И зашевелится только в том случае, если захочет власть». – «Если вы хотите добра народу, – сказал Саша, – вы сами должны сделаться силой. От бюрократической сволочи не дождётесь разумного, её воспитывать бесполезно!» – «То есть противопоставить себя и тем самым дать раздавить в зародыше?» – «Мне кажется, – сказал Саша, – вне жертвенности нет служения идее». – «А мне кажется, – тонко улыбнулся профессор, – мы говорим о разных идеях. Вы, как я понял, готовы отдать жизнь за свободу и демократию?» – «Да», – просто ответил Саша. «И что при этом станется с созданным нашими предками Российским государством, кто, при нынешних апатии и безгласии, возьмёт в стране верх, куда она пойдёт, вас не больно волнует?» – «Почему же, волнует». – «Но волнует не в первую очередь?» – «Наверное, так». – «Стало быть, разрушение веками складывающегося государства во имя призрачной свободы личности? Хлебнуть свободы – и пропади всё пропадом?» – «А почему не свободная личность в свободном государстве?» – «Вы же сами прекрасно знаете, что это утопия, – внимательно взглянул на Сашу профессор. – Свободных государств нет. Есть богатые государства. Там позволяется всё, кроме единственного, – плохо работать. Хорошо работать – значит, работать тяжело, много, значит, опять-таки подчиняться. Вас устроит такая свобода – на несколько часов после трудового дня? Или вы хотите для себя другой свободы?» – «Я не хочу того, что есть, и мне не легче от того, что рядом со мной страдают узбек и эстонец». – «Вы отравлены действительностью, – задумчиво повторил профессор, – вместе с водой вы готовы выплеснуть ребёнка». – «А вы полагаете, у ребёнка есть шанс выжить в этой нечистой воде?» – «Что ж, мы выяснили суть наших разногласий, – засмеялся профессор, – вы хотите разрушить всё до основания, а там авось что-нибудь да получится. Это по-русски, молодой человек, ах как это по-русски!» – «Ну а вы, как я понял, выступаете за эволюционное улучшение действительности на основах государственности и российского первородства. Это тоже не ново». – Саша взялся за ручку двери. «Я понимаю, – продолжил профессор, – наш разговор носит чисто умозрительный характер, но всё же хотелось бы обратить ваше внимание на следующее обстоятельство: исповедующий разрушение, в первую очередь морально и нравственно разрушает самого себя. К сожалению, зачастую это единственный итог его деятельности». – «В то время как исповедующий эволюционное улучшение действительности спокойно умирает в собственной постели», – посмотрел профессору в глаза Саша. «Я четыре года сидел на Соловках, – спокойно проговорил профессор, – потом прошёл войну. Мои шансы умереть в постели были ничтожны». – «Так тем более! – удивился Саша. – Что вам в этом государстве? Если оно вот так с вами. А с остальными? Неужели это надо охранять и преумножать?» – «Но другого-то у нас нет, – развёл руками профессор, – хоть бы это не рухнуло. Рухнет, будет хуже, поверьте. Умоемся кровью почище, чем в гражданскую». – «Хуже не будет, – убеждённо возразил Саша, – да и когда на Руси святой боялись крови?» – «Как вы легко о крови-то…» – покачал головой профессор.
Разговор произвёл на Костю тяжёлое впечатление. Неужели его друг понимает что-то такое, чего не понимает он, Костя? Профессор разговаривал с Сашей не так, как с Костей. Костя вообще не помнил, чтобы после какого-нибудь разговора профессор был такой задумчивый. Костя частенько разговаривал с профессором на самые разные темы, но при этом как бы всегда подразумевал старшинство профессора, изначальную первичность его мыслей над своими. Даже снисходительное отношение профессора к Сталину, от которого он в своё время крепко пострадал, не смущало Костю. Высказывая своё мнение, он невольно подгонял его под мнение профессора. Получалось: бойкий ручеёк впадал в могучую реку. Профессор хвалил Костю, как-то даже неловко было заводить с ним разговор о предстоящем поступлении в университет. И так было ясно, профессор сделает всё от него зависящее.
И с другими Костя редко доводил дело до разрыва, конфликта. Может, это происходило от того, что он был уравновешенным, спокойным человеком? «А может, – подумал Костя, – мне попросту на всё плевать? И речи мои, как мыльная пена, обтекают, шлифуют поверхность, в то время как форму задаёт собеседник? Саша, стало быть, сам месит глину, ищет истину. Надо же, в каком тоне разговаривал с профессором! Да кто он такой? Чего добивается?»








