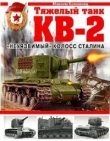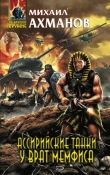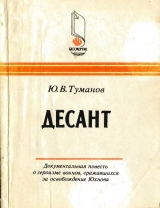
Текст книги "Десант"
Автор книги: Юрий Туманов
Жанры:
Военная документалистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Неспешно и спокойно переговариваются трое усталых артиллеристов, сидя на пушечной станине, уронив меж широко расставленных лог натруженные руки. Тлеют огоньки самокруток. Покуривают солдаты, сплевывают густую слюну, утирают шапками мокрые, мороза не чувствующие, распаренные лица. Скупо роняют слова, больше слушают, внимательно слушают скрытый темнотой и расстоянием бой.
Устали – сил нет. Силы оживить может только смерть. Если опять вынырнет рядом. А пока она далеко – километра за полтора-два отсюда, ни рукой ни ногой шевелить не охота: как-никак часов двенадцать непрерывно в ближнем бою, все время на грани рукопашной, набегаешься тут на позиции, руками намахаешься, гранаты кидая.
Не унимается только Нестеров. То одного подначивает, то другого. Тем огрызнуться лень, язык не ворочается, а у Нестерова он всегда наготове, всегда на полном боевом.
– Ты, Мишка, куда снаряды кидал? – вяжется он к орудийному командиру. – Ты, балда, целый ящик по одному поганому пулемету расстрелял. Лейтенант за наводчика встал, как даст, как даст: один снаряд – пулемет, танк подошел – тоже один снаряд. На нас бы на всех завтра похоронные писали б, если б не он…
Железняков, навалившись грудью на броневой щит орудия, свесил за него усталые руки, вглядывается во тьму, слушает в пол-уха солдатские байки. Очень хочется, чтобы канонада из-под Юхнова переместилась поближе, чтобы наступающие вплотную подошли оттуда к Людкову, зажали бы с десантом вместе их с двух сторон. Но никто в орудийном расчете не станет себя обманывать: опытные уже, обстрелянные люди. Пушки у Юхнова бьют на старых местах и наши, и немецкие. А вот справа, за шоссе, творится что-то непонятное. Километров за пятнадцать – двадцать отсюда, в глубоком немецком тылу возник и не смолкает тяжелый гуд. Днем думали – бомбежка. Радовались: ну, дают наши фрицу. Потом, когда затянулось надолго, поняли: не то. Но кто бы не стрелял, все равно хорошо: нет немцу и там покоя, не дает ему что-то вздохнуть посвободнее.
Откуда знать огневому взводу, откуда знать полку, что пальба эта с севера могла бы быть их судьбой, что там, а не только здесь и под Юхновом, должен решиться вопрос о жизни или смерти четвертой немецкой полевой армии. Там кавалерийский и воздушно-десантный корпуса должны были замкнуть вокруг нее кольцо от Варшавки до Вязьмы. Но сил не хватило даже на то, чтобы кавалеристы пробились хоть сюда, к тысяча сто пятьдесят четвертому на Варшавку. У них в полках гвардейских кавалерийских дивизий осталось уже в строю всего человек по двадцать.
Сил не хватило, и главным вместо огромной по замыслу операции теперь становился районный центр Юхнов – последний наш российский город, вырванный из цепких немецких рук в московском контрнаступлении.
Ветерок доносит от дотлевающей колонны запахи горелой резины, сукна и еще какой-то тяжелый смрад. Среди этих уже привычных, неистребимых запахов войны что-то тревожно знакомое и забытое задело вдруг обоняние. Железняков раз, и другой, и третий втянул в себя воздух. Нет, не понять. Повернул голову влево, откуда тянуло раздражающе тревожным запахом. Нет, ничего не прибавилось.
– Комбат, – тронул его за плечо старшина Епишин. – Нестеров зовет. Ужинать.
Вот это да! Железняков непонимающе уставился на командира орудия. Ужинать? Даже слово это начисто выветрилось из памяти. Полминуты, наверное, соображал, что оно должно значить. И скорее угадав, чем поняв, засмеялся: вот он что за тревоживший его запах – картошкой пахло, жареной! Не порохом, не кровью – картошкой.
И тут же озлился, пытаясь вспомнить: ели ли его артиллеристы с утра хоть что-нибудь. Хорош командир, хорош! Даже мысли не появилось о том, что надо накормить расчет. Самому, кажется, кто-то раза два-три совал в руку то колбасы кусок, то хлеба. Ел, не понимая, что делает, не отрываясь от пушки. Ром пил трофейный. Другие, вспомнил, тоже пили. Но ни опьянения, ни голода, ни сытости – ничего не было в ощущениях. Только бой. Только цели, по которым надо стрелять. Только близкий и далекий гул пальбы, по которой надо ориентироваться, в которой вся жизнь.
Шагах в двадцати от орудия, в расширенном начале смежной траншеи, зигзагом уходящей за кювет, Нестеров, приладив над небольшим костерком огромную сковороду, ворочает на ней немецким плоским штыком картошку. И нарезанное кусками сало. И колбасу. На раскаленной сковороде все даже подпрыгивает в кипящем жире. А рядом угнездились в огне солдатские котелки. Булькает что-то, пар мешается с дымом.
– Откуда сковорода? – удивляется Железняков, – Картошка откуда?
– А вы машину утром у фрица подбили, – загораживаясь рукавицей от брызгающего раскаленным салом жарева, повернул к нему снизу раскрасневшееся лицо Нестеров, – там у него целый кооператив был, ларек…
Есть, оказывается, хочется и в бою. И Железняков ест, поглядывая, как деловито, не торопясь, не толкаясь, скребут ложками по сковороде все собравшиеся к нестеровскому костерку.
«Одной сковороды хватает теперь на целую роту», – тревожно и независимо от самого Железнякова отмечается где-то в глубине сознания. И он, оставив еду, по-новому оглядывает солдат. Едят. Медленно, неторопливо, устало. А рядом, в двух шагах, в трех, в траншее и за бруствером такие же белые кули. Только неподвижные. Лежат, сидят, застыли, как бежали, как жили в последний миг – десантники, погибшие в этот день.
Ротный командир утрам командовал взводом. Сейчас с ним вместе у костра пятеро. А утром их было… Можно подсчитать, сколько их было утром – все здесь, никто никуда не ушел, лежат убитыми на поле боя.
А живые едят. Живым надо есть.
Они одни среди мертвых товарищей. Одни среди мертвых врагов. Одни среди огромного поля под сотнями, под тысячами вражьих взглядов.
Не идет в рот еда девятнадцатилетнему ротному. Ротный не ест. Бледный даже в красных бликах костра, глядит он в поле, где вперемежку с убитыми немцами лежат все те, с кем сегодня утром он так весело спрыгнул с танка на шоссе в тылу у противника и оседлал его. Все – и живые, и мертвые.
– Артиллерист! – вдруг горячечной скороговоркой зачастил он. – Что же с нами будет ночью-то, артиллерист? Нас же здесь как кур передушат.
– Спать не будем – не передушат! – не задумываясь бросает Железняков.
Ему уже приходилось отвечать на этот вопрос. Сначала самому себе. Потом орудийному расчету. Но было это днем. Когда он еще рассчитывал, что в прикрытии у них хоть и не полная, поредевшая, но все-таки рота. Не знал он тогда, что к ночи весь арьергард полка сможет угнездиться вокруг одной сковороды.
Быстро ответил. Еще и потому быстро, что правоты не чувствовал, правды в ответе не было. Когда правды нет, то чаще всего ее заменяют быстротой, внешней уверенностью в правоте, чем-нибудь, да заменяют.
– Костер надо гасить, – решает Железняков, – а то мы как в театре на сцене выставились тут все у огня, а зрителей в темноте на каждого найдется сотня.
«Но немцы тоже должны опасаться, – подумалось вслед за этим. – Не могут же они рассчитывать, что мы все здесь. Надо бы убитых сложить как-нибудь, чтоб их тоже опасались. И пусть доедят ребята, немного уж осталось. И воды горячей попьют».
– Ротный! Это твои у мостика? – заметив там какие-то фигуры в маскхалатах, с надеждой спрашивает Железняков. Вдруг он ошибся? Вдруг кто-то еще тут жив?
– Мои все тут, – угрюмо повел тот рукой вокруг по трупам десантников. – Это саперы, наверно. Должны же его взорвать когда-нибудь, этот мост.
А через несколько секунд все определилось жестко и грозно. Бутылка, которую все еще держал в руке Железняков, дернулась, брызнула ромом и битым стеклом и заблестела острыми зубьями осколков в неярком свете роя разноцветных светлячков, замелькавших между окопом пехоты и оставленным орудием.
Двадцать шагов. Всего двадцать шагов. Но сделать нельзя ни одного. Между расчетом и огневой позицией море огня: хлещут трассирующими четыре немецких пулемета.
Какие-то ненужные мысли отвлекают Железнякова. Тупо разглядывая сверкающий ливень пуль, наглухо перекрывший двадцать шагов до орудия, он думает: «Неужели у немцев в пулеметных лентах одни только трассирующие патроны?» Если бы иначе – пунктиром обозначились бы пулеметные очереди, а тут сплошные огненные стрелы, полосы огня застыли как-будто в воздухе, все вокруг освещая. И прежде всего пушку, от которой отнесло свинцом всю снежную маскировку. Щит ее гудит, как наковальня под частым перезвоном молотков.
За спиною сквозь близкий рев пулеметов он скорее угадывает, чем слышит, тяжкое дыхание трех своих солдат. А за шоссе только две винтовки и один автомат вспыхивают голубыми огнями у подножия толстых берез. Только трое отвечают немецким пулеметам, с которыми к мостику подобралось, видно, не меньше сотни фашистов.

С автоматом – политрук Иван Иванович Додонов. Под Ленино раненым был взят в плен. Участвовал в движении Сопротивления. Упоминается в книге Е. Воробьева «Земля, до востребования» как активный участник действий группы полковника Маневича.
Вот тебе и «спать не будем – не передушат». Не спали. Да и не придется, может быть, уже и никогда. Вот-вот еще столько же пулеметов ударят из тьмы.
Спасти может только пушка!
– Лейтенант! – уловив его движение, строго и рассудительно сказал кто-то за спиной. – Не пройти, лейтенант! Убьют!
Если б не этот тревожный голос, может быть, он бы еще и помедлил, ожидая перерыва огня, опасаясь неминуемой гибели всех своих солдат.
– За мной! – взревел Железняков, прыгая в огонь. – За мной!
Он даже не оглянулся, но затылком, спиною, ощутил движение позади себя – за ним шли все трое, все, с кем он почти сутки уже был одно целое, не просто слаженный орудийный расчет, а одно существо.
Пушечный щит прикрыл от пуль сразу троих.
А четвертый, Нестеров? Лейтенант, мгновенно уразумев, что его нет, развернулся обратно, ухватился за щит, чтоб оттолкнуться, выскочить туда, где под пулями остался четвертый, но Нестеров, ловкий Нестеров уже неуклюже перевалился через бруствер на огневую.
– Куда тебя? – рухнул к нему наземь Железняков.
– В бок, – угадал он по беззвучно шевельнувшимся губам. И еще угадал: – Бей, комбат, спасай!
Да, конечно же, он должен бить. Раненый, как и командир, видел, что еще минута-две и все сгинут, все, если пушка не вступит в дело. И отвернувшись от Нестерова, Железняков привычным быстрым механическим движением сдвинул вверх броневую защелку на щите и наклонился к прицелу.
Но в тот же миг прицела не стало. В лицо ему ударили брызги и осколки стекла: несколько пуль из десятков барабанивших по щиту влетело в открывшееся отверстие и снесло прицел с кронштейна.
Мгновенно натренированная рука спортсмена опустила броневую защелку. Другой он провел со лицу, ощупал глаза. Целы, это главное, порезы и ссадины ерунда.
– Лейтенант! – в ужасе хрипит кто-то. – Ранен?
– Пустяки! Царапина! – отмахивается он.
Но как же быть? Железняков бросается наземь, вжимается лицом в снег. И тот чернеет, то ли от крови, то ли от копоти. Кто-то тянется с бинтом. Но не до этого, некогда, некогда. Высунувшись снизу из-под пушки, у самого колеса, Железняков рассматривает мостик, чувствуя, что пули, рикошетящие от щита, сюда не достают, шлепаются далеко от его головы, не ближе чем за метр. Дотянувшись руками до поворотного и подъемного механизмов, вывернув голову чуть ли не под прямым углом, он крутит маховики, ведя орудийный ствол направо к крайнему немецкому пулемету.
Пушечный выстрел, грянувший в сорока сантиметрах от уха, даже не оглушает: не до него, он весь там, где в тот же миг встает яростный всплеск разрыва.
– Сна-а-а-ряд! – хрипит он.
И слово не договорив, слышит, как щелкает орудийный замок. Расчет работает, жив расчет! Один за другим кладет он, вбивает прямо снаряды вдоль мостика. Десять секунд – пять разрывов. Безукоризненно работает орудийный расчет.
И вот уже молчат все четыре пулемета. Конечно, он в них не попал. Может быть, кого-нибудь и задел, но не наверняка, нет, не наверняка. Однако снаряды, рвущиеся рядом, на мгновение вжали в снег немецких пулеметчиков. А это ему и надо было, одно лишь мгновение. Он уже на ногах – мастер спорта, командир огневого взвода, призер недавних училищных боевых стрельб. Бешеные глаза над щитом, руки на маховиках, ствол пушки как продолжение рук. Он словно кулаком бьет прямо в лицо левому пулеметному расчету. Пятьдесят метров расстояния. Не нужно ему тут никаких прицелов. Кажется, он даже кричит это вместе с какими-то другими словами. Четыре секунды. Четыре выстрела. Ни одного немецкого пулеметного расчета в живых.
Над мостиком ярко вспыхивает ракета, заливая все синеватым светом. А-а-а, вот они. Человек десять вместе. Снаряд! А эти? Эти уже бегут от мостика. Снаряд!
Железняков бьет и бьет, пока не гаснет свет. Но свет и не успевает погаснуть совсем. Вспыхивает вновь. Уже не одна, три ракеты повисли в воздухе. А стрелять орудию уже некуда. Никто уже не движется у мостика.
Немцев вблизи опять нет. Откатились, расползлись, убрались восвояси. Но и снарядов почти нет. И орудийного расчета тоже нет.
Убит пехотный лейтенант, сутки не прокомандовавший ротой. Трое стрелков осталось с ним на месте, отбивая последнюю атаку. Белыми кулями лежит вокруг орудия вся рота прикрытия. Уцелело в ней только два человека. Оба приползали на огневую, хотели остаться на ней с пушкарями. Видели, что почти все немецкие мины и пули стягивала она к себе. Но полегли в неравном бою все их товарищи, сразила смерть последнего их лейтенанта, а командир артиллерийского взвода в дыму и в огне все стрелял и стрелял из орудия, был жив и даже не ранен. И ни одного убитого не было в артиллерийском расчете. Здесь только двое ранено. Пустяк это в сравнении с косою смерти, день и ночь рубившей стрелков. Нынешнее хрупкое, ненадежное, случайное военное счастье, выпавшее на долю артиллеристов, казалось стрелкам щитом, охраняющим жизни вернее чем броня, прикрывавшая их с запада. Очень хотелось всем остаться с расчетом счастливчиков. Еле удалось уговорить их уйти, опять залечь справа и слева от шоссе, чтоб не всем быть в одном месте, чтоб не угробило всех одною миной или гранатой. Каждому понятно, что одному сидеть в окопе страшнее. На кого ни глянь, кого ни тронь – холодные, неподвижные, кажется, и тебя зовут туда же, к себе, в небытие.
Огневая опять завалена гильзами по колено. Под их мелодичное позванивание идет последний нелегкий разговор.
– Хватит сил, Нестеров? – допытывается Железняков. – Не рухнешь по дороге? Мы надеяться должны, что ты дойдешь.
Часа два назад от полка к мостику приползал кто-то из штабных командиров. Лицо знакомое, а фамилия так а не вспомнилась. Попал тут в самую бучу, вместе со всеми кидал гранаты, подтаскивал снаряды, отбивал атаку за атакой. Уходя назад, взял себе четыре магазина к немецкому автомату. У артиллеристов их теперь навалом, каждому может хватить на четыре жизни, собрали на поле боя в тихие промежутки. В тихие! Смешно даже: где они тут тихие? Командир полка передал с ним из-под Людково благодарность своему арьергарду. Ни одного удара в спину не получил полк за весь этот тяжкий день.
– Если жив комбат-артиллерист, – напутствовал Кузнецов своего посланца, – а он жив, по огню чувствую, передай: помочь ему не могу, нечем, а продержаться прошу до утра. Прошу. Так и скажи. Не разрешаю до утра умирать! Тяжко нам будет.
Они держались. Но до утра далеко, а в темноте немцам ничего не стоит обойти орудие со всех сторон, потом осветить, сосчитать, каждого взять на прицел и… Не понять, почему они до сих пор этого не сделали. Конечно, бой есть бой. Противник всегда почти думает не так и не то, что ты сам о себе знаешь. Но не очень похоже это на немцев. И хотя они всегда в ночном бою слабее, все равно не похоже.
– Главное, чтобы ты дошел, сталевар. Чтоб передал: мы держимся только потому, наверное, что немцы принимают убитых за живых.
Железняков вглядывается в осунувшееся лицо солдата, близко наклоняется к нему, сняв перчатку, поглаживает. Не нравится он ему, очень не нравится. Рана у него вроде бы не тяжелая, парень он здоровый, крови потерял немного, но усталый, вялый какой-то весь. Это Нестеров-то, живчик и звонарь Нестеров. Дойдет ли? А нужно, чтобы дошел, чтобы командир полка знал, что без подмоги, если к орудию не пришлют человек двадцать хотя бы, на большее никто и не рассчитывает, им вчетвером тут если и удастся продержаться час-другой, то только случайно. Полку же здесь нужна непроходимая застава.
– Ты меня слышишь, Нестеров? – остановился вдруг Железняков и наклонился к самому лицу солдата. Похоже было, что тот потерял сознание.
Раненый с видимым усилием открыл глаза и вяло шевельнул рукой.
– Не пойду я, комбат. Куда мне. Пока я такой туда дойду, здесь вас всех постреляют. Не хочу. Вместе жили, вместе давай умирать. Тут я и лежачий пригожусь – десяток фрицев успокою, не меньше.
– Попов, – с досадой повернулся Нестеров к юному солдату, который единственный за весь этот чумовой день не оброс щетиной, как остальные, – придется тебе идти с ним вместе. Одному ему не дойти.
Совсем недавно Железнякову уже пришлось столкнуться с упрямством Попова. Юный и розовый мальчишка, чьи щеки, казалось, светились даже в темноте, стоял на своем, не отступая, как мореный дуб.
Когда в очередной раз на позиции не осталось ни одного снаряда, а обстановка накалилась так, что удержаться, казалось, невозможно, Железняков решил взорвать орудие и отходить. Приказал сделать связки гранат, чтобы ими подорвать орудие. Отбив очередную атаку, протянул назад руку за гранатами. И не получил гранат, рука оставалась пустой. А секунды шли. Мчались одна за другой проклятые секунды. И каждая могла привести на огневую лавину немцев.
– Долго мне ждать, Попов?
Солдат, не отвечая, зубами и руками затягивал какие-то узлы.
– Попов! Из-за тебя мы невредимым отдадим орудие фрицу! Живее, Попов!
– Счас, – не то промычал, не то прошепелявил тот. – Рука… Трудно вязать… Больно.
Две пули пробили левую руку Попова. Когда? Никто этого не заметил. Как успел он сам перевязаться, никого не попросив о помощи, ничем не показав в бою, что ранен? Щеки только уже не светились, опаленные боем.
Когда связки были готовы, они не потребовались.
Еще тогда лейтенант хотел послать его, раненого, в полк, за подмогой. Но встретил бешеный взрыв негодования.
– Я – комсорг батареи! – сверкал он глазами. – Я…
Пулеметы немцев бросили его в снег. Но лишь появилась возможность поднять голову, глаза Попова опять засияли бешенством.
– Я комсорг! Я только мертвый оставлю позицию. Только мертвый! Вы комсомолец. Вы не можете послать меня в тыл.
Железняков даже рассмеялся. Хорош тыл. Только что там был фронт. Это их пушка охраняла полк с тыла.
А Попов огрызался, плакал, но не уходил. Так и не ушел. В возбуждении в первый час после ранения еще действовал, не обращая на рану внимания. Теперь сидел на пустом снарядном ящике, осунувшийся и не розовый вовсе, а одного цвета с маскхалатом. Слушая командира, он прихватывал с бруствера снег и тер им лицо.
– Ребята, вы понимаете, что без подмоги всем нам амба? Понимаете, что только вдвоем вы дойдете. И выручите всех – и нас, и полк!
Видно, сил на сопротивление у Попова и Нестерова уже не оставалось. Оба согласились. Да и обстановка не оставляла времени ни на раздумья, ни на сомнения. Оставшись с командиром, они могли только подороже отдать свою жизнь, убив еще по пять или шесть врагов. А кому они нужны, эти лишние шестеро. Их и так тут накрошили видимо-невидимо.

Группа командиров и политработников штаба 344-й дивизии. 1942 г. В центре сидит полковой комиссар Н. Н. Паращенко. Слева от него командир 1152-го стрелкового полка Алексей Маркович Осадчий, исполняющий обязанности командира 344-й дивизии.
– Вдвоем мы прорвемся, комбат. Вдвоем и вернемся! – заверил Нестеров, тяжело поднимаясь на ноги, прихватив два немецких автомата и засовывая за пояс магазины, – Жди нас с подмогой.
Уже прощаясь, Железняков подвел всех к срубленной пулеметным огнем березе, попросил выкопать возле нее ямку и выстелить ее шинелью.
– Какой шинелью, зачем? – удивился было Попов.
– С немца убитого сдери, бестолочь! – тут же окрысился Нестеров, к которому, казалось, вернулись силы. Он уже рыл яму.
Он сразу понял, чего хотел Железняков. Если придется оставить пушку, не взрывая, здесь, под березой, тот, кто будет жив, уходя, зароет орудийный замок. Немцы не смогут стрелять из орудия.
Кто-нибудь из четверых да останется жив. Тот и выкопает потом замок из-под приметной березы.
Старшина Епишин отнял у Нестерова лопату.
– Давайте, ребята, двигайте. Мы здесь как-нибудь сами. Вы, главное, живыми дойдите.
Двое. На всей неоглядной земле только двое. Самые близкие, самые родные исчезли, только что, растворились в ночи, даже звука их шагов не слыхать. Один только перезвон гильз, летящих за бруствер.
Справа за шоссе на постели из шинелей, снятых с убитых, прикрытый их же белыми маскхалатами последний еле живой пехотинец роты прикрытия с перебитыми ногами. Даже не просил о помощи. Просил только подтащить к нему побольше заряженных автоматов.
– Я, – прохрипел, – я им, гадам, перед смертью…
Нет-нет да и пыхнет там, под березой, запульсирует голубой огонек, простучит короткая в три-четыре патрона очередь. Не по немцам: их вроде бы поблизости пока нет, но во вражескую сторону. Показывает раненый – жив я, ребята, жив, в сознании я пока…
Гильзы ли выкидывая, гранаты ли собирая у мертвых и автоматы, Железняков неотступно думает: что же это такое, почему за весь этот страшный день никто слова не сказал, не попросил о спасении? Вот все до одного они умерли – товарищи, однополчане, чьих лиц он уже и не помнит – солдаты, сержанты, лейтенанты. Неужели им не было жутко, неужели ненависть к врагу была у всех, у каждого сильнее страха смерти. Существует, что ли, какой-то странный гипноз действия, когда огромные физические нагрузки, бесконечная быстрота и смена физических движений перекрывают каналы движений душевных? И сам он, и Михаил Епишин, разве чувствовали они леденящий, обессиливающий ужас перед самым худшим, что может грозить человеку? Так было. Но может ли это быть? Не уродство ли это душевное, при котором не пугают ни своя, ни чужая смерть?
– Михаил! – окликнул он старшину. – Тебе не страшно?
Епишин, возившийся с немецким пулеметом, устанавливавший его в стороне, за баррикадой из окоченелых немецких трупов справа от огневой, устало прилег на бруствер.
– Ух, умаялся, – вытер он шапкой лицо. – Тяжелые, собаки, таскал их, таскал, сил нет, откормились тут на наших хлебах, пудов по шесть, не меньше, в каждом.
Внимательно и хмуро поглядев в лицо лейтенанту, он как-то криво усмехнулся.
– Ну ты спросил, командир! Я-то сам себя зажал, не позволял бередить душу. Да и некогда было пугаться в этой суматохе. С жизнью-то я еще когда на танки садились простился. Да и чем мы лучше других?
Привстав, он широким взмахом руки охватил всех, кто безмолвно лежал под березами, на шоссе, на холмах. И, считая, вероятно, что больше говорить тут не о чем, пригнувшись, ушел к пулемету.
«Вот он, народный характер, – думал потом Железняков, рассовывая гранаты на огневой позиции так, чтобы удобнее было ими отбиваться. – Вот он, тяжко, невыносимо, но коль все так, то и ты, коль все в драке, то и тебе нельзя быть в сторонке. Коль выхода нет, помолчи, не береди душу без пользы, делом займись, полегчает».
Он опять вслушивался в артиллерийскую пальбу под Юхновом. Не смолкает, усиливается – уже хорошо. И кажется, ближе стало. Точно – ближе. Если не ошибся – отлично это. И на севере бьют. И тоже ближе. Вот бы… Но ни к чему пустые мечты. Ни к чему. Двое их. Двое на всем свете. Ни от Юхнова, ни с севера к ним двоим никому не успеть: они сами, только сами держат в руках свою судьбу. И пока живы – и полка тоже.
Поставив Епишина к орудию, Железняков ушел в поле, двинулся по следам танков, выходивших тут к Варшавке, пытаясь рядом с ними отыскать во тьме, в глубоком снегу снаряды, которые артиллеристы, рассовав утром на исходном рубеже на Красной Горе по всем танкам бригады, просили сбросить возле шоссе. В каждую вмятину в снегу совал лейтенант подобранный где-то шест, в каждую снежную яму нырял. Нет ничего. И только уже возвращаясь, у самого края следа танковой гусеницы наступил на размочаленный с угла ящик. С трудом вывернув вдавленный в снег ящик, он даже лег на него. И устал, и удача обессилила. Повезло-то как! Сразу вдвое больше стало у них снарядов, больше шансов отбиться в следующей атаке.
На огневой Епишин, сломав топором крышку ящика: покореженные замки его не действовали, с любопытством уставился на странные снаряды, которые так радостно приволок лейтенант.
– Это что, химические, что ли? – хмыкнул он. – Или с листовками? Во, поагитируем фрица!
Железняков тоже никогда не видел таких снарядов. Черные, длиннее фугасных и осколочных. И без взрывателей. У нескольких не то что взрывателей – ничего нет, пусто, трубки просто, пустые железные трубки. Чертовщина какая-то.
Пошарив руками по дну ящика – может инструкция какая завалялась, – Епишин вытащил горсть металлических шариков. Не то дробь, не то шарикоподшипники.
– Да это же картечь! – вдруг заорал Железняков. – Картечь! Ура!
Картечь. Страшное оружие ближнего боя обороняющихся батарей. Еще с прошлого века. Выстрел – и чуть ли не от самого ствола снаряд швыряет в лицо наступающим тучу свинцовых пуль. Пятьсот – шестьсот таких шариков на десять, а то и двадцать метров по фронту сметают с земли все живое.
У противотанковых пушек, у сорокапяток, картечи раньше не было. Но нашелся хороший человек – изобрел и для них. Упрощенную, без взрывателей, но вот она, есть, спасительница-картечь.
Правда, железные кружочки, которыми вместо взрывателей были закрыты и какой-то смолой или варом заклеены картечные снаряды, у некоторых из них выпали. То ли от тряски на танке, от ударов ящика о броню, то ли еще от чего-то, но вся картечь, все шарики из них высыпались, теперь это пустые трубки. Но шесть целых и невредимых картечных выстрелов – царский подарок.
Давно ушли к Людкову Нестеров и Попов, давно. Пора бы быть подмоге. Давно пора. Но теперь ей уже не успеть. Опять одно только одинокое орудие должно принять на себя все, что с запада посылает враг на весь десант, седлающий Варшавское шоссе.
За дорогой забился, заклокотал длинными очередями автомат пехотинца. До последнего, до самого последнего солдата билась и бьется рота прикрытия. Полоснул снопом трассирующих и Епишин из немецкого пулемета. Освещенные его пулями смутно замаячили у оврага выползающие оттуда белые фигуры. Но стоило ударить орудию – все движение там прекратилось. Епишин с пулеметом в руке перемахнул через шоссе, дал оттуда две очереди и успел вернуться на огневую до того, как вспыхнула над мостиком первая ракета. Передышка кончилась.
– Умер парень! Все. Вот его автоматы, – бросил старшина наземь груду немецкого оружия. – Конец, комбат. Там их видимо-невидимо. От мертвого пехотинца виден подход к мостику по лощине. Рота туда прошла, не меньше.
В свете ракеты, вырвавшейся из-под мостика, видно, как из лощины лезут наверх десятки и десятки белых балахонов и зеленоватых шинелей. Идут неуклюже: снег глубок. А на шоссе не выходят: пулемет Епишина сбривает с него каждого.
Чуть подрагивает орудийный ствол. Подрагивают на маховиках руки Железнякова, и чуть-чуть смещается орудийный ствол, словно живой, словно тоже приглядывается к цели покрупнее.
Немцев все больше. Это подходит смерть. А Железнякову кажется, что все это происходит не с ним, а с кем-то посторонним, во сне, словно не на него сейчас бросятся, не его, не Витьку из Мажорова переулка будут сейчас рвать на части осатанелые солдаты, тоже мстящие за своих, погибших у мостика на двести сорок восьмом километре.
Сейчас. Сейчас он расстреляет последние снаряды. Все оговорено, обо всем они уже раз десять толковали. Епишин прикроет его минуты на три пулеметным огнем, и они потом, зарыв под березой орудийный замок, уйдут, убегут влево за шоссе, растворятся в ночи, добегут, коль повезет, до полка, сообщат, что арьергарда больше нет.
Теперь ему уже не кажется, что это сон. Нервно подергивается веко, что-то холодное, скользкое бьется в груди. Хочется глаза закрыть, отвернуться, не видеть. И нельзя, нельзя: только ты сам, только сам решаешь ты сейчас, кому здесь жить и кому умирать на Варшавском шоссе.
Новые ракеты взмывают вверх. Прямо на виду немецкие офицеры сбивают группу для атаки.
– Не боятся, соб-баки! – злится старшина.
– Знают уже, что никого тут больше нет, – нервно соглашается лейтенант.
А снарядов всего тринадцать штук. Семь осколочных, шесть картечных.
– Почему они не стреляют? – нервничает Железняков. – Чего ждут, что задумали?
Гитлеровцы пока еще лежат на краю лощины. Опасаются. И пулемет Епишина их держит тоже. Но поднимутся скоро, обязательно поднимутся. И Железняков ждет: если не угадать миг, в который снаряды могут остановить, сорвать атаку, то эта толпа, хлынув из лощины, задавит их тут, сама не заметив этого.
Нервно дрожащие пальцы, кажется, сами по себе, независимо от лейтенанта рванули рукоятку затвора. Руки перехватили выброшенный экстрактором осколочный снаряд и бросили в казенник картечь. Первыми он выпалит снаряды, которые не снаряды, а трубки железные. Так его неожиданно осенило. Для лишнего шума. Все как-никак пушечные выстрелы.
Ну, вот он, решающий миг! Епишин, бросив на месте пулемет, одним скачком перелетает к орудию.
– Заряжай! – орет Железняков. – Пустой картечью заряжай!
И жмет на спусковую кнопку. А где-то в глубине мозг, отвлекаясь от страшной обстановки, тянет его к улыбке. Надо же придумать команду: «Пустой картечью заряжай!» Впервые, наверно, в артиллерии.
Прямо в лоб поднявшимся с боевым ревом немцам, прямо в разинутые в крике глотки.
– Глотай, фриц! Лови! – вопит Епишин, кидая снаряд за снарядом в казенник.
И бешеный вой наступающих вдруг обрывается. Они уже не бегут, застыли на месте. Это сделали не пушечные выстрелы, нет. Их они ждали, на них шли, с ними смирились. Толпа – уже толпа, а не боевой строй атаки – молча, но как по команде крутит головами вправо, вверх, вниз. Многие присели, многие ткнулись лицом в снег.
Железняков с Епишиным тоже пригнулись от неожиданности. Однако от фашистов глаз не отрывают.
Какой-то свирепый визг, что-то неожиданное, страшное, вроде бы рев пикирующих бомбардировщиков, вроде бы гул множества снарядов. Но не только сверху, откуда всегда приходит смерть. Снизу почему-то, сбоку, отовсюду.
Немцы сами стоят. Значит, это не их новости, не они грозят этим визгом, не они ударили чем-то новым, догадываются артиллеристы.