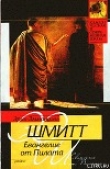Текст книги "Великий Любовник. Юность Понтия Пилата. Трудный вторник. Роман-свасория"
Автор книги: Юрий Вяземский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я не удержался и возразил:
«Не совсем точный пример со жрецом. Жрец ненависти не испытывает».
И Феникс в ответ:
«А я, представь себе, ненавижу. И когда яд из меня выплескивается, испытываю поистине любовное блаженство. Мне теперь не надо ее видеть. Мне достаточно того, что она живет здесь, в Риме, и я могу смотреть, например, вот на эту стену и ее ненавидеть. Могу выйти из дома и ненавидеть-любить улицы, по которым она ходит. А если она куда-нибудь уедет, я начну ненавидеть-любить тот город или страну, куда она уехала. Я самый воздух могу любить-ненавидеть, потому что им мы вместе с ней дышим».
«А Юла? – спросил я. – Ты ее ненавидишь вместе с Юлом Антонием? Надеюсь…»
Но Феникс не дал мне договорить. Выйдя из своей торжественной судейской задумчивости, он вдруг посмотрел на меня взглядом ребенка – я уже давно не видел на его лице этого чистого и обезоруживающего выражения.
«А Юл тут при чем?! – удивленно воскликнул мой друг. – Ты, Тутик, не понял. Говорю тебе: мне удалось написать сложнейшую сцену и ею закончить мою поэму. Для этого и пришел к тебе и, вот, сидел, тебя дожидаясь, чтобы ты вместе со мной порадовался… А ты мне про Юла! – Феникс будто даже обиделся. – Он Госпожу мою никогда не любил. Он ее, может быть, ненавидит. Но без всякой любви… Юл человек несчастный. Несчастных людей нельзя ненавидеть, как ты предлагаешь. Я бы ему очень хотел помочь. Но он не нуждается в моей помощи. Он вообще ни в ком не нуждается».
Так объяснил мне Феникс и быстро покинул меня.
Эдий Вардий на ложе перевернулся с боку на спину, откинулся так, что голова его оказалась на подлокотной подушке, поерзал кругленьким телом, выбирая новое удобное положение, и затих, уткнувшись взглядом в беленый потолок – на потолке ничего не было изображено.
Я ожидал, что вот-вот будет объявлено об окончании трапезы и аудиенции.
Свасория двадцатая. Фаэтон. Любовь к Нелюбви
И Гней Эдий, уставившись в потолок, через некоторое время и вправду устало произнес:
– Ну вот…
Я понял, что это сигнал, и стал осторожно подниматься со своей части ложа.
– Ну вот, стало быть… – задумчиво повторил Вардий, созерцая потолок.
Я уже сел на ложе. И Вардий:
– Ну вот, стало быть, кончился год, в котором Тиберий и Гней Пизон были консулами. И наступил год консульства Гая Антистия и Децима Лелия.
Устало и монотонно проговорив эти слова, Вардий чуть приподнял голову, сначала удивленно на меня покосился, а затем кисло усмехнулся и сказал:
– Ну, раз тебе удобно сидеть, сиди на здоровье. А я буду лежа рассказывать. У меня шея устала.
И продолжал свой рассказ, таким же монотонным голосом, по-прежнему глядя в потолок.
I. – Ты помнишь, старшим Юлиным сыном был Гай Цезарь. Август усыновил его вместе с его братом, Луцием Цезарем, когда Гаю было три года, а Луцию два, то есть почти младенцами. С тех пор они росли не в доме своего природного отца Агриппы, а в доме Августа и Ливии. Юлию к ним, разумеется, пускали. Но воспитанием их занималась главным образом Ливия.
Так вот, в консульство Антистия и Лелия старшему Гаю еще не исполнилось четырнадцати лет, когда в мартовские иды – ты помнишь, в этот день убили божественного Юлия – в мартовские иды было объявлено, что через день, на Либералиях, сначала сенату, а затем народу на форуме будет представлен новый римский гражданин —Гай Цезарь, юридический сын принцепса. То есть, за несколько лет до положенного срока старший сын Юлии был объявлен совершеннолетним, с него была снята детская тога претекста и надета toga рига,белая тога полноправного римлянина. В тогу Август облачил его в семейном кругу, в атриуме Белого дома. Золотую буллу с мальчика снял в храме Либера и Либеры, куда в полном составе был вызван римский сенат и куда накануне специально доставили статую божественного Юлия Цезаря, дабы буллу нового совершеннолетнего можно было повесить на шею его великого предка. Повторяю, не буллу сняли вначале, а потом надели чистую тогу, как обычно делается, а в обратном порядке – дабы в священном месте сенаторы увидели и уразумели, кто истинный дед у этого юноши и кому посвящается безоблачное детство.
На форуме, представляя своего совершеннолетнего сына народу, великий понтифик, принцепс сената и пожизненный трибун, обращаясь к римским богам, произнес не одну, а три молитвы: о благоденствии Рима, о ниспослании здоровья и счастья Гаю Цезарю и о «сохранении ему до конца его жизни уравновешенного и разбирающегося в законах божеских и человеческих разума». А гимны в перерывах между этими молитвами исполняли не обычные певцы и певицы, а так называемая коллегия поэтов – все в праздничных одеждах, увенчанные душистыми цветами. Среди них, по просьбе Фабия Максима, был и наш Феникс, который в течение двух дней зубрил слова гимнов, жалуясь на то, что, вследствие их древности, почти все они непонятны современному человеку, и в точности запомнить их и воспроизвести так же трудно, как карканье ворона, если тот долго и на разные лады каркает.
И на всех двадцати семи римских Аргеях, то есть общественных алтарях, совершались жертвоприношения в честь Либера, Либеры и в честь него – Гая Цезаря, совершеннолетнего наследника великого Августа.
Учитывая, какие надежды возлагал Август на своего старшего внука, ничего странного не было ни в преждевременном провозглашении совершеннолетия, ни в той пышности, с какой оно совершалось.
Странно было лишь то, что на всех этих празднествах отсутствовал Тиберий, муж Юлии, матери Гая Цезаря, единственный теперь сын добродетельной Ливии, жены Августа, дважды консул и второй долгосрочный трибун. То есть, с какой стороны ни разглядывай, – ближайший из родственников и властительный магистрат!
В конце февраля Август отправил его с каким-то маловажным, но трудоемким поручением в Иллирию. Там, в Иллирии, он пробыл до конца апреля. И хотя, как известно, от Аполлонии до Рима недолго добраться, Август не только не вызвал Тиберия на празднество, но даже не известил его о столь значимом семейном торжестве: ни до, ни после того, как оно состоялось.
О досрочном и всенародном вступлении Гая Цезаря в совершеннолетие Тиберий узнал то ли по слухам, случайно долетевшим к нему в Аполлонию, то ли еще позже, когда незадолго до майских календ высадился в Брундизии.
А когда прибыл в Рим, увидел, что свита его заметно поредела. Настоящих друзей, как я тебе говорил, у Тиберия не было. Но после германского триумфа, в год консульства и с январских календ, когда Тиберий вступил в свое пятилетнее трибунство, имея партнером самого великого Августа, – клиентов у него было множество. Каждое утро толпились возле дома в Каринах, пытаясь засвидетельствовать свое почтение, сопровождали в любых его передвижениях по городу… Так вот, теперь, хоть и приветствовали по утрам, но уже не толпились.
И если бы только это. Многие его прежние клиенты, просители и угодники, теперь от него, Тиберия, переметнулись к Гаю Цезарю: у него толпились, перед ним заискивали, его сопровождали, когда он в белой тоге выходил из дома и садился в носилки. Среди этих переметнувшихся оказались, между прочим, и Атей Капитон, и Помпоний Греции, и Сей Страбон – новый префект Рима, командующий преторианскими когортами, и некоторые другие, которых Тиберий уже давно привык видеть подле своей персоны. Верность Тиберию сохранили лишь Гней Пизон, Патеркул Старший и еще несколько менее значительных по своему положению людей.
II. – Было еще одно новшество, – монотонно продолжал Вардий, – которое не могло не обратить на себя внимания вернувшегося Тиберия. Его жену Юлию стали посещать ее прежние… ну, давай мягко скажем, приятели и приятельницы. Уже в отсутствие Тиберия, как ему донесли, к Юлии захаживали не только Юл Антоний и иногда вместе с ним Феникс – несмотря на его новую любовь-ненавистьи его утверждение, что, дескать, отныне ему не надо ее видеть,Феникс, как я и предполагал, все-таки продолжал видеться с Юлией… Не только эти двое общались с женой Тиберия, но еще до его приезда в доме в Каринах стали появляться, казалось бы, давно отлученные от «Госпожи» Эгнация Флакцилла и Аргория Максимилла. К ним через некоторое время присоединилась и Полла Аргентария, и именно после того, как Ливия, за что-то рассердившаяся на Поллу, отказала ей в своем обществе.
А стоило Тиберию вернуться и обнаружить, что клиентов у него резко поубавилось, как в скором времени его стали приветствовать по утрам Квинтий Криспин и Корнелий Сципион, которых он отродясь не видел у себя в доме, но знал, что до его злосчастной женитьбы эти господа обхаживали Юлию.
Не замедлил нарисоваться и напыщенный Аппий Клавдий Пульхр, тоже якобы для того, чтобы приветствовать пятилетнего трибуна и предложить ему свои услуги, если он в них будет нуждаться.
Даже Секст Помпей объявился и – обрати внимание – тоже после того, как его за что-то отстранила от себя Ливия.
И хотя Тиберий, когда они появлялись, встречал их тем вежливым и непроницаемым холодом, которым он мастерски умел отталкивать от себя ненужных ему людей, их этот холод как будто ничуть не отталкивал, а, напротив, словно притягивал и привлекал. Пульхр, как мы помним, сам почти ледяной и зеркальный, обдаваемый Тибериевым холодом, еще сильнее, чем обычно, лучился и сверкал ухоженностью и торжественностью. Сципион в ответ на подчеркнутое к себе невнимание еще сильнее распускал свой павлиний хвост и принимался рассказывать о своем знаменитом пращуре – победителе Ганнибала, Публии Сципионе Африканском. Квинтий Криспин гробовое молчание, которым его встречал хозяин дома, пытался заполнить веселыми шутками и колченогими выходками.
Короче, ни один из приемов Тиберия на эту компанию не действовал. Даже когда в разгар утренних приветствий хозяин дома демонстративно поворачивался к ним спиной и уходил к себе в кабинет, они этой демонстрации либо не замечали и продолжали приветствовать, словно актеры со сцены произнося свои монологи, либо, радостно переглянувшись, просили позвать хозяйку. И их тут же приглашали на ее половину… Дом в Каринах, как и Белый дом на Палатине, уже давно был разделен на две половины, мужскую и женскую, и у Юлии и Тиберия теперь были не только отдельные спальни, но отдельные экседры, триклинии и даже кухни. Общим у них был только атрий.
Запретить же рабу-привратнику впускать этих назойливых посетителей в свою прихожую, он, Тиберий Клавдий Нерон, бывший двукратный консул и ныне пятилетний трибун, по какой-то причине считал невозможным. И лишь однажды, случайно столкнувшись в атриуме – то есть на нейтральной территории – со своей женой Юлией, которая – ныне большая редкость – была не в окружении приятелей, приятельниц и служанок, а совершенно одна, Тиберий осмелился ей заметить, впрочем, без всякого раздражения, а лишь с грустной иронией в голосе:
«Надеюсь, хотя бы Семпроний Гракх не явится меня приветствовать».
А Юлия ему тем же тоном ответила:
«Не явится. Его нет в Риме. Надолго уехал».
На том и разошлись…
Полагаю, ты сам догадался, и мне не надо тебе объяснять, что перед возвращенными адептами Юлией или Юлом – похоже, что они уже давно действовали заодно – была поставлена весьма конкретная задача: своим постоянным и навязчивым присутствием досаждать Тиберию и постараться вывести его из состояния невозмутимой сдержанности, столь для него характерной.
III. – Вывели или не вывели, суди сам, – продолжал Вардий. – Менее чем через месяц после появления адептов… вернее, после появления первого из них, так как они объявлялись постепенно, так сказать, по нарастающей: сначала Криспин, потом Сципион, затем Пульхр и в довершение изгнанный от Ливии Помпей… менее чем через месяц Тиберий покинул дом в Каринах и, оставив жену в обществе ее приятельниц и приятелей, переехал жить к Гнею Пизону. Но не в городской его дом, а на пригородную виллу. Причем, прошу заметить, Пизон с ним вместе не жил; Гней оставался в своем городском доме, Тиберий же стал в одиночестве обитать на его вилле. И там находился тоже около месяца, в Риме не появляясь даже на заседаниях сената.
В конце июня Тиберия вызвал к себе Август, и у них состоялась длительная беседа наедине. Содержание ее стало известно через несколько дней, на очередном заседании сената, на котором Тиберий уже присутствовал.
Один за другим рассматривались какие-то вопросы, в обсуждении которых Август не участвовал, поручив ведение дискуссии консулу Антистию. А когда уже приготовились расходиться и некоторые уже встали со своих мест, Август попросил председателя восстановить порядок и тишину и, обращаясь к сенату, сказал приблизительно следующее:
«В Армении, как вам известно, началось восстание. Я принял решение направить туда нашего доблестного Тиберия. Лучше его никто не умеет разбираться с армянами. Я пригласил к себе этого прославленного полководца и изложил ему мою просьбу. А он мне в ответ объявляет: никак не могу ее выполнить, так как испытываю усталость от государственных дел, ощущаю острую необходимость отдохнуть от трудов и прошу предоставить мне отпуск, и не здесь, в Риме, а на каком-нибудь отдаленном и благоустроенном острове, на Самосе или на Родосе, где можно одновременно лечиться у искусных греческих врачей и слушать местных философов. Как я ни пытался его образумить, указывая на опасность восстания, на обязанности трибуна и консуляра, на воинский долг римского гражданина, на то, наконец, что, сделав над собой усилие, проявив терпение и усердие, которые всегда его отличали, и нормализовав положение в Армении, можно потом с чувством исполненного долга отдохнуть и восстановить силы. Но он – ни в какую. Дескать, устал, истощен и чуть ли не болен. Я к нему долго взывал – он меня не услышал. Я слишком уважаю этого во всех отношениях достойного человека, чтобы силой принудить его, как мы иногда других принуждаем, менее заслуженных. А посему одна у меня надежда – на вас отцы-сенаторы. Если вам не удастся убедить нашего дорогого Тиберия…»
Август не договорил и стал смотреть на своего пасынка, как многие мне рассказывали, с грустной надеждой во взоре.
Сенаторы сначала опешили и растерялись, ибо с трудом могли припомнить, чтобы Август кому-то приказывал или, тем более, просили взывал,а тот ему упрямо отказывал. А справившись с изумлением, ясное дело, принялись поочередно и в соответствии с рангом убеждать, уговаривать, увещевать. Тиберий же после каждого выступления, потупив взгляд, поджав губы и выставив вперед квадратный свой подбородок, угрюмо твердил, что, дескать, нет больше сил, изможден, страдает расстройством желудка и головокружениями, боится подвести, решительно отказывается. При этом выглядел здоровее Плацидеяна, знаменитого гладиатора.
Сенат разошелся. А Август перед тем, как его распустить, подошел к Тиберию и, ничего не сказав, тяжко вздохнул и укоризненно покачал головой.
Тиберий же отправился на пригородную виллу Гнея Пизона.
И там его на следующий день посетила Ливия, супруга первого трибуна и мать второго.
Они долго разговаривали наедине, поднявшись на крышу башни, откуда открывался живописный вид на окрестности и где их никто не мог подслушать, так как негде было спрятаться.
Ливия вернулась в Рим после полудня. А к вечеру в дом в Каринах вернулся Тиберий.
И Юлия, как мне рассказывал Феникс – они в полном составе: Юл, Феникс, Пульхр, Сципион, Криспин, Помпей, две Марцеллы, Антония Старшая, Эгнация, Аргория и Полла, пировали в триклинии на женской половине, – Юлия тотчас выпроводила своих друзей, отправилась к мужу, вошла к нему в кабинет и объявила:
«Куда ты – туда и я. Если в Армению – поеду с тобой в Армению. Если на остров – то на остров».
А муж ей в ответ:
«Нехорошо. Нехорошо оставлять своих друзей. Они будут сильно без тебя тосковать».
И из кабинета отправился в спальню, заперев дверь изнутри.
На следующий день, рано утром, к Тиберию явились два легата. Им, дескать, поручено помогать Тиберию в армянском походе и командовать Шестым и Десятым легионами.
«Кто поручил?» – поинтересовался Тиберий.
«Август», – последовал ответ.
«Так вот, – сказал им муж Юлии, – ступайте к тому, кто вам поручил, и сообщите ему, что Тиберий Клавдий Нерон объявляет голодовку и не будет ни есть, ни пить до тех пор, пока к просьбе его не прислушаются».
Легаты удалились. Тиберий же заперся у себя в спальне и в течение четырех дней действительно не принимал не только пищи, но и никакой жидкости – ни вина, ни воды.
Вечером четвертого дня к нему прибыл глашатай, который сообщил, что принцепс сената и первый трибун разрешает второму трибуну взять годичный отпуск и удалиться на остров Родос.
…Рассказывали, что Ливия чуть ли не на коленях упрашивала своего великого супруга сжалиться над ее теперь единственным сыном и не дать ему погибнуть, учитывая его твердолобую решимость и непоколебимое упрямство.
Через Криспина – ты помнишь, мы с ним дружили, и он во многое меня посвящал? – через Квинтия мне удалось узнать, что на третий день Тибериевой голодовки к просьбам Ливии присоединилась и Юлия. Она явилась в Белый дом; оттолкнув сначала одного, а затем второго секретаря, ворвалась в кабинет Августа и, с ласковой улыбкой глядя на отца, с порога тихо спросила:
«Ты хочешь, чтобы мой муж умер от жажды у себя в спальне? Ты хочешь совсем опозорить свою дочь?»
И, не дожидаясь ответа, ушла…
Короче, совместными усилиями уломали того, кого никому еще не удавалось подчинить своей воле.
IV. – Четыре дня голодал, – продолжал Гней Эдий. – Два дня собирался в дорогу. А в ночь на седьмой день незаметно вышел из дома, пешком по ночным улицам добрался до Остийской дороги, там сел в поджидавший его экипаж и покинул римский померий. Ни с женой, ни с Августом, ни даже с матерью Ливией не попрощался. В Остийском порту его провожали лишь два человека: Гней Пизон и Патеркул Старший. Патеркула он взял с собой на корабль. Пизону же, поцеловав его на прощание, Тиберий поручил присматривать за своим девятилетним сыном, Друзом.
Достигнув Кампании, Тиберий узнал, что Август заболел, на людях не появляется, лежит в Белом доме, никого к себе не пускает, ни Ливии, ни врача Антония Музы.
Это известие получив, Тиберий прервал свое путешествие. И тут же по Городу поползли слухи, что он, дескать, медлит в Кампании, потому что с нетерпением ожидает смерти Августа в Риме.
Но через неделю Август поправился. И когда Тиберий узнал, что с принцепсом всё в порядке, продолжил свой путь: в Брундизий, морем – на Керкиру… ну, и дальше в сторону Родоса.
V.А слухи продолжали жужжать и роиться. Я насчитал четыре роя.
Одни объясняли отъезд Тиберия тем, что он уже долее не мог переносить неверность своей жены, ее пренебрежения к себе как к неравному по происхождению, их взаимного отвращения друг к другу, ну, и тому подобное.
Другие утверждали, что Юлия здесь ни при чем, вернее, главная причина не в ней, а в том, что Тиберий обиделся на Августа, который, судя по всему, вознамерился передать власть не пасынку, а внуку, выдвигая на первое место мальчишку Гая Цезаря, а его, зрелого мужа, двукратного консула, победоносного триумфатора, от себя отстраняя и даже не посчитав нужным пригласить его на празднество совершеннолетия свого будущего наследника, а теперь отсылая в какую-то Армению, где, собственно говоря, ничего опасного для государства не случилось и не может случиться, и, стало быть, как говорится, – с глаз долой, из сердца вон.
Третьи уточняли: да, из-за Гая Цезаря, но вовсе не потому, что Тиберий обиделся. Он, преданнейший из преданных великому Августу, ни за что бы себе этого не позволил! Он удалился из Рима, чтобы уступить место второго человека в государстве подросшему Гаю Цезарю, дабы избежать нежелательного соперничества с юридическим сыном великого принцепса, с природным сыном Юлии и своим присутствием не мешать его делам и не умалять его значения. Да, самовольно уехал, вопреки решению Августа. Но так же самовольно уехал на Лесбос Марк Випсаний Агриппа, когда Август стал приближать к государственным делам своего усыновленного племянника Марка Марцелла, такого же малолетнего. И Август в итоге высоко оценил скромность и преданность своего ближайшего друга.
Четвертые возражали: дело тут не в Юлии и не в Цезаре – стойкого, невозмутимого Тиберия на такие крючки не поймаешь. Наперекор мнению Августа, вопреки молениям матери Ливии этот расчетливый и предусмотрительный государственный муж удалился на Родос, дабы продемонстрировать свою полную независимость от кого бы то ни было и гордым самоудалением укрепить, а то и увеличить свою славу к тому времени, когда римскому государству могут действительно и всерьез понадобиться его услуги.
Пятые… их все-таки пять было – основных роящихся слухов, а не четыре, как я сперва посчитал… пятые дошли до того, что стали намекать на некий мистический страх, охвативший Тиберия. Он, дескать, вспомнил о том, что оба прежних мужа его нынешней жены – молодой Марцелл и далеко не старый, пышущий здоровьем и энергией Агриппа – оба они умерли преждевременной смертью…
Слух этот с особой настойчивостью распускал Квинтий Криспин, с характерными для него ужимками: загадочным подмигиванием и лукавым смешком.
О том, что Тиберий, дескать, хотел подчеркнуть свою независимость и укрепить славу, рассуждал Секст Помпей.
Юл Антоний оправдывал Тиберия, говоря, что он решил последовать примеру Марка Агриппы и освободить поле деятельности для Гая Цезаря.
Корнелий Сципион утверждал, что Тиберий на Августа обиделся.
Пульхр скорбел о семейном разладе.
Слухи же о том, что в Кампании Тиберий якобы ожидал смерти Августа, распространяли Эгнация Флакцилла и Аргория Максимилла…
Как я понимаю, это была вторая задача, которую Юл и Юлия поставили перед вновь призванными адептами. И они с этой задачей успешно справлялись: их заранее распределенные между собой измышления люди принимали, как греки говорят, за чистую монету – еще бы, ведь всем было известно о том, что они чуть ли не ежедневно бывают в доме в Каринах и, стало быть…
Эдий Вардий не окончил, быстрым гибким движением приподнялся на ложе – то есть, только что лежал навзничь и смотрел в потолок, а в следующее мгновение уже сидел на сигме. И вдруг как закричит, так громко и неожиданно, что я вздрогнул:
– Эй, кто там?!.. Принесите фрукты!.. Уберите со стола и принесите нам фрукты!
Замечу тебе, дорогой Луций, что на столе стояло два блюда, наполненных различными фруктами, и Вардий к ним не притронулся.
Прокричав эти команды, Гней Эдий продолжал совершенно спокойным тоном:
VI. – Когда было получено известие, что Тиберий отплыл из Брундизия и покинул Италию, Юлия в тот же вечер устроила у себя званый обед. Приглашены были не только адепты, но и посторонние люди. К моему удивлению, даже меня пригласили: сначала Криспин стал зазывать, потом Феникс зашел и сказал, что «Госпожа ждет нас вместе».
Женщин разместили в Юлином, в женском триклинии. А в мужском – на половине Тиберия! – возлегли – заметь: на сигме и бок о бок! – восемь мужчин и среди них Юлия. Юлия – в центре. По правую руку от нее – Феникс. По левую – Юл Антоний. Я, признаться, впервые видел, чтобы стольких мужчин за столом возглавляла одна женщина.
Я лежал с краю и внимательно наблюдал за дочерью Августа.
Юлия, как я сразу заметил, изменилась. В ней теперь не было прежней царственной величавости и умной, чуть прищуренной насмешливости. Движения стали какими-то резкими и будто скомканными. Лицо же словно застыло, и в этой застылости никаких чувств не проглядывало: ни интереса к тому, что происходит, ни даже задумчивости. И это стылое лицо она сначала повернула к Юлу Антонию и неотрывно на него смотрела, эдак с четверть часа, не переводя взгляда даже на тех, кто к ней обращался и кому она отвечала, и не глядя на те кушанья, которые она брала со стола и отправляла себе в рот. А потом точно так же принялась разглядывать Феникса, повернув в его сторону свое лицо-маску.
Представляешь себе? Порывистые, дерганые, иногда настолько неточные движения, что пальцы ее промахивались мимо блюда, рука задевала сосуды с вином и один раз даже опрокинула Фениксову чашу, – а взгляд остановившийся и неживой, как у некоторых статуй в храме Изиды.
Юл тоже на себя не был похож: какой-то непривычно расслабленный, умиротворенный, очень красивый; без обычных двух своих блуждающих улыбок; взгляд – светло-карий, без желтизны, по-взрослому умный и детски-приветливый, чуть ли не ласковый; даже морщина между бровей разгладилась и исчезла.
Феникс же возлежал мрачный, нахохлившийся и какой-то… тщедушный.
Ни Юл, ни Феникс рта не открыли – то есть рты свои раскрывали только для того, чтобы есть или пить. А разговаривали за столом большей частью Сципион и Криспин: первый занудствовал, второй балагурил, и оба смешили собравшихся, но не Юлию, не Юла и не Феникса.
Когда к холодным закускам стали прибавлять горячие, в лице Юлии вспыхнуло вдруг оживление. Именно – вспыхнулочто-то в глазах, и эти ожившие вдруг зеленые глаза принялись внимательно и с любопытством разглядывать того, кто в это время говорил за столом. И живо, чуть ли не весело перескакивали с одного говорящего на другого.
Когда же перед тем, как подать основные блюда, слуги стали убирать недоеденные закуски, Юлия вдруг рассмеялась и радостно произнесла:
«Меня муж бросил. А вы устроили из этого праздник».
Все несколько опешили. И в том числе потому, что об отъезде Тиберия до этого ни словом не упоминалось. Но Юлия приветливо улыбалась, глаза ее лучились, будто приглашая разделить с ней веселье. Криспин что-то сострил в ответ по поводу Тиберия. Тактичный Помпей тотчас перевел тему разговора, заговорив о греческих философах.
Тут начали подавать первое главное блюдо. Секст умолк со своими философами. И в наступившей тишине Юлия снова засмеялась и сказала, глядя на Аппия Клавдия Пульхра:
«Говорю вам: меня бросил муж. Чему же вы радуетесь?»
Опять-таки весело и беззаботно. И ей в ответ, уже с нескольких сторон, прозвучали шутливые ответы. Я сам еле сдержался, чтобы не сострить. Застыл от ее вопроса и перестал жевать лишь один Аппий Клавдий.
А Юлия, сделав из своего янтарного каликса несколько медленных глотков, теперь уже не смеясь, но ласково улыбаясь, сказала:
«Пошли прочь. Вон из моего дома. Все убирайтесь».
Тоже сначала все растерялись. Затем кто-то попытался шутить, кто-то нахмурился, Пульхр поперхнулся. Лишь Юл и Феникс, пребывая в молчании, сохраняли прежние выражения лиц…я уже их тебе описал.
А Юлия встала из-за стола и тихо предупредила, на всех весьма ласково глядя:
«Если через четверть часа кто-нибудь из вас здесь останется, мои слуги вас выгонят».
И вышла, нет, выплыла из триклиния, ибо к ней вновь вернулась ее царственная плавность.
Почти сразу за ней с неприступно-торжественным видом оставил застолье сенатор Аппий Клавдий Пульхр.
Когда на пороге триклиния появился раб-номенклатор, встал с ложа и покинул помещение всадник Корнелий Сципион, обиженно пробурчав: «Ну, это, знаете ли, свинство».
Когда явился привратник, Квинтий Криспин объявил: «Нет, похоже, не пошутила. Нас гонят, сограждане… Возьму-ка я напоследок эту аппетитную зайчатину. На скаку ей полакомлюсь», – и выбежал из триклиния вприпрыжку.
Юл, Феникс и я вышли из-за стола, лишь когда к номенклатору и привратнику прибавились два дюжих истопника.
…Оказавшись на улице, мы втроем направились в сторону Эсквилина. Я пошел рядом с Фениксом, а Юл Антоний – чуть сзади. Мы и двадцати шагов не сделали, как Юл легонько хлопнул меня по плечу и сказал:
«У тебя на сандалии ремешок отстегнулся».
Я остановился и стал в темноте изучать свою обувь, – наши рабы не успели за нами прийти, ибо никто не ожидал, что пир так быстро закончится.
Я, стало быть, нагнулся к сандалиям. И Юл мне шепнул на ухо, тоже нагнувшись:
«Иди домой. Феникса я провожу. У меня к нему разговор»…
Короче, спровадил. И я не скажу, что это было сделано вежливо.
Тут Гней Эдий опять закричал, требуя, чтобы убрали со стола и принесли фрукты; на этот раз не так гневно, но так же громко и неожиданно.
Никто на его требование не откликнулся. Тогда Вардий удовлетворенно осклабился и сказал:
– Никого нет… Можно дальше рассказывать.
И продолжал:
VII. – На следующий день Феникс пришел ко мне и только тут пересказал мне свой второй разговор с Юлом Антонием, в котором тот ругал великого Августа… Ну, мы с тобой уже говорили об этом (см. 19, IX)… Ябыл в ужасе от услышанного. А Феникс тотчас принялся описывать ту беседу, которая у них с Антонием произошла накануне, после того как Юл бесцеремонно спровадил меня и пошел провожать Феникса.
Юл начал с того, что спросил: а правда ли Август велел Фениксу написать эпическую поэму о римских героических женщинах?.. Откуда Юлу стало известно, Феникс, к сожалению, не поинтересовался. Но уточнил: не приказал, а рекомендовал, посоветовал.
Рекомендовал. Посоветовал. —Юл несколько раз на разные лады повторил эти слова. А после принялся убеждать Феникса, что ни в коем случае ему не следует браться за эту поэму.
Почему? Да потому, объяснял Юл Антоний, что Феникс – человек любви и поэт любви… Так и сказал: поэт любвии человек любви…Тебе о любви надо писать, говорил он, которой ты себя посвятил. А в римских женщинах любви не найти, ни в древних, ни в нынешних. Им это великое чувство было всегда недоступно, ибо для того, чтобы тебя посетила любовь, чтобы тебе ее боги послали, необходимо обладать по меньшей мере тремя природными качествами: надо одновременно быть умным, искренним и милосердным. А римлянки либо умны, но неискренни; либо искренни, но глупы; либо искренни и умны, но жестоки; – у всех у них одного из этих качеств непременно недостает.
Тут Юл принялся приводить многочисленные примеры из древней римской истории, между прочим доказывая, что в лучшем случае римские героини искренность замещали добродетелью, ум – расчетливостью, а милосердие – справедливостью. А это при внимательном рассмотрении – не одно и то же и явная подмена, которая, обманывая людей, богов не обманет.
Юл весьма пространно философствовал на эту тему, определяя и разграничивая понятия. И вдруг объявил, что за всю свою жизнь – Юлу было тогда… дай-ка сосчитать… ну, скажем, Юлу было под сорок – за всю свою жизнь Юл встретил лишь единственную римлянку, которую боги наградили даром любви, потому что она была и искренней, и умной, и чуткой к тем, кто страдает,пусть даже заслуженно… Так именно выразился, не сказав милосердной…Этой женщиной была его мать, Фульвия.
«А Ливия?» – спросил Феникс.
Юл долго не отвечал на этот вопрос. А потом укоризненным тоном – они шли в темноте, и Феникс не мог видеть лица Антония, – чуть ли не обиженным тоном стал выговаривать Фениксу, что он с ним серьезно разговаривает, а тот над ним, судя по всему, подсмеивается, ибо разве не ясно, что нет в Риме более умной женщины, чем Ливия, но нет и более жестокой и лицемерной; и только такая, с позволения сказать, героиня может жить под одной кровлей и делить ложе… Он грубо обозвал великого Августа, и я не желаю вслух повторять этого мерзкого слова.

![Книга [Не]глиняные автора Артём Петров](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)