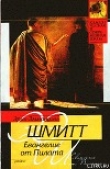Текст книги "Великий Любовник. Юность Понтия Пилата. Трудный вторник. Роман-свасория"
Автор книги: Юрий Вяземский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Или Келад и Ликин, номенклаторы, которые часто сами решали, кого, скажем, из консулов, по собственному почину добивающихся аудиенции, допустить к хозяину, а кому рекомендовать прийти на следующий день или… через неделю. Келад и Ликин не хуже секретарей знали расписание принцепса, лучше Пола и Талла чувствовали настроение хозяина и его предпочтения относительно конкретных людей, ибо утром одевали и вечером раздевали пожизненного трибуна, помогали совершать туалет, прислуживали за завтраком и за обедом в тесном семейном кругу, иногда даже в передней дежурили – да, будучи едва ли не самыми знающими номенклаторами в Риме, они одновременно исполняли и многие другие обязанности, которые в больших хозяйствах обычно поручаются различным рабам. Вольноотпущенник Ликин был номенклатором Марка Агриппы и к Августу перешел после смерти своего господина. Келад же чуть ли не с детства Цезаря Октавиана был его рабом: сначала педагогом, затем охранником, потом номенклатором. Келаду еще в год Актийской победы Октавиан предложил свободу. Но тот, как рассказывали, стал умолять не поступать с ним столь жестоко, ибо свобода от хозяина для него хуже смерти, а рабствовать Августу – такая же честь и такое же счастье, как ежедневно и ежечасно подчиняться воле Юпитера. Остался рабом. Но только он, Келад, мог преградить дорогу Ливии и посоветовать ей не тревожить своего любимого супруга, ибо тот задумался и, судя по его сосредоточенному выражению лица, думает о чем-то трудном и неотложном. Только он, старый раб Келад, мог самому Августу объявить: «Сегодня никуда не пойдешь. Плохо выглядишь. Останешься дома». И Август: «Не могу. Слишком важные дела». А Келад: «Ничего нет важнее твоего здоровья. Я уже вызвал Антония Музу и велел приготовить для тебя ванну. Если будешь перечить, позову Ливию». И Август: «Нет, ради богов, Ливию не тревожь! Будь по-твоему»…
Ливия! Она еще сильнее осложняла рисунок наших кругов… Но, похоже, я слишком увлекся со своим отступлением.
VI. – Ведь я для того стал чертить эти круги вокруг Августа, – продолжал Вардий, – чтобы ты мог оценить положение Юлиных адептов. Гракх, судя по всему, был в пятом круге влиятельных нейтралов. Должностей он давно не занимал и сенатором не был. Но на значительную часть нашей аристократии и особенно на аристократическую молодежь всегда оказывал большое влияние: им восхищались женщины, этому восхищению завидовали мужчины, а подобного рода зависть, в отличие от, скажем, зависти карьерной или имущественной, по моим наблюдениям, скорее притягивает к тому, кому завидуешь, чем отталкивает от него. Добавим к этому давнишнюю «дружбу» с Юлией, в целом благожелательное, несмотря ни на что, отношение к Гракху Августа… Стоит ли объяснять, что наши юные щеголи летели на Семпрония, как мотыльки на огонь. Крылья обжечь? Так ведь этим недавно вылупившимся из золотых яиц аристократикам только и надо, что летать по ночам, обжигаясь и других обжигая; карьера им не нужна, они и так мнят себя на вершине мира, им в пятом круге вольготней всего, тем паче, когда их манят к себе такие светильники, как Юлия, Гракх, Юл Антоний, рядом с которыми они самозабвенно стрекочут, звенят и радостно кусаются, если им позволяют.
Пульхр, как мы знаем, давно был сенатором, принадлежал к третьему кругу и очень хотел попасть во второй, рассчитывая, что многолетняя приверженность Юлии ему в этом поможет. Но не помогала. Хуже того, во время последнего пересмотра сенаторских списков Пульхра якобы едва не лишили места в сенате. Юл Антоний ему об этом поведал и присовокупил: «Тиберий просил тебя исключить. Но я заступился. Я пришел к моему благодетелю Августу и рассказал ему о том, какой ты преданный и добродетельный человек, какое благотворное влияние оказываешь на Юлию и каким положительным примером служишь для молодежи. Принцепс внял моим словам и оставил тебя в сенате. Но предупредил, что консулом тебе никогда не быть, так как Тиберий тебя недолюбливает»… Юл, разумеется, врал: к Августу он не ходил хотя бы потому, что никто не собирался исключать Аппия из сената, а Тиберий, когда решался вопрос, вообще был в Германии. Но обмануть Пульхра не стоило большого труда: он замечал малейшую неправильность в своем внешнем виде, а правду от лжи не умел отличать. Юл же после отъезда Тиберия стал внушать Аппию Клавдию, что через год, через два тот непременно станет консулом, что он, Юл Антоний, об этом будет неустанно ходатайствовать и в кругу консуляров, и перед принцепсом – Тиберий не сможет ему теперь помешать.
Сципион. Он, как мы помним, мечтал стать сенатором. Но во время последнего обновления сената, к вящей своей досаде, не нашел себя в списках. И Юл Антоний ему, понятное дело, разъяснил: «Август поначалу считал, что представитель столь достойного рода непременно должен быть в курии. Но один человек возразил: хватит нам двух Сципионов, зачем нам еще один, чванливый пустомеля Корнелий?.. Догадываешься, кто так низко о тебе отозвался?»
Корнелий Сципион до глубины души оскорбился. И, вновь оказавшись в обществе Юлии, собрал вокруг себя нескольких всадников, которые тоже были на что-то обижены: желанную должность не дали или сняли с прибыльной магистратуры, сенатором не сделали, исковое заявление не поддержали или, напротив, поддержали соперника и чуть ли не разорили. Корнелий, теперь ненавидевший Тиберия, однако, избегал прямой критики в его адрес, а рассуждал в целом и в общем: о падении нравов, о деградации Республики, о вырождении римского народа. Он, чуждый поэзии, тем не менее тщательно проштудировал покойного Горация и отыскал у него созвучные своему настроению стихи, которые выучил наизусть и часто цитировал. Чаще всего эти:
Чего не портит пагубный бег времен?
Отцы, что были хуже, чем деды, – нас
Негодней вырастили; наше
Будет потомство еще порочней.
…Он, впрочем, себя и своих обиженных собеседников никогда порочными не именовал, но прочие все рисовались им и негоднымии порочными,нынешние сенаторы – в особенности.
Пульхр – он ведь был нынешним сенатором). -на эти, как греки говорят, филиппики никогда не откликался. Он, сохранявший торжественную непроницаемость своего лица и блюдший каждую складку своей сенаторской тоги, вообще старался не говорить. Но в те редкие моменты, когда складки приходили в беспорядок и их нужно было заново драпировать на глазах у людей, Аппий, может быть, для того, чтобы отвлечь внимание от своих действий, прерывал свое благородное молчание и рассуждал, как правило, о том, как халатно в отношении Империи и как неблагодарно по отношению к Августу поступил Тиберий, самовольно уехав из Рима, пренебрегая своей должностью второго трибуна, покинув жену Юлию, лишив заботы и попечения ее царственных детей и своего собственного сына, Друза Нерона.
А вокруг этих обиженных и недовольных прыгала, стрекотала, крутилась и жужжала щегольская молодежь Гракха, которую Юлу Антонию ничего не стоило иногда превращать в жалящих насекомых – в шелковистых ос и в золотокрылых оводов (они предпочитали шелковые одежды и золотые перстни, браслеты и шейные цепочки).
А вокруг самого Юла сформировалась команда молодчиков, без роду без племени, непонятно зачем призванных, но, судя по их кривым улыбкам, по их горящим недобрым огнем и выжидательно устремленным на Антония взорам…
Эдий Вардий вдруг прервал свою речь и, замедлив шаг, с досадливым прищуром принялся смотреть куда-то вперед. Я проследил за его взглядом и увидел, что примерно в полстадии от нас, на тропе, ведущей в гельветскую деревню, возникло некоторое замешательство. Какой-то человек, по виду гельвет, похоже, не желал сходить с тропы по требованию Вардиевых охранников-германцев. Он даже пытался оказать сопротивление: одного раба грубо оттолкнул, на другого замахнулся рукой. Но тот ловко перехватил его руку, загнул ее за спину гельвету, так что тот согнулся, а в это время другой охранник схватил строптивца за ноги, оторвал от земли, и оба германца проворно оттащили гельвета в кусты орешника, словно тот был лежащим поперек дороги бревном или мешком с мусором.
Вардий перестал щуриться, виновато мне улыбнулся и, продолжая путь, продолжал рассказ, но не с того места, на котором прервал его, и более сбивчиво, чем до этого:
VII. – Юлия изменилась. Во-первых, взгляд стал другим… Нет, глаза не перестали быть пронзительно-зелеными. Но вместо чарующей зелени… как бы точнее сказать?.. Зелень стала какой-то мрачной и блестящей… Блестящий мрак, представляешь себе?.. На губах часто выступала не насмешка, а презрение и почти ненависть. И вокруг этих презрительных губ – на подбородке, на щеках, на двух косточках, двух точках под глазами, в самом начале щек – появлялось что-то детское, доверчивое и веселое. Контраст поразительный!.. Она теперь часто бледнела. И когда бледнела, то удивительно хорошела собой. А когда на лицо возвращался румянец, Юлия чуть ли не дурнела… Да, именно! Дурнела и старела на глазах.
Она стала худеть. А женщины в ее возрасте… дай-ка сосчитать… ей в том году исполнилось уже тридцать три года… женщины в таком зрелом возрасте, как считается, не могут себе этого позволить – тем более с ее фигурой: широкими бедрами и маленькой грудью!
Пытаясь сохранить полноту и вместе с ней свежесть, Юлия для возбуждения аппетита чуть ли не ежедневно устраивала длительные прогулки, а по вечерам пировала со своими адептами, поглощая большое количество еды. Столы у нее ломились от дорогих и изысканных лакомств. И кто-то однажды – кто-то из посторонних, чуть ли не Ургулания, посланная добродетельной Ливией, дабы проведать своих внучек и внука: Юлию Младшую, Агриппину и Постума, – человек этот, увидев столь многолюдное и пышное застолье, не удержался и поставил Юлии в пример умеренность и скромность ее державного отца. А Юлия, как рассказывали, ответила: «Пусть мой отец иногда забывает, кто он такой. Но я, Юлия, всегда должна помнить о том, что я – дочь Августа, императора и властителя мира!»…Об этом ее заявлении, разумеется, тут же стало известно в Белом доме.
Юлины волосы, сводившие с ума Феникса, утратили теперь свое свойство менять оттенки в зависимости от освещения, потускнели и перестали быть огненно-рыжими; в них стали появляться выцветшие, пегие, чуть ли не седые пятна и целые пряди. Юлия их, естественно, удаляла из своей прически с помощью Фебы… Об этом также доложили Ливии. И однажды, когда Юлия гостила в Белом доме, Август, сев рядом с дочерью и, как в старые добрые времена, словно малого ребенка, принявшись гладить ее по голове, вдруг лукаво спросил: «Со временем, когда к тебе приблизится старость, ты какой хочешь выглядеть: седой или плешивой?». – «Седой», – ласково жмурясь, ответила Юлия. «Так зачем же твои девушки, убирающие тебе голову, делают тебя плешивой преждевременно?» – последовал вопрос. Юлия, как мне рассказывали, на этот вопрос не ответила.
Но через несколько дней на гладиаторские бои явилась в сопровождении самых щегольских, самых молодых и самых шумных из своих адептов. Добродетельная Ливия прибыла в амфитеатр в окружении серьезных седовласых сенаторов и почтенных молчаливых матрон. Там был и Август. Задумчиво и внимательно разглядывая поочередно свою жену и свою дочь, он затем приказал подать себе дощечку, начертал на ней несколько слов и велел передать Юлии. На дощечке Юлия прочла: «Чем твоя свита отличается от свиты Ливии? Выскажи мнение». Юлия также велела подать ей дощечку и на ней написала: «Лица, составляющие мою свиту, будут в свое время столь же серьезными и столь же почтенных лет, как те, какие окружают теперь Ливию. А я, если послушаюсь тебя, то стану седой, как твоя жена, а если не послушаюсь – плешивой, как божественный Юлий, твой отец и мой дед».
В следующий раз в театр на представление трагедии Юлия пришла в обществе Семпрония Гракха и Аппия Клавдия Пульхра, облаченная в роскошный дорогой наряд. Август посмотрел на нее не то чтобы с осуждением, а с какой-то прищуренной грустью, и на приветствие дочери ни слова не ответил, даже головой не кивнул, переведя задумчивый взгляд на пустую орхестру. Но вечером того же дня – вечером играли комедию в том же театре, театре Марцелла – Юлия явилась в скромном одеянии матроны, сопровождаемая на этот раз Юлом Антонием и Квинтием Криспином, одетыми также скромно и просто. Август встретил ее на этот раз с веселой улыбкой, не только ответил на приветствие, но поцеловал и прижал к себе. «Спасибо, что почувствовала разницу», – сказал Август. А Юлия ответила: «Как я могла не почувствовать? Сейчас я одета, чтобы понравиться моему отцу, а утром была одета, чтобы понравиться мужу». – «Мужу? —ласково удивился Август. – Но разве Тиберий не на Родосе?». – «Тиберий? – в тон отцу так же ласково удивилась Юлия. – Да, Тиберий на Родосе… Но меня хорошо воспитали. И я всегда чувствовала разницу между трагедией и комедией»…Эту ее загадочную и двусмысленную фразу потом долго обсуждали и на разные лады пытались интерпретировать и на Палатине, и в Каринах, и на других холмах и в других римских районах.
И в тот же вечер, когда Юлия выходила из театра, какой-то неизвестный молодой человек с коротким плетеным хлыстиком в руке, как рассказывали, на Юлию уставился, чему-то усмехался и о чем-то перешучивался со своим приятелем. Юлия этот взгляд на себе почувствовала, плавной, словно специально замедленной походкой приблизилась к незнакомцу, вырвала из его рук хлыстик и с радостной, чуть ли не с восторженной улыбкой на губах несколько раз хлестнула этого человека по лицу: наискось, сначала справа, потом слева, затем опять справа, с размаху, изо всей силы. Незнакомец от удивления даже не сопротивлялся и лишь от третьего удара пытался закрыться рукой, но высившийся за спиной Юлии Юл Антоний его руку отбросил…Эту Юлину выходку тоже потом долго обсуждали. Одни утверждали, что молодой человек с хлыстиком был из окружения Ливии, своими репликами и своим поведением оскорбил Юлию и, стало быть, заслуженно получил наказание. Другие возражали: то был приезжий, какой-то провинциал, который пришел издали полюбоваться театром Марцелла и шутил со своим приятелем по некоему поводу, к Юлии никакого отношения не имевшему; так сказать, безвинно попался под горячую руку и тут же исчез из города, как только узнал, чья была ручка.
– И вот еще, – продолжая, перескочил Вардий. – С некоторых пор, приблизительно с половины консульства Гая Цезаря, Юлия чуть ли не ежедневно стала приходить в Белый дом, на Ливину половину, где продолжали проживать старшие Юлины дети: пятнадцатилетний Гай-консул и четырнадцатилетний Луций, в июне объявленный консулом на следующий год. С Ливией Юлия почти не общалась, скупо отвечая на ее вопросы и стараясь не глядеть в ее сторону. Но с сыновьями своими была ласкова и заботлива, как никогда: шила для них одежду, надзирала за едой, которую им готовили; при всяком удобном случае норовила быть рядом с Гаем… Гай, юный консул и старший наследник, слишком гордился своим положением, старательно изображал из себя на редкость занятого человека, хотя государственными делами занят почти не был, ну, разве присутствовал на заседаниях сената и на официальных празднествах – консульские полномочия к тому времени были сведены к минимуму, к тому же вместе с ним, как я уже говорил, консульствовал сам Август! Но он, Гай, не мог отказать себе в удовольствии побеседовать с матерью, которую привык месяцами не видеть и которая ныне настойчиво искала его общества, льнула к нему. Однажды, когда Гай уединился с Юлией и принялся рассказывать ей о своих государственных планах и о грядущей женитьбе, вдруг, не спросив разрешения, в экседру вошла Ливия и сурово напомнила, что Гая ждет кто-то из его нынешних наставников. Юноша вспыхнул от возмущения и негодующе воскликнул: «Ты что, не видишь, женщина?! Консул Гай Цезарь беседует с матерью. С родной матерью!Все подождут, пока мы не закончим!» Таким тоном с добродетельной Ливией никто не разговаривал. Никто не называл ее «женщиной». Тем более – ее давний воспитанник Гай. Тем более – в присутствии злосчастной, распутной…
Об этом дерзком выкрике Гая Цезаря Августу, я думаю, тоже доложили. Хотя не знаю, кто это сделал. Могла сделать и оскорбленная Ливия. Август же…
Он, если и любил кого-то, то этим человеком была Ливия. Всё говорило о том, что с годами и с ростом его почти безраздельного могущества он не утратил нежных и благодарных чувств к своей мудрой и чуткой супруге. Однако… как бы это поточнее нарисовать?., он уже тогда стал готовиться к некоторым из своих разговоров с женой и не просто заранее обдумывал свои слова, но брал дощечку и набрасывал на нее как бы план беседы, ключевые аргументы формулируя и выписывая… Понятно, что я хочу сказать?..
Так вот, вскорости после выходки Гая Цезаря Август как бы невзначай зашел на Ливину половину Белого дома, причем в то самое время, когда Юлия с одной из рабынь усердно рукодельничала. Зашел, значит, и как будто начал что-то искать среди прялок и ткацких станков. А потом обернулся к дочери и словно хотел что-то спросить, но не спрашивал, разглядывая и раздумывая.
А Юлия, не поднимая головы от работы и не встречаясь взглядом с отцом, тяжело вздохнула и грустно произнесла:
«Вот, как рабыня, работаю в чужом доме и многим мешаю».
«Рабыня? – удивленно переспросил Август. – В чужомдоме?»
«Мой дом опустел, когда ты выгнал из него моего мужа», – ответила Юлия.
«Я… выгналТиберия?!» – уже строго переспросил Август.
А Юлия побледнела, тряхнула головой и с горечью произнесла:
«Да, ты. Еще тогда, когда решил сделать Ливиного сына моим мужем. Неужто не знал, чем всё это закончится?»
Август поджал губы, на левой щеке вокруг едва заметного шрама появилось красное пятнышко и левый глаз чуть задергался – признаки сдерживаемого гнева, как знали очень близкие к принцепсу люди. Август шагнул к дочери, взял ее за подбородок, поднял ее голову так, чтобы взгляды их встретились, и с тем же вздрагивающим глазом, с тем же пятном на щеке, всё более расширявшимся, процедил сквозь зубы:
«Ливия любит тебя, как родную дочь. Тебе это прекрасно известно. И в моем доме – в нашемдоме! – ты для всех родная и всегда желанная. Об этом надо думать! А не о тех глупостях, которые лезут тебе в голову».
Тут Август отпустил Юлин подбородок и направился к выходу. Но на пороге обернулся, всё еще с пятном на щеке, но уже без подрагивания глаза:
«Ты только не забывай, что, помимо Гая и Луция, у тебя есть другие дети. О них тоже надо заботиться, почаще с ними бывать».
И вышел.
А Юлия с той поры почти совсем перестала бывать в доме на Палатине. Удлинила прогулки и участила пиры с Гракхом, с Юлом, с другими своими адептами.
VIII. – Юл тоже переменился, – вновь перескочил Гней Эдий. – Он стал еще более красивым и мужественным. Две улыбки – ты помнишь, я тебе их описывал? (см. 18, IV) – исчезли с его лица, и теперь осталась только одна улыбка – строгая и печальная, глядя на которую, тебя самого будто охватывала печаль, и ты начинал сожалеть… о чем? трудно сказать, но в тебя проникало и сожаление.
Глаза его теперь приобрели постоянный желтый, темно-желтый цвет; и эта их желтизна, во-первых, поражала своей неестественностью, а во-вторых, была какой-то сумрачной, холодной, недоброй. Тяжело было смотреть в эти глаза, но, с другой стороны, совсем не смотреть в них было почти невозможно, потому что они словно притягивали тебя своей необычностью и… да, почти демонической красотой… Иначе не могу выразить ощущение…
Морщина между бровей – помнишь? Теперь еще одна морщина появилась, от середины лба к переносице, образовав как бы крест.
Из голоса исчезла хрипота. Юл теперь говорил чистым и ровным голосом, скорее баритоном, чем басом. И вот еще странность: чем тише Юл говорил, тем повелительнее звучали слова…
Я Юла сумел изучить, потому что он трижды со мной разговаривал. Один раз окликнул меня на улице, подошел и стал просить, чтобы я «вернул Феникса». Так и сказал: «Я знаю, ты ему самый близкий друг. Верни его нам. Юлия по нему тоскует. И всем его не хватает. Уговори, постарайся».
Второй раз явился ко мне домой и попросил раздобыть для него Фениксову трагедию, не первую, а вторую его «Медею». Дескать, Юлия ее требует, а он, Юл Антоний, ни в чем не может отказать дочери Августа.
В третий раз прислал за мной лектику и просил пожаловать к нему на обед, на котором, помимо разного рода женщин, были Помпей и Криспин, Пульхр и Сципион. Гракх и Юлия, правда, отсутствовали. Но Юл объявил, что считает меня своим давним приятелем, надеется на то, что я буду часто бывать и у него, Юла Антония, и у Юлии с Гракхом, которые якобы часто обо мне справляются и давно ищут встречи со мной.
Феникса ему я, конечно же, не смог вернутьи, ясное дело, не собирался. Но обещал, что буду стараться. «Медею» скоро достал, уговорив Феникса разрешить мне сделать копию с трагедии, дескать, лично для меня. И с той поры я изредка и тайно от моего друга стал бывать на сборищах Юла и Юлии, конечно же, не в роли нового адепта, а в качестве наблюдателя и, если угодно, разведчика…Один из моих знакомых, вернувшись из Африки, рассказывал, что антилопы, завидев льва, не бегут от него, а держатся на определенном расстоянии, дабы, вместо того чтобы пуститься наутек навстречу неизвестности и неожиданной засаде, издали следить за поведением хищника и предвидеть опасность… Вот так и я стал вести себя, естественно, никаких своих интересов тут не преследуя, а исключительно в целях охраны моего Феникса и для предупреждения возможных провокаций.
Это во-первых. Во-вторых же… Буду честен с тобой и признаюсь: Юлу почти невозможно было отказывать. Я теперь сам на себе испытал…Как бы тебе это объяснить, молодой человек?.. В Юле Антонии с каждым годом становилось всё меньше человеческого и всё больше того, что некоторые греческие стоики называют демоническим. От него словно запах шел, запах иной природы.Будто в Ахайе, в Азии или на Кипре в Юла вселился призрак его отца. И этот призрак сначала затаился, а потом решил воспользоваться душой и телом своего сына, чтобы отомстить за свои унижения, за свой позор, расплатиться с Августом, с его семейством, с Римом самим расквитаться за свою страшную гибель! И Марк с каждым годом всё больше вытеснял Юла. Но мстящий призрак, выходец из египетской могилы, скрывался внутри. А на поверхности, обращенной к людям, – сумрачно-прекрасный, притягательно-одинокий живой человек!.. Спорить с ним было невозможно, потому что едва ты начинал ему возражать, тебе тут же хотелось замолчать и ему подчиниться. Взгляд его был настолько тяжел, что, как я заметил, даже Юлия, даже Гракх избегали с ним встречаться глазами… Ты отводил взор. Но взгляда его не мог избежать. И он жег тебе лоб, леденил грудь, долго стоял перед глазами и снился тебе по ночам…
Особую власть Юл имел над женщинами. Но и мужчины – за исключением разве Квинтия Криспина: на этого шута вообще ничего не действовало! – почти все мужчины испытывали на себе демоническое влияние Юла Антония и ему подчинялись.
Мы уже почти дошли до гельветской деревни. Вардий вдруг остановился, схватил меня за руку и сказал:
– Ты прости меня за вчерашнее. За эти поглаживания. Я лишь хотел показать, что и ласки можно сделать… отвратительными. Мы ведь говорили о Любви к нелюбви.
И тут же, словно опомнившись, Гней Эдий воскликнул:
IX. – О Фениксе мы забыли! Я всё о Юле, о Юлии… Но не волнуйся, сейчас вспомним!.. Так вот, о Фениксе. С Юлией и с ее адептами он ни разу не встретился. Он занялся тем, что через год, нет, через два, описал в своем «Лекарстве»… Я еще не давал тебе читать? «Лекарство от любви» не давал? Ну, так дам обязательно, когда мы вернемся. Он там многое описывал из своих ухищрений…
Так отправляйся же в путь, какие бы крепкие узы
Ни оковали тебя: дальней дорогой ступай!
Будь только тверд: чем противнее путь, тем упорнее воля —
Шаг непокорной ноги к быстрой ходьбе приохоть…
У него в этой антилюбовной терапии, как сказали бы греки, или в «обугливании Фаэтона», как он сам однажды выразился, три этапа было в этом действии. Первый этап – попытка убежать из Рима. Сначала он исчез из Города, не предупредив об отъезде, не сообщив, куда направляется, даже не попрощавшись со мной, своим лучшим, если не единственным другом. Недели две его не было. А когда вернулся, пришел ко мне, сел напротив и молчал, вперив в меня тот самый взгляд, который у него появился в последнее время… Я тебе уже, кажется, описывал: глаза будто ослепшие, и от этого почти безжизненное, словно маска, лицо, на котором изредка возникала едва заметная, но очень неприятная улыбка… На расспросы мои почти не отвечал. Мне лишь удалось узнать, что направился он на север, добрался чуть ли не до Медиолана, но потом повернул обратно. Уходя, сообщил, улыбнувшись слепой улыбкой:
«Я, Тутик, похоже, не то выбрал направление. Нельзя мне на север. Мне надо на юг… Дней через пять поеду в Ахайю. Оттуда, наверное, на Крит. А с Крита, пожалуй, в Африку… Ты не сердись. Тебя не зову. Но непременно зайду попрощаться».
…Действительно, укатил. Но не через пять дней, а через три. И не зашел попрощаться…
Нет, покинувши Рим, не ищи утешения горю
В спутниках, в видах полей, в дальней дороге самой.
Мало суметь уйти – сумей, уйдя, не вернуться,
Чтоб обессилевший жар выпал холодной золой.
…Путешествовал сушей, сначала на иноходце, а затем на муле, у которого спину натер чемодан, а всадник вытер бока. Добрался до Брундизия, договорился с каким-то капитаном плыть на Керкиру, уплатил деньги, сел на корабль, но перед самым отплытием сошел на берег и не вернулся, оставив на борту свой багаж.
В Риме объявился месяца через полтора. Меня о своем возвращении не известил. Я его случайно встретил в садах Мецената и в первый момент не признал. Мы шли в одном направлении. Я шел сзади. И вижу: передо мной идет какой-то подросток, одетый во взрослую тогу; походка небрежна и ленива, но руками не размахивает – то есть, они у него совершенно не движутся, как непременно бывает у идущего человека. Этими-то неподвижными руками я заинтересовался и, ускорив шаг, догнал шедшего впереди меня. Я принялся сзади разглядывать его вьющиеся белокурые волосы и шею, кожа которой поразила меня своей почти женственной нежностью. Он, вероятно, почувствовав на себе мой взгляд или услышав шаги за спиной, обернулся, и я увидел перед собой воистину странное лицо – с одной стороны, детское, беззащитное и будто виноватое, а с другой… трудно описать это новое выражение, появившееся у него на лице… Представь себе: он одновременно смотрел и на тебя, и как бы в глубь себя, удивленно наблюдая и грустно вспоминая, вовне – по-детски открыто и немного испуганно, а вовнутрь – с какой-то почти старческой мудростью и покорностью… Клянусь тебе, я не сразу догадался, что передо мной Феникс. А когда понял наконец, то у меня не возникло ни малейшего побуждения протянуть к нему руки, обнять его… Мы ведь долго не виделись!.. Нет, что-то в его взгляде не просто сковало мои естественные чувства, но даже не дало им родиться.
И Феникс, как мне показалось, с благодарностью оценил мою сдержанность.
Он тихо произнес, глядя на меня своим странным взглядом:
«Я недавно вернулся. Но мне надо прийти в себя. Дай мне несколько дней. Я к тебе сам зайду».
И, повернувшись, пошел к сторону Лабиканской дороги.
Больше он никуда не уезжал из Рима. Похоже, «не сумел, уйдя, не вернуться», «обессилевший жар не выпал холодной золой»… Помнишь, как у Лукреция?
Ибо, хоть та далеко, кого любишь, – всегда пред тобою
Призрак ее, и в ушах звучит ее сладкое имя…
С этим призраком он на первом этапе, этапе путешествий, не смог совладать. А посему перешел ко второму этапу обугливания Фаэтона.
– В своем «Лекарстве», – продолжал Вардий, – он этот этап тоже описывает.
Словно платан – виноградной лозе, словно тополь —
потоку,
Словно высокий тростник илу болотному рад,
Так и богиня любви безделью и праздности рада:
Делом займись – и тотчас делу уступит любовь.
Делом он занялся у себя на вилле. Выгнав уродок-луканок и похотливую актерскую пару о которых я тебе рассказывал (см. 20, IX),Феникс с неожиданным усердием принялся хозяйствовать: ухаживал за деревьями, подстригал кустарники, сажал яблони и груши, прививал дички, командуя и руководя своими рабами, но значительную часть работы предпочитая делать собственными руками.
Можешь своею рукой сажать над ручьями деревья,
Можешь своею рукой воду в каналы вести.
Если такие желанья скользнут тебе радостью в душу —
Вмиг на бессильных крылах тщетный исчезнет Амур.
…Я, правда, не замечал, чтобы «радость скользила к нему в душу». Но он теперь с раннего утра и до позднего вечера трудился у себя в усадьбе, деловитый, сосредоточенный, придирчивый к работникам и требовательный к себе.
На этом этапе он изредка допускал меня к себе. Но я с ним мог общаться, лишь наблюдая за его работой или в ней ему помогая. На трапезы он меня не приглашал – ну, разве что наскоро перекусить между одним и другим делом под деревом или в винограднике. Ели мы, как правило, молча или обмениваясь короткими замечаниями на сугубо сельскохозяйственные темы. О Юлии, разумеется, – ни слова.
Когда начался охотничий сезон, Феникс забросил свое садоводство и переметнулся к охоте.
Хочешь – усталого пса поведи за несущимся зайцем,
Хочешь – в ущельной листве ловчие сети расставь,
Или же всяческий страх нагоняй на пугливых оленей,
Или свали кабана, крепким пронзив острием.
Ночью придет к усталому сон, а не мысль о красотке,
И благодатный покой к телу целебно прильнет.
…До этого он никогда охотой не увлекался. А тут обзавелся сетями и различного рода силками, разжился целой сворой собак – двумя рыжими лаконцами, тремя черными молоссами, четверкой галльских борзых и пятеркой умбрских гончаков, – свел знакомство с двумя своими соседями, заядлыми охотниками, и в их обществе часами, иногда целыми днями пропадал в лесах и горных ущельях, с удивительной быстротой освоив охотничьи приемы и навыки. Собак своих откармливал жирной сывороткой. С галльцами охотился на зайцев, с умбрцами – на ланей, с лаконцами – на оленей, с молоссами – на кабана. За какие-нибудь две недели овладел балеарской пращой и, как рассказывали, довольно ловко и точно поражал камнями ланей и коз. Оленей обкладывал кольцом пурпурных перьев и криком заводил в сети, поражая фракийскими дротами. Кабана брал на рогатину… Да, представь себе, он, худенький, изящный, по свидетельству его напарников, несколько раз один на один вступал в смертельную схватку со свирепым альбанским вепрем! Говорят, на это было страшно смотреть и некоторые из загонщиков даже отворачивались, когда огромный кабан кидался на хрупкого Феникса. Но тот с восхитительным бесстрашием, с поразительным спокойствием, с удивительной быстротой и точностью выставлял рогатину, и вепрь на нее натыкался, своим свирепым натиском сам себя поднимая на воздух, своей безумной яростью себя умерщвляя. А Феникс бестрепетно смотрел на агонизирующее чудовище и улыбался ему своей детски-виноватой и старчески-мудрой улыбкой…

![Книга [Не]глиняные автора Артём Петров](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)