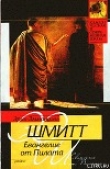Текст книги "Великий Любовник. Юность Понтия Пилата. Трудный вторник. Роман-свасория"
Автор книги: Юрий Вяземский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Другое дело, что, служа Аполлону, нельзя забывать о том, что этот великий бог не только поэзии покровительствует, что он даровал нам победу при Акции и с той поры ревниво следит за нашим поведением, награждая и поощряя добросовестных и добропорядочных и сурово наказывая разного рода смутьянов, бездельников и распутников – тех, кто фальшивит и фальшью своей пытается нарушить небесную гармонию, у нас на земле воплощенную в государстве и наших законах.
Да ведь и Музы, которым внимают поэты, разные, – продолжал Август, съев вторую половинку четвертого пирожка. – Знающие люди рассказывают, что у Муз, как у нас, у людей, есть свои ранги. Есть среди них Музы-жрицы, Музы-сенаторы, Музы-всадницы и Музы-плебейки. Они стоят как бы на лестнице, ведущей в небо. Ближе всего к Аполлону Музы-жрицы: Урания, которая смотрит в небо и ведает божественные тайны, и Полигимния, которая богов воспевает. Чуть ниже их, на третьей и четвертой ступенях, Музы-сенаторы: Клио – Муза истории и Каллиопа – Муза эпической поэзии. Еще ниже – Музы-всадницы: Мельпомена, Евтерпа и Талия, и первая, устрашая, воспитывает народ, вторая его образумливает и успокаивает, а третья развлекает, чтобы народ не скучал. И уж в самом низу пребывают танцовщица Терпсихора и любострастная Эрато. Они когда-то тоже повиновались Аполлону, но не удержались на последней ступеньке парнасской мусической лестницы, соскользнули с нее и стали принадлежать даже не нашей римской Венере, а греческой Афродите, той, о которой пишет Платон, называя ее Всенародной и Пошлой.
Так вот, талант поэта зависит от того, каким Музам он способен внимать. Вергилий слышал сразу четырех главных Муз: небесную Уранию, божественную Полигимнию, эпическую Каллиопу и историческую Клио. И потому стал величайшим из римских поэтов. Гораций, по сравнению с Вергилием, был, во-первых, туговат на ухо, а во-вторых, слишком любил себя и свой поэтический произвол, что мешало ему слышать верхние регистры божественной гармонии. Что же до Тибулла и Проперция, то они, по природе своей более мелкие поэты, могли бы внимать Музам-всадницам и сочинять поучительные трагедии и добродетельные комедии. Но Тибулл вследствие своего упрямства, а Проперций по болезни – ты ведь, кажется, дружил с ним и знаешь, что он был импотентом, – оба они отправились прислуживать пошлым Музам и в результате не только унизили свой природный дар, но и, как считает мой врач Антоний Муза, нанесли немалый вред своему физическому здоровью. Тибулл ведь умер совсем молодым… Тебе сколько сейчас? Тридцать два?.. Ну вот, уже тридцать шесть. Тибуллу же и тридцати трех не исполнилось… А сколько было Проперцию?.. Всего тридцать пять?.. Вот видишь, как печально всё это заканчивается!».
Тут Август многозначительно посмотрел на Феникса. При этом тому показалось, что этим «печально заканчивается» его собеседник хотел сказать намного больше того, что логически вытекало из его слов.
А после, бережно, но решительно отодвинув блюдо с пирожками, принцепс наклонился над столом, приближая свое лицо к лицу Феникса, и даже правую руку вперед вытянул, будто хотел взять поэта за руку, но в последний момент словно передумал и руку вернул назад. И заговорил так, как старший товарищ говорит с младшим, не увещевая и, боже сохрани, не упрекая ни в чем, а просто объясняя создавшееся положение.
«Смотри, – сказал Август, – Вергилий, Тибулл, Проперций, Гораций умерли один за другим. И Рим лишился ведущих поэтов. Среди тех, кто остался, я в первую очередь назову, пожалуй, Вария Руфа, Квинта Рабирия и Корнелия Севера. Всё это достойные люди, знающие толк в поэзии и понимающие ее государственное значение, ее воспитательную миссию. Все они стараются и служат Риму. Но Варий, безусловно, поэт одаренный, слишком стар уже, чтобы слышать пение Муз. Рабирий, которого некоторые называют «вторым Вергилием», во-первых, никакой не Вергилий, во-вторых, еще старше Вария, а в-третьих, уже многих раздражает своими слишком шумными и часто совсем не уместными излияния в мой адрес. Север же, с которым, как мне говорили, ты дружишь… Сам знаешь, чего стоят его длиннющая поэма о Сицилийской войне и его совсем уже бесконечный эпос по истории Рима».
«Ты понимаешь, о чем я?» – вдруг спросил Август.
Феникс готовно кивнул. Он уже не ощущал паралича в своем теле.
А Август снова начал было протягивать по столу руку в сторону руки Феникса, но снова ее вернул.
«Боюсь, не до конца понимаешь, – медленно покачал головой принцепс. – Год назад нас покинул мой Меценат. И кто теперь его заменит? Кто будет следить за римской поэзией и направлять ее в благодатное для нее русло? Фабий Максим этим теперь занимается. Он хороший знаток поэзии. Но он не поэт. Он не в состоянии точно различить ступени мусической лестницы, безошибочно определить, кому из поэтов мы можем поручить самые сложные и самые ответственные темы… Понимаешь?»
Феникс снова готовно кивнул. А Август в третий раз протянул свою правую руку и наконец положил ее на левую руку поэта. И тихо и доверительно рассуждал:
«Нижайшей из Муз, Эрато, ты отдал свои юношеские годы. И с нею уже прославился. Сейчас ты пишешь трагедию и, стало быть, выше поднялся на несколько ступеней и начал служить Мельпомене. Прекрасно. Но почему ты выбрал Медею, эту варварку, это чудовище, убившую собственных детей и великого героя Тезея пытавшуюся отравить?.. Почему бы тебе не прислушаться к пению Клио и не обратить свой творческий взор на римских матрон, украшение нашей отечественной истории и прекрасный пример для подражания нашим девочкам, девушкам и женщинам? Их множество в нашем прошлом, далеком и близком. Взять хотя бы Клавдию Квинт, которая своей добродетельной чистотой, своей верой в богов, своей беззаветной преданностью Риму сдвинула, как ты, наверное, помнишь, с тибрской мели корабль со статуей Матери Богов. Вот достойная тема. И, взявшись за нее, я не сомневаюсь, ты приобщишься к мелодиям возвышенной Полигимнии и, может статься, в тайну великой Урании тебе удастся проникнуть».
Август замолчал, осторожно убрал свою руку с руки Феникса и, пребывая в задумчивости, забарабанил по столу длинными и тонкими пальцами.
Почти тут же будто из стены вышагнул Пол, пожилой вольноотпущенник и первый секретарь Августа, наклонился к хозяину и что-то неслышно прошептал ему на самое ухо.
Принцепс вышел из задумчивости, обнадеживающе улыбнулся Фениксу и, поднявшись, поспешно вышел из комнаты.
Феникс остался в одиночестве.
Через некоторое время в комнату снова вошел Пол.
«Хозяин просит извинения. Но его позвали срочные дела. Пойдем, я провожу тебя к выходу», – сказал секретарь принцепса сената и пожизненного первого трибуна.
– А ты, кстати, не хочешь пирожка с капустой? – неожиданно спросил меня Эдий Вардий.
Я ответил, что не хочу.
Вардий кисло хмыкнул и продолжал:
– Из Белого дома Феникс, понятное дело, полетел ко мне. Я его ждал в чрезвычайном волнении, не в силах ничем занять себя, ходя из угла в угол или чертя бесконечные круги вокруг им-плувия.
Он тут же мне всё рассказал, на этот раз не упуская деталей, старательно и подробно описывая и манеру Августа, и свои ощущения, и свои реплики. А кончив рассказ, стал восклицать:
«Боги, как он велик! Он всё про меня знает! Он читал мои стихи, в том числе, наверно, самые пошлые. Ему наверняка докладывали о моем блудливом поведении в юности! Один раз он так на меня посмотрел, что я почувствовал – видит! Всё видит! Даже это!..Он ни разу меня не упрекнул. А только предупредил, что люди, которых я считаю за своих друзей, на самом деле… И не только на Капитона и на Мессалина указывал…».
Феникс замолчал. А я спросил:
«Если, как ты говоришь, Август во всём разобрался, то зачем он вызвал тебя к себе?»
«А ты как будто не понял?! – воскликнул Феникс. – Он хочет, чтобы я заменил ему умершего Мецената. И еще он хочет, чтобы я стал не просто первым, а первым государственнымпоэтом. Заменил ему если не Вергилия, то Горация. Зачем, тратя свое драгоценное время, он мне рассказывал о наших поэтах и о тех требованиях, которые Рим предъявляет к поэзии?.. Он мне и тему предложил – о Клавдии Квинт! Я только не до конца разобрал, что он мне заказал: трагедию или поэму…»
Я молчал. Мое впечатление от разговора Августа с Фениксом заметно отличалось от впечатлений моего любимого друга.
А он, на свой лад истолковав мое молчание, воскликнул одержимо и яростно:
«Да, да, представь себе! Она надо мной издевается и наслаждается моими страданиями! А он, закрыв глаза на мои проступки, меня пожалел и решил от нее защитить… Мне и рядом с ним один раз показалось, а теперь еще больше кажется: он передо мной извинялся за свою дочь. Он! Сын Солнца!»
– Позволь мне не комментировать это высказывание, – сердито произнес Гней Эдий и сел на ложе.
А потом встал и принялся расхаживать по малому триклинию: несколько шагов в одну сторону, несколько шагов – в другую, а мне знаком велев возлежать и не двигаться.
IX. – Дня через три, – продолжал Вардий, – дня через три после того, как Феникс побывал в Белом доме, к нему на пригородную виллу заявился Юл Антоний. Как всегда, без предупреждения. И с таким видом, будто ни на день с Фениксом не расставался. А они не виделись почти месяц… Прискакал на лошади, не потрудился привязать коня или передать поводья кому-нибудь из слуг, так что рабам Феникса пришлось бегать по усадьбе и ловить животное, которое к себе никого не подпускало, отскакивало в сторону, топтало траву, отламывало ветки кустарников и их жевало.
Юл же в испачканных грязью калигах уселся, почти разлегся, в кресле в Фениксовой экседре. Затребовал вина. Феникс предложил ему перейти в триклиний и там позавтракать. Но Юл сделал страшное лицо и заявил, что самый вид трапезного стола и трапезной утвари ему несносен. Пока несли вино, Юл рассказал, что накануне они в компании нескольких сенаторов охотились на кабана. Вепрь попался свирепый и очень живучий. Пока его травили, он своими громадными клыками успел зарезать двух матерых лаконских псов, причем одного из них с такой силой подбросил в воздух, что труп его потом отыскали на дереве. Когда же в этом страшилище торчало уже несколько копий и все раны казались смертельными, секач, вместо того чтобы сдохнуть, сначала подпрыгнул и снес голову одному из загонщиков, затем пропорол бедро приятелю Юла, и если бы сам Юл не изловчился и длинным германским мечом…
Тут принесли вино, и Юл оборвал свой рассказ. Вино было одним из лучших в коллекции Феникса: массикским удачного года. Но Юл заявил, что от кувшина идет неприятный запах и само вино имеет привкус холста. Юл потребовал, чтобы ему дали другое вино, и заказал каленское. Каленского не оказалось. И Юл долго брезгливо морщился, пока ему перечисляли имевшиеся в наличии вина. Но в конце концов согласился на молодое цекубское.
Пока ходили за цекубским, Юл поведал, что после охоты, разгоряченные кровавой борьбой, охотники нагрянули в первый подвернувшийся по дороге трактир и там накинулись на дешевое вейское вино и на еще более дешевых, пахнущих потом и рыбой девиц, которых приапили прямо на столах, потому что подняться наверх в комнатушки, мол, не было сил. И он, Юл Антоний, честно говоря, плохо помнит, кто и когда доставил его домой. Но с самого утра его мучает свирепая головная боль. И если ему сейчас же не подадут… Пан с ним, с цекубским! Хотя бы критского вареного!..
Во второй раз прибежали из погреба и, наконец, подали.
Юл выпил, не разбавляя, два полных киафа. И тут взгляд его наткнулся на бюст, который виднелся в соседнем помещении, в библиотеке, – у Феникса на вилле экседра соединялась с библиотекой, а та – с кабинетом.
Острый клин верхней губы Юла еще сильнее опустился на теперь капризно искривленную нижнюю губу, и от этого одна из его улыбок – ты помнишь, я тебе говорил, что на лице Юла постоянно образовывались как бы две улыбки – одна из улыбок оставалась презрительной, а другая будто радостно-удивленной.
«Ты, что, стал августалом?» – вдруг чистым бархатным голосом спросил Юл Антоний; до этого он хрипло басил.
Дело в том, что после посещения Белого дома Феникс заказал себе три бюста Августа – мраморный, гипсовый и бронзовый – и мраморный установил в своем городском жилище, а гипсовый и бронзовый разместил на вилле: гипсовый – в таблинуме, по правую руку от письменного стола, бронзовый – в библиотеке, напротив бюста Гомера и Венеры. На этот-то бронзовый бюст принцепса теперь и воззрился его посетитель.
Феникс не ответил на поставленный Юлом вопрос. Он вообще почти не раскрывал рта, пока Юл рассказывал ему про кабана и про девок. И вина предлагал и обсуждал с Юлом не Феникс, а вызванный раб-келарь.
Феникс, стало быть, хранил молчание, грустно глядя на непрошеного гостя. А тот вдруг достал медальон – не с шеи снял, а извлек из-под плаща, откуда-то будто из подмышки – и, за правую руку притянув к себе Феникса, в левую вложил ему медальон.
На медальоне был изображен Марк Антоний, отец Юла. И вот, Юл то заставлял Феникса вглядываться в медальон, то требовал, чтобы Феникс оборачивался и смотрел в сторону библиотеки, на бюст Августа. И Феникс молча выполнял его команды. А Юл восхвалял своего нечестивого отца и хулил нашего великого принцепса. При этом глаза его все сильнее желтели и взгляд становился все более невинным, но эдаким желто-невинным, волчьим, если тебе когда-нибудь случалось заглядывать волку в глаза… И та морщина, которая была у него между бровей, Феникс говорит, налилась кровью…
Гней Эдий резко остановился и, гневно взглянув на меня, объявил:
– Гнусные измышления! Подлая клевета! Не вынуждай меня! Не стану пересказывать его мерзкие речи!.. Ну разве, вот, несколько примеров. Чтобы и ты мог возмутиться…
Гневно так объявив, Вардий продолжал, замерев надо мной, но время от времени тяжко вздыхая, выпучивая глаза и дергая головой, то ли от негодования, то ли с испуга:
– Юл, например, утверждал, что Марк Антоний с самого начала, с момента убийства Цезаря, денно и нощно пекся о судьбе Рима и о его спасении. Фурнина же – нашего великого Августа – лишь власть интересовала. И он ради нее вверг наше отечество в гражданскую войну, намного более ужасную и кровопролитную, чем были до этого. Вместо того чтобы в содружестве с Марком Антонием, опираясь на доблестных Цезаревых ветеранов, не допустить бегства Брута и Кассия и других заговорщиков, блокировать их в Италии и там уничтожить, он, выскочка и властолюбец, едва прибыв на родину, снюхался с Цицероном и другими самыми злостными антицезарианцами, отнял у Марка Антония несколько легионов и повел их – не против Брута и Кассия, а против самого Марка Антония, развязав так называемую Мутинскую войну. В результате Брут и Кассий не только беспрепятственно удалились на Восток, но в течение двух лет набирали там многочисленные легионы. И кто им мог помешать, когда в Риме Фурнин, объединившись с Децимом Брутом, родным братом проклятого Марка Юния, сражался с самыми преданными друзьями убитого Цезаря?! Так что Филиппийская война, унесшая столько жизней, из Мутинской войны проистекла, и самовлюбленный, беспринципный Фурнин ее главный виновник!.. Он и Перузийскую войну якобы развязал. И, если бы при Акции Марк Антоний не принес себя в жертву, он, лютый Фурнин, устроил бы величайшее в истории братоубийственное побоище. Глазом бы не моргнул и устроил!
Марк Антоний, далее разглагольствовал Юл – кстати говоря, и в этот раз на греческом, чтобы никто из слуг не мог, подслушав, понять, – Антоний, дескать, всегда отличался искренностью. Фурнин же от рождения был лицемером. Он, как бродячий актер, носил с собой с десяток различных масок, надевая ту, в которой ловчее мог обмануть: прикинуться, например, наивным юношей – ведь ему в год убийства Цезаря едва исполнилось девятнадцать, и многие, очень многие на эту обиженную беспомощность купились, не принимая этого женственного сосунка в серьезный расчет; или твердым и бесстрашным мстителем за своего великого и столь подло убитого приемного отца, что приводило в восторг Цезаревых ветеранов; иль нежным и преданным другом того, кого через день, через час предаст и, не моргнув глазом, отправит на смерть… Всех обманув и захватив власть в империи, продолжал Юл, он, этот лживый Фурнин, присвоивший себе имя Августа, теперь еще пуще лжет, утверждая, что, дескать, восстановил республику, с якобы полновластными консулами, трибунами и сенатом. На самом же деле правит как настоящий диктатор, или как в прежние времена правили египетские фараоны, единолично назначая и смещая магистратов, по собственной прихоти подбирая и разгоняя сенат, выдвигая себе наследников.
Он так часто менял свои маски, продолжал Юл Антоний, что природное его лицо стерлось под ними, и теперь даже давно и близко знающие его люди – такие, как Поллион, или Планк, или Мессала, – даже они не в состоянии определить, как он теперь выглядит, что из себя представляет на самом-то деле и какую маску напялит в следующее мгновение, какую комедию или трагедию с народом своим сыграет.
Но меня, говорил Юл, не обманешь. Я под любой личиной его различу. Во-первых, он трус. Трусом он был при Филиппах, в самый разгар сражения прикинувшись больным и чуть ли не умирающим. При Милах он глаз не смел поднять на готовые к бою суда, валялся, как бревно, с ужасом глядя в небо, и вышел к войскам лишь тогда, когда Марк Агриппа одержал победу.
Он – вор, во-вторых. Мутннскую войну за него выиграли Гирций и Панса, Филиппийскую – Марк Антоний, Перузийскую – Сальвидиен, Сицилийскую – Агриппа, Актийскую – Агриппа, Марк Лурий, Луций Аррунций и Статилий Тавр. А он эти победы присваивал себе и праздновал триумфы. Германию за него покоряли Друз и Тиберий. Испанию усмиряли сначала Агриппа, затем Антистий Вет и Публий Силий Нерва. Африку подчинил Корнелий Галл. А он объявил себя покорителем Вселенной. Он как-то изрек: «Да, многие мне помогали в осуществлении моих замыслов. И некоторые из них, можно сказать, справились с теми задачами, которые я перед ними поставил»… То есть – всё он, царственный и божественный, а разные там агриппы, меценаты и прочие смертные – лишь послушные орудия в его руках.
В-третьих, продолжал Юл, распуская лживые слухи об Антонии и Клеопатре, сам он, Фурнин, был и остается грязным развратником. Еще мальчиком, подставив свой зад Юлию Цезарю, он именно таким образом приобрел себе расположение великого диктатора и, безродный, купил себе род. Перепробовав затем несколько жен, он угрозами отнял у Тиберия Клавдия Нерона юную Ливию. И якобы души в ней не чая, на каждом углу заставляя прославлять и ставить в пример свою и ее добродетель, он, похотливый Фурнин, не обходился без молоденьких любовниц. Их ему сперва поставляла Анхария Пуга, а затем – сама Ливия, его величавая супруга, дабы и в этом интимном деле угадывать сокровенные желания своего муженька и заодно не спускать с него бдительного взгляда – вдруг не просто удовлетворит свою похоть сатира, а, не дай бог, увлечется на старости лет, вознамерится поменять стареющую на молоденькую, остывающую на горячую, приевшуюся на свеженькую. Ливия, в отличие от Анхарии, которая поставляла Фурнину, так сказать, долгоиграющихдевочек: на полгода, на год, которых, когда наиграется, выгодно выдавали замуж, снабдив богатым приданым, – Ливии эту традицию удалось поменять. За Белым домом было приобретено небольшое строение. Туда был сооружен подземный ход. По этому ходу по указанию Ливии мужеподобная Ургулания тайно приводит молоденьких телочек, заставляет раздеться, улечься в постель и быть готовыми немедля отдаться Фурнину, едва он войдет в спальню, дабы не отнимать лишнего времени у величайшего человека, занятого судьбами мира!
Тут Феникс нарушил свое молчание и тихо спросил по-латыни:
«Зачем ты мне всё это рассказываешь?»
«Погоди, – отвечал ему Юл, – я тебе самого главного не рассказал. При Филиппах Марк Антоний помиловал и простил почти всех, кому посчастливилось попасть к нему в руки. Фурнин же велел казнить почти всех побежденных противников. Когда к нему привели отца с сыном, он предложил им разыграть, кому из них умереть. Отец поддался и был казнен. Сын этого не вынес и покончил с собой. Фурнин же наш – ему тогда было не более двадцати – весело наблюдал за казнью, а когда пленный юноша выхватил у зазевавшегося солдата его меч и им себя заколол, чуть ли не прослезился и воскликнул: «Я им веселую римскую комедию предложил сыграть, а они, заразившись у греков, исполнили глупую трагедию!»… После сдачи Перузии всех, кто пытался молить о пощаде или оправдывался, Фурнин обрывал словами: «Ты должен умереть». Он выбрал из сдавшихся триста человек, выходцев из всех сословий, и в мартовские иды у алтаря Юлия Цезаря перебил их всех, подобно жертвенному скоту… В юности он насыщал свою кровожадность по крайней мере открыто, так, чтобы все видели. Когда же достиг абсолютной власти и после того, как однажды, когда он один за другим выносил смертные приговоры, Меценат прислал ему записку: «Прекрати, палач!», Фурнин перестал свирепствовать на публике. А те, кто стоял у него на пути, кого он считал своими врагами, люди эти словно сами собой и весьма неприметно исчезали сначала из виду, а потом и из жизни. И – обрати внимание! – среди этих незаметно исчезнувших многие когда-то преданно служили Фурнину, выигрывали для него сражения, усмиряли восставшие народы, украшали Рим храмами, алтарями, театрами, другими превосходными постройками… Хочешь, я назову имена?»
Тут Феникс повторил свой вопрос и опять на латыни:
«Зачем ты пришел ко мне? И зачем ты мне это рассказываешь?»
А Юл сначала оглянулся на дверь, а потом на латыни ответил:
«Давно не говорил по-гречески. Решил заехать к тебе и поупражняться в этом благозвучном языке. И заодно передать тебе привет от нашего благодетеля, великого Августа. Вчера… нет, позавчера мне выпала честь сопровождать его на стройку Марса Мстителя. А на обратном пути он поинтересовался, давно ли мы с тобой встречались. Я ответил, что давно. И он, улыбнувшись, меня попросил: «Когда снова увидитесь, не забудь передать от меня привет»».
Это Юл сообщил на латыни. А гнусную клевету на величайшего из людей изрыгал, извергал на греческом!
Так гневно воскликнув, Гней Эдий вновь зашагал из стороны в сторону, будто для того, чтобы унять охватившее его возмущение. И надо сказать, он его быстро унял. Так как скоро вернулся на ложе, с удобством на нем разлегся и сообщил:
– Феникс мне ни словом не обмолвился о том, что Юл заезжал к нему и поносил Августа. Всю эту гадость он пересказал мне лишь год спустя. Ты представляешь?
Я согласно кивнул.
А Вардий:
– И что ты думаешь, он, восхищенный Августом, окруженный его бюстами, перестал встречаться с его злобным хулителем Юлом Антонием? Ничуть, юный мой друг! Он снова с ним сошелся. Потому что Юл от него теперь не прятался. И вместе с ним они иногда заглядывали к Юлии, к его Госпоже…А ко мне перестал заходить.
X. – Нашим с тобой языком выражаясь, – продолжал Вардий, – Феникс вступил в новую стадию фаэтонизма. Он теперь не метался и не безумствовал. Улыбка, которая часто появлялась у него на лице, была теперь не улыбкой ведомого на казнь осужденного, а… как бы точнее сказать?…скорее, она походила на прищуренную улыбку судьи, который старательно, но устало исследует все обстоятельства дела, чтобы потом вынести приговор.
В первую же нашу встречу он мне поставил условие: о чем угодно, только не о Юлии и Юле Антонии; и я говорил с ним о чем угодно, а он мне рассказывал о «Медее», о своей трагедии.
«Медея» его, как ты помнишь, была уже почти закончена. Так вот – он ее уничтожил! Сжег в печи беловой пергамент и все черновые дощечки. И заново стал писать новую «Медею»…Я в ужас пришел, когда услышал, что он сотворил. И стал проклинать себя за то, что в свое время не выпросил у Феникса копию или не изловчился тайно переписать… Но, помнишь, у Плавта? «Что руками махать, когда руки отрублены!»…
Феникс мне так объяснил: он, дескать, первую «Медею» писал для театра. Но вовремя понял, что для театра писать не умеет, «к рукоплесканьям толпы Муза моя не рвалась»…он где-то это потом написал, сейчас не вспомню где… И, стало быть, решил написать новую, вторую «Медею», не в виде трагедии, а в виде поэмы. Вновь проштудировав Еврипида, которым всегда восторгался, вдруг увидел, что «врет Еврипид» – так и сказал, – и надо «грека исправить». Но как его исправлять, он, Феникс, пока не понял. Однако решил писать не о Медее в Колхиде, а о Медее в Коринфе, не о зарождении любви, а о ее «смертельном расцвете», в котором якобы заключается и сущность великой любви, и оправдание для Медеи, и утешение для Язона. А прежнюю «Медею» он сжег, чтобы она ему не мешала.
Так Феникс мне объяснил в первую нашу встречу.
Во вторую… Мне долго не удавалось застать его наедине ни в городе, ни на вилле – его постоянно окружали какие-то люди, которых заметно прибавилось после того, как стало известно, что он побывал в Белом доме и сам Август с ним разговаривал; в эти компании меня принимали, но поговорить по душам возможности не было. Однако с помощью двух моих слуг, которые постоянно следили за Фениксом, я в середине июля улучил-таки момент.
Проводив меня в свой кабинет, Феникс вызвал слугу и стал отдавать распоряжения касательно трапезы. А я, пока он обдумывал и перечислял кушанья и вина, успел заглянуть в дощечки, которые лежали у него на столе. И на одной из них прочел:
Борются все же в груди любовь и ненависть… Обе
Тянут к себе, но уже… чую… любовь победит!
Я ненавидеть начну… а если любить, то неволей:
Ходит же бык под ярмом, хоть ненавидит ярмо.
Я только эти четыре строчки успел прочесть, так как Феникс, заметив, что я читаю его записи, отобрал у меня дощечку и недовольно сказал:
«Тут всё не так. Из этой белиберды я, пожалуй, ничего не возьму».
А дальше, пока нам готовили завтрак, стал рассказывать, что сейчас работает над сценой, в которой Язон объявляет Медее, что собирается с ней развестись и жениться на коринфской принцессе. У Еврипида, объяснял Феникс, эта сцена в целом «неплохо написана». Но дальше «грек нас обманывает». Он сразу начинает описывать гнев Медеи. А гнева в начале не было. Была растерянность. Медея не понимала, что с ней творится. Чувства ее пришли в столкновение друг с другом. Любовь, словно коса о камень, ударилась об обиду. Искры полетели во все стороны, воспламеняя различные чувства. Всё закипело и забурлило внутри: давнее предвидение и внезапное удивление, естественная тоска и необъяснимая радость, гордыня и унижение, ярость и нежность. Всё это слилось, сплавилось в единое чувство. И Медея им захлебнулась, в нем утонула, теряя себя и не зная, где же она настоящая,то есть в двух смыслах: ныне живущаяи истинная,а не та, что себе лишь мерещится, и не та, что была до этого, когда боготворила Язона и ради него готова была совершить невозможное.
Феникс очень путано мне объяснял, но с усталой настойчивостью. А когда нас позвали в триклиний, перестал говорить о Медее.
В третий раз мы наедине встретились в сентябре, на следующий день после окончания Римских игр. Феникс сообщил мне, что сейчас описывает сцену, в которой Медея собирает ядовитые травы, чтобы изготовить из них «огненный яд» для коринфской принцессы. Этой сцены нет у Еврипида, но для Феникса она якобы чрезвычайно важна. И дело тут не в тех травах, которые Медея собирает, а в тех чувствах, которые она испытывает. «Понимаешь, Тутик, – говорил мой друг, – у тебя в душе уже давно, богами или демонами, были посеяны семена, и они, найдя для себя благоприятную почву, стали прорастать, сперва незаметно, но постепенно набирая силу, превращаясь в с виду прекрасный, запахом благоуханный, но по сути своей ядовитый цветок. Яд этот сначала капельками, а потом тоненькими нежными струйками начинает сочиться тебе в душу. И ты понимаешь, что это яд, что он терпкий и горький. Но при этом испытываешь облегчение и даже удовольствие. Потому что этот прекрасный яд обладает целебными свойствами: своей терпкостью заглушает тоску, своей горечью убивает мучительно-сладкие воспоминания. Ты этот яд благодарно накапливаешь в себе, радуясь даже не тому, что он тебя, опьяняя, успокаивает и, отрезвляя, освобождает, а тому, что он пока ни на кого не направлен… Ты понимаешь, о чем я?»
Я ответил, что понимаю, но очень хотел бы поскорее увидеть эту картину, так сказать, воплощенной в стихах.
«Потом! Потом! – с раздражением воскликнул Феникс. Но тут же взял меня за руку и ласково добавил: – Когда закончу, ты первый увидишь и услышишь!»
И, наконец, в четвертый раз – дело было в разгар Плебейских игр – Феникс сам явился ко мне. Меня не было дома. И он почти два часа ожидал меня в моей библиотеке. Причем, как мне доложили, ничего не велев себе принести, ни одной книги не взяв в руки, – недвижимо сидел в кресле, взглядом уставившись в стену.
Когда я вошел, он меня не увидел, пока я… прости за кудрявое выражение… пока я не вошел в его взгляди в ту задумчивую улыбку, которая была у него на лице: суровую и торжественную улыбку судьи, собравшегося произнести приговор.
«Можешь меня поздравить, – глухим голосом объявил Феникс. – Мне удалось написать сцену, в которой Медея убивает своих детей. Я думал, она у меня ни за что не получится. Как не получилась у Еврипида. Но я оказался хитрее».
«Я оказался хитрее, – после непродолжительного молчания повторил Феникс и продолжал: – Я догадался, что в этот момент Медея любила Язона намного сильнее, чем любила до этого. И эту свою великую любовь она перенесла на детей, от Язона рожденных. Как когда-то ради любви она принесла в жертву отца, во имя любви пожертвовала своим братом, разрезав его на кусочки… Любовь ее так усилилась, что дело дошло до детей».
Феникс опять замолчал. А мне было не только дико его слушать, но и страшновато на него смотреть. Феникс же продолжал объяснять:
«Помнишь, у Катулла:
Ненависть – и любовь. Как можно их чувствовать вместе?
Как – не знаю, а сам крестную муку терплю…
Он не знал. Я теперь знаю. Ибо ненависть – это высшая и конечная стадия великой любви. В любви ты всё время боишься потерять любимую, – а ненависть кто у тебя отнимет? В любви ты всегда беззащитен – в ненависти ты как воин, за которым стоит легион. Любовь унижает человека – ненависть возвышает. Любовь тебя сковывает – ненависть освобождает. В любви надо приносить себя в жертву – в ненависти ты сам становишься жрецом, берешь в руки священный нож… В любви, ставшей ненавистью, до нее возвысившейся, в ней расцветшей и освободившейся, ты лишь учреждаешь первоначальную справедливость, восстанавливаешь небесную гармонию, низменное приносишь в жертву высокому, смертное – вечному… Как жрец».

![Книга [Не]глиняные автора Артём Петров](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)