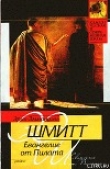Текст книги "Великий Любовник. Юность Понтия Пилата. Трудный вторник. Роман-свасория"
Автор книги: Юрий Вяземский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Гней Эдий Вардий ненадолго замолчал. А потом сказал:
– Тут тоже странность. Перед лицом смертельной опасности мой друг выказывал чудеса храбрости и невозмутимости. Но иногда, когда мы сидели у него на вилле и вдруг раздавался какой-нибудь неожиданный звук – дверь скрипнет или порыв ветра ударит по крыше, – Феникс вздрагивал, бледнел и начинал опасливо озираться. На охоте в дождь, в утренний или ночной холод, как рассказывали, никогда не зябнул и не жаловался на усталость, а дома у себя постоянно кутался в теплую одежду и однажды, когда один из рабов оставил открытой дверь в экседру и сквозь нее потянуло сквозняком, стал ругаться, что, дескать, простудится и вот уже простудился…
– Он этого раба, – через новую паузу прибавил Вардий, – погоди, сейчас вспомню его имя… кажется, его звали Кармил или Кармион… он этого раба недолюбливал. И однажды, уличив его в том, что тот плохо ухаживает за собаками – или просто придравшись по случаю, – вызвал к себе управляющего, Велия, и велел ему продать этого Кармила, а вместо него приобрести нового, более прилежного раба. Велий обещал выполнить указание. Но ни через неделю, ни через две недели раб не был продан и продолжал исполнять свои обязанности по хозяйству. Когда же Феникс вновь призвал к себе управляющего и потребовал объяснений, тот, глядя в глаза хозяину, заявил:
«Все рабы, которые ты получил вместе с виллой, принадлежат вилле и не могут быть проданы»
«Ты сам это решил?» – сурово спросил Феникс.
«Нет, не сам. Мне так было сказано, когда я попытался выполнить твой приказ».
«Кем сказано?!»
Виллик не ответил. Вернее, ответил следующим образом:
«Мы все в твоей власти. Ты можешь поручать нам любые работы. Ты можешь наказывать нас, как тебе заблагорассудится. Ты можешь приобретать сколько угодно новых рабов. Но продавать…продавать старожилов – на это, как мне сказали, у тебя нет права».
– Я сам присутствовал при этом разговоре и дословно передают его тебе. Ты понял… суть? – вдруг спросил меня Вардий.
– Не совсем, – признался я.
– Ладно, чуть позже тебе объясню, – усмехнулся Гней Эдий и продолжал:
– Третий этап обугливанияможно охарактеризовать, пожалуй, такими стихами из «Лекарства»:
Только не будь одинок: одиночество вредно влюбленным!
Не убегай от людей – с ними спасенье твое.
Так как в укромных местах безумнее буйствуют страсти,
Прочь из укромных мест в людные толпы ступай.
…Догадываюсь, что, как на первом, так и на втором этапе – во время сельских работ, во время охоты – страсти «безумно буйствовали» в душе несчастного Феникса. И потому он в конце консульства Гая Цезаря покинул «укромное место» и шагнул в «людные толпы». То есть перестал уединяться у себя на вилле и стал общаться с друзьями, быстро восстановив отношения почти со всеми своими старыми и новыми приятелями.
Из школьных – с Корнелием Севером, отец которого Кассий Север в консульство Цензорина за «бесстыдные писания» был сослан сенатом на остров Крит; Корнелий же, несмотря на это семейное несчастье, отличался примерным поведением, продвинулся по служебной лестнице, последовательно занимая должности квестора, эдила, претора и пропретора в одной из отдаленных провинций, снискал одобрение Августа за свою поэму о Сицилийской войне, а ныне трудился над стихотворной историей Рима. А также – с Руфином, с которым когда-то служил. А также – с Педоном Альбинованом, отличавшимся, как я уже тебе рассказывал, редкостным безразличием к женскому полу, с юношеских лет увлекшимся философией, в совершенстве изучившим стоиков и ныне погрузившимся в учение древнего Пифагора и его греческих и латинских последователей… Помнишь Педона? Когда-то он рекомендовал Фениксу авернскую старуху-колдунью (см. 15, II),ибо всегда питал пристрастие к магии… Даже с Помпеем Макром, нашим школьным товарищем, Феникс восстановил дружескую связь; Макр наконец-то простил ему свою сестру Меланию, которая, кстати сказать, уже давно и счастливо вышла замуж, а сам Макр теперь руководил многочисленными переписчиками в Палатинской библиотеке, недавно основанной великим Августом.
Из более поздних друзей Феникс встречался с оратором Брутом, с юристом и оратором Флакком, младшим братом Помпония Грецина, с ритором, астрономом и поэтом Публием Саланом, нанятым учителем и воспитателем к юному Германику, сыну Друза Старшего и Антонии Младшей.
Но намного чаще, чем с этими зрелыми мужами – старшими среди них были Макр и Салан, отпраздновавшие сорокалетие (мы с Фениксом были на два года моложе), – чаще, чем с ними, Феникс общался с теми, кого вполне еще можно было назвать молодежью, а именно: с Аттиком, с Цельсом, с Каром и с Коттой. И не потому, что Феникс выказывал им предпочтение – он никого из своих друзей теперь не выделял, даже меня, своего «верного Тутика», – нет, это они на Феникса прямо-таки набросились, едва он вышел из своего домашнего затворничества и стал появляться на людях: чуть ли не каждое утро, как ревностные клиенты, являлись приветствовать его на вилле, зазывали к себе на пиры, предлагали прогулки ближние и дальние. Исключение составлял, разве что, Цельс Альбинован, который, как я упоминал, обучался медицине у Музы Антония и посему часто оказывался занят; но при первой же возможности присоединялся к своим товарищам, крутившимся вокруг Феникса. Аттик же и Котта располагали почти неограниченным досугом. Котта, сын, как ты должен помнить, прославленного Марка Валерия Мессалы Корвина и брат стремительно делавшего карьеру Мессалина, Котта тогда только что вернулся из Афин, где под руководством греков-академиков завершил свое ораторское образование, но в Риме не получил еще должности, так как было ему в ту пору… дай-ка сообразить… года двадцать два, не более. А Аттик, приблизившийся уже к тридцатилетию, с отъездом Тиберия, с которым он несколько лет продуктивно сотрудничал, составляя ему речи и выполняя многие другие разнообразные поручения, среди них весьма ответственные и деликатные, с отъездом, говорю, своего покровителя не то чтобы оказался не у дел, а по собственной воле от всяческих дел отстранился, отвергая нередко весьма прибыльные дела и крайне заманчивые должностные предложения, в том числе одну милостивую просьбу Августа отклонив якобы по состоянию здоровья.
Что же касается Кара, начинающего поэта…
Гней Эдий Вардий опять замолчал, прервав мысль. А потом:
– Феникс теперь никогда не был один, с утра и до вечера его окружали друзья и приятели. К тем, кого я перечислил, можно добавить еще с десяток поэтов и, конечно же, старого Мессалу и Фабия Максима, ближайшего соратника великого Августа, занятого с утра и до вечера государственными делами, но в минуты досуга приглашавшего к себе Феникса на завтраки и на обеды… Лишь с Юлом Антонием и с Секстом Помпеем Феникс решительно избегал встреч. Говорю решительно,потому что однажды, когда на пиру у Валерия Мессалы появился Юл Антоний, Феникс тут же покинул застолье, дожевывая кусок мяса в прихожей, а потом выплюнув его в сточную канаву при выходе из дома, и мне пришлось за него извиняться перед удивленным хозяином и, как мне показалось, обиженной его женой, престарелой Кальпурнией. И почти так же повел он себя, когда к нашей прогулочной компании в Помпеевых садах неожиданно присоединился повстречавшийся нам по дороге Секст Помпей с Криспином или с каким-то другим Юлиным адептом… сейчас уж не вспомню… Феникс в этот момент беседовал с Саланом об Аркте Ликаона и о Киносуре, то есть о том, что мы называем Большой и Малой Медведицей. И Салан доказывал, что по Малой Медведице удобнее ориентироваться на море во время плавания, что самые древние и самые искусные мореплаватели, финикийцы, именно по ней ориентировались, а Феникс не то чтобы возражал, а уточнял, что древнее не всегда значит лучшее, что греки и римляне, наверное, не случайно предпочитают Большую Медведицу. Так вот, заметив, что Секст Помпей со своим спутником пристал к нашей компании и, приветствуя ее членов, подбирается к нему, к Фениксу, Феникс вдруг спросил Публия Салана: «А ты знаешь, как переводится “Киносура”?» – «Конечно, знаю: “Собачий хвост”, – ответил тот. «Так тебе нравятся собачьи хвосты?» – снова спросил Феникс и посмотрел в сторону Секста Помпея. Салан удивился вопросу и тоже посмотрел на приближавшегося к ним Помпея. А когда повернулся к Фениксу, того уже и след простыл – он словно растворился в близлежащем кустарнике. И к нашей компании уже больше не вернулся.
– Он непривычно себя вел, для прежнего Феникса или Голубка, – продолжал Эдий Вардий. – Он, например, мог прийти в компанию и там молчать, час, два, три часа, иногда вообще не проронив ни слова. При этом молчал не демонстративно, не тягостно и не подавленно, а как-то тактично, заинтересованно и чуть ли не покровительственно для окружающих, так что никому не хотелось прерывать этого его вдохновляющего молчания. А когда принимался говорить, то никогда не говорил о себе, а выбирал темы, наиболее близкие его собеседникам: с Саланом беседовал об астрономии и о педагогике, с Педоном – о стоиках и пифагорейцах, с Макром – о библиотечном деле, с Цельсом – о медицине, с Коттой – о греческих учителях и об афинских достопримечательностях. Причем так поворачивал разговор, что он вскорости из диалога превращался в монолог, ибо беседовавший с ним увлекался предметом и говорил без умолку, поощряемый ласковым и внимательным молчанием Феникса.
Несколько выбивался из ряда лишь Публий Кар, двадцатипятилетний начинающий поэт, которого с Фениксом свел его друг Котта Максим. Кар не желал говорить и рассказывать. Он хотел слушать Феникса. Он страстно желал, чтобы Феникс читал ему свои стихи и на их примере обучал его любовной поэзии. Феникс первое время пытался избегать Кара. Но Кара избежать было невозможно: в сопровождении Котты, к которому Феникс, как мы с тобой помним, издавна испытывал самые нежные чувства, Кар являлся в любое застолье, в любую компанию, в которых в это время Феникс находился, и, горячо поддерживаемый своим другом Коттой, начинал выпрашивать, вымаливать, вытребовать. Когда Кар его окончательно донимал, Феникс отводил его в сторонку и давал ему «уроки поэзии», иногда краткие, порой продолжительные, разбирая с Публием, однако, не свои любовные элегии, а чужие стихи.
Они, говорю, уединялись. Но я один раз подслушал. Феникс разбирал с Каром оду Катулла. Вот эту:
Долгую трудно любовь пресечь внезапным разрывом,
Трудно, поистине так, – все же решись наконец!
В этом спасенье твое, решись, собери свою волю,
Одолевай свою страсть, хватит сил или нет.
…Ну и так далее… Феникс каждое слово рассматривал, словно вынимал, пробовал на зубок и возвращал на его место в строке, доказывая, что слово это незаменимо никаким другим, что только его можно было поставить, дабы выразить чувство и произвести то неповторимое впечатление на слушателя, которое, дескать, только великому Катуллу под силу. А Кар растерянно слушал Феникса, а потом воскликнул: «Но это же не про любовь стихи! Это про…». Феникс не дал ему договорить. «Именно про любовь. Про высшую ее стадию, – спокойно возразил Феникс и прибавил: – Ты научись сначала подбирать нужные слова, сочетать их с размером, пусть сухо, но точно. Потом, когда научишься и начнешь описывать живые мятущиеся чувства, эта сухая точность тебе пригодится. Сам будешь чернеть и страдать, а стихи твои будут радоваться и искриться»… Феникс весело рассмеялся. При этом глаза его…
– Вот это теперь в нем особенно поражало! – воскликнул вдруг Вардий. – Глаза его! Я тебе уже докладывал: в них удивительным образом сочетались детская удивленная открытость со старческой грустной мудростью. Такими у него были глаза, когда он молчал. А когда начинал говорить, особенно когда его спрашивали и заставляли отвечать или когда надо было реагировать на чьи-то замечания, шутки и выходки, особенно когда надо было смеяться и он смеялся! – глаза его сразу теряли прежнее выражение, будто слепли… Трудно описать этот взгляд, который, собственно, и взглядом нельзя назвать, потому что глаза неживые… Представь себе смеющегося человека с окаменелым взглядом. В этом взгляде было… как бы это точнее выразить?., в нем было нечто не просто обгоревшее, а совершенно сожженное и от этого остекленевшее… Не только я – многие из его друзей и приятелей чувствовали, что Феникса лучше не трогать, не заставлять говорить. Не чувствовал только Публий Кар и приставал со своей любовной поэзией. И я сейчас думаю, может быть, именно он…
Гней Эдий замолчал и остановился.
До гельветской деревни нам теперь оставалось несколько шагов. И шедшие впереди нас охранники-германцы мешкали у деревенской ограды, по-видимому, ожидая приказа, вступать на территорию селения или не вступать.
Не глядя на них и на меня не глядя, Вардий, пребывая в задумчивости, сначала несколько раз молча покачал головой, затем брезгливо усмехнулся, а потом сказал:
X. – Нет, Кар был скорее поводом, чем причиной. Да и поводом, пожалуй что, не был… Причина была другая. Поздно вечером и ночью Феникс оставался наедине с самим собой и, видимо, еще не до конца обгорел, не до самого донышка своей кровоточащей души, еще не обуглился и не окаменел до полного бесчувствия. И потому в эти самые мучительные для него ночные часы… Он ведь потом признавался в «Лекарстве»:
…дневная пора безопаснее ночи —
Днем твой дружеский круг может развеять тоску…
Днем! А ночью кто ее может развеять?! И, помнишь? у Катулла, призрак которого Феникс, можно сказать, призвал из могилы, дабы тот помогал ему бороться с другими призраками, у Катулла:
От безделья, поэт, страдаешь,
От безделья бесишься так сильно.
От безделья царств и царей счастливых
Много погибло.
…Он и ночью решил занять себя делом. И, оставаясь лицом к лицу со своим мучительным одиночеством, стал сочинять Ars amandi,свою «Науку любви».
Эту его поэму, которую, по моим расчетам, он начал сочинять с конца года Гая Цезаря и продолжил писать в консульство его брата, Луция, некоторые несведущие в поэзии люди потом назовут вершиной творчества Пелигна. Будут даже утверждать, что он, Феникс, создал в римской литературе новый жанр.
Ерунда! Эти стишки, эту поэмку он как лекарство, как снотворное сочинял и принимал на ночь глядя.
И нового жанра он никакого не изобрел. Одним из его компаньонов по охоте был некто Граттий Фалиск, заядлый птицелов и охотник на зайцев. Этот Граттий был еще и поэтом-любителем. И в консульство Гая Цезаря – как раз тогда, когда Феникс предавался охоте, – издал дидактическую поэму «Наука охоты». В этом довольно убогом с поэтической точки зрения сочинении Фалиск наставлял молодежь, где лучше искать дичь, какими ловушками и сетями пользоваться ну и так далее. Вот, Феникс у него и позаимствовал. И сам в этом недавно признался в одном из своих «Посланий»:
Граттий ловчую спасть в руку охотнику дал…
Феникс с детства ненавидел любую дидактику, особенно после школы Фуска и Латрона, в которой нас ею пичкали. И, принявшись за свою «Науку», «Науку любви», стал прежде всего эту дидактику высмеивать, пародируя и Граттия с его охотничьими приемами, и наших школьных учителей с их навязчивыми наставлениями и педантичными перечислениями.
При этом, однако, он старался произвести впечатление человека, всерьез взявшегося за составление методического руководства по «любовной охоте»: где женщин надо «выслеживать», как их «приманивать», какими средствами и способами «гарпунить», «капканить», «треножить», как и какую, прости за выражение, «свежевать и разделывать»… Я еще не давал тебе читать Пелигнову «Науку»?.. Ну так сразу же дам, как только мы вернемся на виллу!.. Ты сам увидишь, что, взявшись за эту поэму… вернее, в то время, как он писал ее, Феникс как бы отрекался от себя, от своей страдающей и пылающей сути и, вкладывая в свои строки – легкие, искрометные, остроумные, фривольные, иногда нет, не похабные, как у тогдашних порнографических поэтов, но да, слишком детальные и откровенные, – вкладывая в них свой прежний опыт Голубка и Кузнечика, он, Феникс уже сгоревший, ты увидишь, насмехался над женщинами, над их почитателями и искателями, над соитием тел как способом превращения низменной необходимости в мимолетное удовольствие. Он над самим собой издевался… Нет, не так! Он радостно и безмятежно смеялся и подтрунивал над Венерой и всеми ее Амурами, пытаясь от них освободиться и освобождаясь в тот момент, когда шутил, балагурил и святотатствовал, обнявшись с Поэзией, своей давнишней любовницей и спасительницей в трудные минуты…
Муза, спасибо тебе! Ибо ты утешенье приносишь,
Отдых даешь от тревог, душу приходишь целить…
Он потом и Августу…
На этом имени Вардий запнулся и будто поперхнулся. Выкатил свои и без того выпуклые и круглые глаза и выпятил губы, словно чмокнуть ими собрался.
Но не чмокнул – втянул губы, прищурил глаза, возвращая их в прежние орбиты, выставил вперед правую ручку с кривоватым и оттопыренным указательным пальцем, а левый кулачок прижав к пухлой груди. И торжественно объявил:
– В июне она сама к нему пришла!
Юлия пришла
Гней Эдий резко повернулся и пошел прочь от гельветской деревни в сторону Новиодуна. Охранники наши, те, что сзади, теперь оказались спереди, а авангардные германцы двигались теперь в арьергарде.
Вардий шагал стремительно, я едва за ним поспевал. И он на быстром шагу, слегка задыхаясь, через приблизительно равные промежутки времени произносил сердитые и обрывистые фразы. И сначала повторил:
XI. – В консульство Луция, в июне, она сама к нему пожаловала. – Потом сообщил: – Пришла не на виллу, а в городской дом. Он там редко бывал. То есть выследила и наверняка знала, что он там в одиночестве. – Затем уточнил: – Она приходила вечером. А утром следующего дня Феникс пришел ко мне и начал рассказывать. – Следом за этим Вардий сказал: – Рассказывал очень спокойно и буднично. Так рассказывают о каком-нибудь заурядном событии. Ну, например, каких людей назначили квесторами или эдилами. – Сделав с десяток шагов, Гней Эдий добавил: – Не было в нем ничего от прежнего Феникса. Ни взгляда обугленного. Ни мертвой улыбки. – А еще через десяток шагов Вардий предупредил: – Ятебе сейчас перескажу их беседу. Скорее, монолог Юлии. Но учти: я буду пересказывать со слов Феникса. Так что за подлинность не ручаюсь. Он мог и присочинить. – А потом сам себе возразил: – Хотя с какой стати ему сочинять? Для чего, спрашивается?
Произнеся на быстром движении эти реплики, Гней Эдий остановился, встал почти в позу оратора, то есть, чуть выставил правую ногу, вынес вперед правую руку с раскрытой ладонью, а левой рукой как бы придерживая верхние складки тоги, – на самом деле он был в плаще децемвира. И заговорил, уже не страдая одышкой, с чувством, с различными выражениями на лице…
Боги благие! Я уже тебе и себе наскучил описанием Вардиевых манер. А посему к сути, к сути!
– Войдя в дом Феникса, – начал свой рассказ Вардий, – Юлия, не поздоровавшись с хозяином, но взяв его за руку, направилась в экседру. Там усадила Феникса в кресло, сама села напротив и заговорила, в такт словам хлопая себя ладонями по коленям, вернее, чуть выше колен:
«Сегодня день смерти моего мальчика, маленького Тиберия… Шесть лет уже миновало… Я его так ждала, так надеялась. Я думала, с его рождением в моей жизни всё переменится. Через этого младенца я полюблю мужа. Ливия перестанет меня ненавидеть – ведь я родила ей наследника, который затмит и Гая, и Луция. Август наконец успокоится, увидев, что дочь и жена теперь не соперничают, примиренные этим общим ребенком, сыном и внуком… Но рок и фортуна похитили у меня эту надежду, обрезали ниточку жизни моего маленького мальчика… На небесах – или где там боги живут? – наверно, решили, что от такой ехидны не должно быть державного потомства, что солнечный род Юлия и Августа кощунственно смешивать с темной кровью убогих Клавдиев и злосчастных Неронов… Убили и забрали у меня младенца…
И сразу же после его смерти, – продолжала Юлия, – мой муж, которого я с таким трудом заставила себя полюбить, Тиберий стал меня избегать. Сначала он перестал делить со мной ложе. Затем всё чаще и чаще стал ночевать не дома, а якобы у своих друзей и приятелей. Когда же погиб в Германии его младший брат Друз Клавдий, он вообще покинул меня среди моего материнского горя и уехал в Паннонию… Как будто там без него не могли обойтись?!.. А после бежал от меня в Германию и оттуда отправлял слезные письма Випсании Агриппине, своей бывшей жене, описывая свою тоску по ней, свои страдания со мной, Юлией, развратной и ненавистной… Одно из таких писем, вернее, снятую с него копию, мне показали преданные и оскорбленные за меня люди… Меня, дочь великого Августа, этот выкормыш Ливии, сын подлого бунтовщика и предводителя беглых рабов, пригретый моим великим отцом, этот безродный ублюдок, меня, Юлию, предпочел дочери ростовщика!.. Воистину, как говорится, свинья даже в царском дворце будет искать грязную лужу…
Ну, что ты на меня уставился?! – вдруг весело и, как показалось Фениксу, даже как будто радостно воскликнула Юлия, к нему обращаясь. – Я только что с кладбища. Вели подать вина. Помянем моего крошку!».
Феникс выглянул из экседры и кликнул раба. Тот не отозвался. Через атриум Феникс заглянул в прихожую. Но и там раба не было. Феникс вернулся в экседру и сказал Юлии:
«У меня в городском доме только один раб остался, старый Левон. Он, наверное, отлучился. На нем много обязанностей… Позволь мне, я сам схожу в погреб».
А Юлия вдруг вскочила из кресла да как закричит, с ненавистью глядя на Феникса:
«Или ты думаешь, что это я убила младенца?! И ты – с ними!.. Ему нельзя было дышать соснами среди летней жары, а я его якобы нарочно заставила ими дышать!.. Ты думаешь, из ненависти к Ливии и к ее выродку – лживому, как она, правильному до тошноты, чинному до отвращения?.. Он таким благородным и целомудренным и в постель ко мне направлялся: принимал ванну, долго душился и тщательно брил лицо, раздевавшему его рабу велел аккуратно складывать одежду и, перед тем как начать меня обнимать, нередко сам выходил и проверял, как и куда тот складывает… Вернувшись, сначала молился… А улегшись со мной – нет, не улегшись,а бережно и неторопливо разместив на ложе свое большое, натренированное долгими упражнениями тело, где каждая мышца, как у какого-нибудь циркового атлета, правильно горбилась и скульптурно выпячивалась… Когда долго и унизительно заставляешь себя любить, то, задушив истинные чувства и всю себя изнасиловав, ты, сама о том не догадываясь, накапливаешь в себе ненависть!.. И на кого она выплеснется, разве ты знаешь?.. Что ты на меня смотришь, как на преступницу? Ты тоже так думаешь?!»
«Я… я не думаю…», – тихо отвечал Феникс.
А Юлия закричала:
«Я попросила вина! Где оно?!»
Феникс вышел из экседры и сам пошел к погреб.
Гней Эдий тоже пошел по тропинке в сторону города. И опять шел весьма быстро. И уже не через десять, а через тридцать шагов произносил короткие одышливые фразы. Фразы были такими:
– Повторяю, Феникс очень спокойно рассказывал… Я следил – ни малейших признаков волнения… Он себя не сдерживал… Ему был совершенно безразлично то, о чем он рассказывал… Он ни разу не назвал ее «Госпожой». Юлией. И только Юлией…
Тут Вардий остановился, развернулся ко мне и снова принял позу оратора.
– Когда с кувшином вина Феникс вернулся из погреба, Юлия из экседры исчезла. Феникс обнаружил ее у себя в спальне, на другой стороне атрия. Она сидела на ложе, откинувшись назад и опершись на обе руки.
«Я ведь, как и твоя Медея, лишь внучка Солнца, – тихо заговорила Юлия. – Мой отец полубог. А я лишь на четверть богиня и на три четверти земная женщина… Мне стало невыносимо. Я понеслась, полетела к тебе. Ведь ты обещал мне когда-то, что в трудную минуту всегда придешь мне на помощь. Ты клялся – вот на этом перстне, который до сих пор носишь на своей руке, – ты клялся, что стоит мне лишь позвать тебя… Я не просто позвалатебя. Я пришла в твой дом, разделась и легла на твою постель. Я ждала если не огненной страсти, то хотя бы нежности и сострадания… Ведь ты мне когда-то сказал: из жалости тоже можно любить… Так что же не пожалел?»
Феникс молчал, застыв с кувшином и с одним кубком в руках.
Юлия взяла у него кубок и спросила:
«Ты испугался?»
«Нет, не испугался», – ответил Феникс и хотел налить вина в кубок. Но Юлия отдернула руку, и вино пролилось на постель.
«Так почему не обнял, не стал целовать, не овладел той, которая пришла к тебе как к врачу, как к спасителю? Ты, всегда такой чуткий, неужели тогда не почувствовал?!»
Юлия выхватила у Феникса кувшин и сама налила себе в кубок.
«Ты смотрел на меня, как на холодную богиню. А к тебе пришла горячая и голодная женщина. И женщину это надо было…» – Юлия произнесла несколько грубых солдатских слов и вернула кувшин Фениксу.
Феникс молчал. Юлия же, прильнув к кубку, жадно осушила его до дна. А после поставила кубок на пятно на постели и объявила:
«Ты предал меня в отчаянную минуту».
«Предал?» – переспросил Феникс.
«Да, смотрел на меня таким же двуличным взглядом, каким сейчас на меня смотришь, и рассчитывал, вычислял…»
«Рассчитывал?» – снова переспросил Феникс.
«А то нет, – усмехнулась Юлия. Она встала с постели и, шагнув к Фениксу, стала заглядывать ему в глаза, сначала – в один глаз, потом в другой, своей щекой почти касаясь его щеки, а своими губами – его губ. И губы ее шептали: – Ты думаешь, ей понравились стихи, которые ты посвятил погибшему Друзу? Ты думаешь, она хоть что-то понимает в поэзии, а тем более в такой, как твоя?.. Нет, она сразу сообразила, что нельзя упускать случая, что, подарив тебе виллу, можно привлечь тебя на свою сторону. Ей уже давно донесли, что мы с тобой дружим, что ты называешь меня Госпожой… Она, эта гадина, уже тогда поняла, что ты для меня значишь… Так почему не отнять, не украсть, не купить?.. Купили тебя, бедный поэт. Купили и отняли у меня, твоей Юлии, твоей Госпожи!.. Разве не так?»
«Не так», – ответил Феникс и сделал шаг назад – как он мне сказал: для того, чтобы получше разглядеть Юлию.
Вардий снова пошел по тропинке, но уже не так быстро, как раньше, и говорил мне, идущему рядом:
– «Ну и как, как она выглядела?» – спросил я у Феникса. А друг мне в ответ: «Лицо у нее было каким-то болезненно бледным. Глаза сверкали ярким, сухим блеском. Волосы стали будто ржавыми… У нее теперь было совсем не такое лицо, какое я знал до этого, и мне очень не хотелось признавать в этой женщине ту Юлию, которую я когда-то любил… И голос. Она говорила теперь простуженным хриплым голосом, мало похожим на женский, а скорее на пьяный мужской. И когда она тихо говорила, в этом голосе слышалась затаенная злоба, а когда принималась кричать, казалось, она кричит от обиды, от боли. Кричит, как женщина. Но старая и больная…» – Всё это Феникс говорил совершенно бесстрастным тоном, как иногда говорит врач, описывая симптомы болезни, но не самому больному, а его знакомым или дальним родственникам, к заболевшему весьма безразличным.
Вардий снова остановился, на этот раз не приняв позы оратора. И продолжал:
– Когда Феникс отступил от Юлии, та перестала хрипло шептать и опять закричала: «Не смотри на меня так! Ты – вернее, вы с Ливией – не оставили мне выбора!.. Мне несколько раз по ночам снился один и тот же сон. Я стою посреди храма и срываю с себя одежды. Люди на меня смотрят с ужасом, а боги под потолком мной любуются. Меркурий о чем-то шепчется с Аполлоном. А Марс или Геркулес – я не разобрала – могучий бог в кровавых доспехах смотрит на меня с вожделенным призывом!.. Я просыпалась и корчилась от страха и желания… А когда снова ложилась спать, просила Геркулеса, чтобы сон повторился… Я Юлу не отдавалась – он сам меня взял, внезапно и грубо: ворвавшись ко мне в спальню, когда Феба помогала мне совершать утренний туалет, он, ударив ее по лицу, выгнал за дверь, запер дверь на засов, одежды на мне разодрал, швырнул на постель и стал терзать, как лев терзает добычу!.. Казалось, он меня ненавидит. И я этой ненависти, представь себе, радостно подчинилась, потому что уже давно сама себя ненавидела…Я ответила своей ненавистью и своей злостью… Если бы он вовремя не отклонялся, я бы, наверное, перегрызла ему горло. Если бы он вдруг иссяк и остановился, я бы сама принялась терзать его и насиловать. Но мы слились в нашей ярости, и она была так велика, что мы не могли насытиться!..»
Тут Юлия снова перешла на шепот:
«Помнишь, когда однажды ты пришел к Юлу в тот самый момент, когда он у себя дома, на кухне… (см. 18, IX).Ты, наверно, решил, что это Юл подстроил?.. Нет, мой дорогой. Это я тебя вызвала. Мой человек к тебе приходил. Юл об этом не знал. И когда потом я ему сообщила, что, кажется, видела тебя в атрии в самый разгар наших событий, он сразу обо всем догадался и сказал: “Какая же ты стерва! Разве так можно с влюбленным поэтом?!”… Теперь ты понял или не понял?»
«Что я должен теперьпонять?» – спросил Феникс.
«Неужели тогда ты не понял, что я тебе мщу, нарочно сойдясь с твоим другом, с этим всех и вся ненавидящим человеком, презирающим и меня, и тебя, и всё, что нас окружает, потому что мы с тобой – римляне, а он – сын Марка Антония! Я думала, хотя бы это тебя устыдит. И ты, наконец, опомнишься и придешь на помощь своей Госпоже!.. Почему ты тогда не пришел и не спас меня от Юла Антония?»
Феникс некоторое время молчал. А потом спросил:
«А с Гракхом ты тоже… ты тоже спала с ним, чтобы мне отомстить?»
«Я никогда не спала с Гракхом! После того как он вернулся – ни разу! Всё это клевета и гнусные выдумки Ливии!» – закричала Юлия и выбежала из спальни.
Феникс за ней не сразу последовал. Сначала он убрал кубок с постели. Затем выпил немного вина, приложившись к кувшину. И лишь потом, поставив кувшин на пол рядом с кубком, вышел в атриум. Юлии там не было. Не было ее также в экседре.
Юлию Феникс обнаружил в своем кабинете. Она сидела у него за столом, перебирая в руках дощечки с черновиками стихов. Не оборачиваясь, Юлия заговорила, тихо, хрипло, с каждой новой фразой всё более страстно и зло:
«Я вдруг подумала: мужчины поздно стареют, а я женщина, мне уже тридцать четыре года, муж от меня сбежал, с Юлом у нас лишь зверства и извращения… А тут Гракх вернулся. И мне, стареющей женщине, представь себе, захотелось… нет, не любви – я его никогда не любила, как, впрочем, и он меня… Мне ласки захотелось, как в прежние годы, когда я с Гракхом спасалась от свинства Агриппы… Я снова позвала его. Но теперь стала сочетать его с Юлом. Как в бане: сначала потеешь в калдарии, а затем во фригидарии остужаешь свое тело… Послушай, если Венере, от которой мы ведем свой солнечный род, – если ей, Афродите-Венере, Юпитер не запрещал, будучи женой Вулкана, иметь главным любовником Марса, делить ложе с Нептуном, с Меркурием, с Аполлоном и, как некоторые рассказывают, даже с ним самим, с Императором Неба, с Трибуном Вселенной!.. Кому она вообще нужна, эта добродетель, если боги над ней смеются?!.. По какому праву они ее от меня требуют? Когда Ливия, на всех углах провозглашенная самой добродетельной из добродетельных, Ливия эта, едва ее поманил мой отец, бросила своего несчастного мужа Клавдия Нерона, кинула на него своего малолетнего сыночка Тиберия, теперь так нежно любимого… А сейчас водит к отцу молоденьких девочек, покорных овечек, чтоб он, утолив свою старческую похоть, ее, лживую рогатую развратницу, не выгнал на съедение волкам – ненавидящим ее всадникам и сенаторам! И он, наигравшись с этими куколками, торжественный и великий, направляется потом в сенат, чтобы там рассуждать о добродетели и принимать законы против разврата… Зачем мне, скажи на милость, хранить мою добродетель, когда любимый мой человек у себя на вилле, как мне донесли, развлекается с певичками и актрисками и с ними якобы лечится от своей несчастной, безответной любви?»

![Книга [Не]глиняные автора Артём Петров](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)