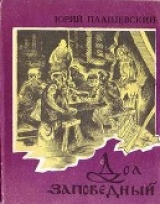
Текст книги "Дол Заповедный"
Автор книги: Юрий Плашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Тоже память, – сказал Ворон.
– Да, – сказал Эмет, – память. Долго будут помнить хана, рожденного непорочной девой.
– Ну? – спросил поп Иван. – Как зайчатина? Хороша? Вижу, вижу, – понравилась вам. Теперь кипяточку, на травках настоенного, попьем. А к нему и мед есть. Давайте стол очистим.
Серафима и Авила Парфен опять принялись помогать хозяину – выносили ненужную посуду, остатки еды. Из кухни принесли казан душистого кипятку, миску с медом. Серафима деревянным черпаком наливала настою, и пили его, похваливая, и житный хлеб ели с медом. И свечи тихо светили на мирную трапезу, и еще уютнее все казалось, наверно оттого, что за окошком уже стояла вечерняя тьма.
В дверь избы постучали крепко, по-хозяйски.
– А, – сказал поп Иван, – Василий Выксун пожаловал. Я его стук знаю, – и пошел отпирать.
Вернулся он быстро. Следом за ним в горницу вошел рослый молодец в коротком тулупчике, в меховой шапке. Он улыбался. Черные глаза блестели, кудрявилась, темнея, молодая бородка.
– Мир честным людям! – громко сказал он.
– Мир и тебе, – сказал поп Иван. – А ты бы, Василий, вот что… Ты бы пошел, тулуп снял, и шапку снял, и с моими гостями посидел бы, кипяточку душистого попил…
– А что? И сниму! И тулуп сниму, и шапку… И посижу… А кипяток ваш пить не буду, – он засмеялся, вышел.
– Разговорчивый, – хмуро сказал Авила Парфен.
– Верно, – сказал поп Иван, – а если разговорчивый, значит, у дружка у своего, у Елистарха был…
– И что? – спросил Ворон.
– А то, что если Василий у Елистарха был, значит, вместе они сидели и брагу пили. Глаза-то у него каковы, видел?
– Видел. Веселые…
– То-то, что веселые…
Вошел опять Василий, без тулупа уже, без шапки, в холщовой рубахе, подпоясанный ремешком, и видно теперь стало, что темные волосы его на голове так же кудрявятся, как и бородка на лице.
– Садись, Василий, – сказал поп Иван, подвигаясь на лавке, – садись.
Василий сел с ним рядом. Посмеиваясь, оглядел гостей.
– А много вас тут, – сказал. – Пируете? Поминки устроили по собаке волхва Сергия, которую волк задрал, да? – он засмеялся, вскрикнул озорно: – Осаживай обручи до места.
– Выпей отвару с медком, выпей, – опять начал уговаривать его поп Иван. – Тебе полегчает.
– С чего это мне полегчать должно? – сдвинув брови, спросил Василий.
– Не серчай, Васюта, не серчай. А лучше меня послушай.
– С чего это мне полегчать должно? – упрямо повторил Василий. – Я вижу! Ты, отец Иван, сказать хочешь, что у Елистарха я был? Ну и был! И будто я брагу пил! И что в том? Каждый крестится, да не каждый молится, а я вот так намолился – сколько душа возжаждала! – он провел рукой себе по горлу, – столько, да еще полстолька. И – конец! – он опять засмеялся. Не перечь!
– Да уж тебе поперечишь! Но ты не забывай: у сердитого губы толсты, да брюхо узко.
– Ништо! Не пужай, сдюжим! А что вы тут кипяточек свой пьете, медком заедаете – и то скука великая!
– Всяк делает, что может… В рай за волосы не тянут.
– А я говорю – скука! – Василий помолчал, потом прикрыл глаза, завел мечтательно. – Батюшка мой, Андрей Выксун, сказывал мне. На Волоке на Ламском монастырь есть святой. Тот монастырь царь Иван раз пожаловал. Принес в дар монахам сани вяземские. Сани те немецким алым бархатом подволочены, дуги и оглобли вязовые. Хомут же ременный, с лисьими красными хвостами. И полость в санях – сукном добрым желтым подложена и сафьяном…
– И какая тебе в тех санях корысть, что будто рыдаешь ты по ним и слезы льешь? – спросил Авила Парфен.
– Да какая ж корысть быть здесь может! – вскричал Василий. – Хоть и были бы у меня те красавцы сани? Где на них тут поездить? Кому показаться? Перед кем промчаться? Перед медведями да волками? – он злобно засмеялся. – Холопы! Кипяток с травой лесной пьете! Медом лесным заедаете! И сами вы лесовики, мужичье, лешие… А там в миру – жизнь…
– Васюта, милый! – привстал поп Иван. – Что же ты гостей моих лаешь? За что? Опомнись!
– В мир захотел? – насмешливо сказал Ворон. – А мы оттуда бежали. Ты знаешь, что там в миру-то делается? В санях с красными хвостами лисьими покататься захотел? Только чтоб в те сани усесться, злато-серебро иметь надо. Оно у тебя есть?
– Будет! – выкрикнул Василий. – Не пужай! Хоть сейчас нет, так будет. В миру недотепам косопузым делать нечего. С того они в леса и бегут. А в миру себя покажи. Либо ты кого, либо тебя кто…
Авила Парфен прищурился, взглянул на Василия остро, спросил:
– Откуда ж у тебя, Василий, золото будет?
– Мое это дело!
– Хорошо. Это, скажем – пусть, твое. А девке голову морочить, смущать – тоже твое? Тут, милый, не только твое.
– А чье же?
– Да хоть бы Ждан Медведя! Да и мое – тоже.
– Твое? – Василий захохотал. – Ну, нет, врешь! Это только Лебедушки дело, да мое! А больше – ничье…
– Чего зубы скалишь? – тихо, с расстановкой сказал Авила Парфен. – У нас еще прежде с ней уговор был. Будто не знаешь?
– Знаю, знаю! Да нечего кашу в лапти обувать! Дело-то забытое. Дело, видишь, такое. Девке не укажешь. Ты ее в кувшин посади – и то сбежит, если захочет.
– Сманиваешь? А – куда?
– Там видно будет.
– На большую дорогу? Тебе ведь казну только на большой дороге и добывать.
– А чего на вас большая дорога страх наводит? Там тоже люди. Не хуже нас с вами.
– Смотри ты!
– Да. Не хуже. Только половчей. Был вот, говорят, такой дядя с большой дороги – Авдошей звали. Поймали его раз царские стражники. Да и посадили голубя в острог вместе с друзьями. Хорошо. Сидит Авдоша в остроге. День, другой. Потом стражника просит: мил-человек, принеси лохань воды – умыться. Грязны-де мы очень. А тот, дурак, возьми и принеси. Малое время погодя входит к ним опять – что за диво! Ни Авдоши, ни товарищей его, одна лохань стоит, да и та – сухая!
– Это как же? – удивился поп Иван. – А они где ж?
– Ушли! – выкрикнул Василий. – Утекли! Вместе с водой! Оттого и лохань пуста… Вот те каковы люди с большой дороги бывают! А вы! – он махнул рукой, встал, вышел.
– Да, – после долгого молчания сказал Авила Парфен. – Сани, видишь, ему мерещатся. Немецким алым бархатом, значит, подволочены. А на хомуте красные лисьи хвосты. А в санях – он сам – свистит, гикает, мчится вихрем! Важно!
– А что ж, – вздохнул поп Иван. – Дело молодое. И того хочется, и этого…
– Не в том дело, – покачал головой Ворон. – Молодое дело – хорошее. До того, что Васюте хочется – то преступлением только добывается. Вот он и наметился.
– Нет, Ворон, нет! – надрывно воскликнул Степан. – Не то говоришь! А то, что отрезанный мы ломоть теперь – вот главное. Слов нет: хорошо здесь. Душе спокойно, сам себе хозяин. Трудись – и все, что наработаешь – твое. Да будь они прокляты те сани! Не нужны! А вот зато как подумаешь, как там, в миру, по кузням всякие человеки молоточками по железу, по укладу потюкивают, огонь дуют, уголек подбрасывают, а уголек – черный чертушко – сухой, чистый, аж звенит, как его подгребаешь! И они, эти человеки, мужицкий разный, городской, военный, купеческий обиход куют – как подумаешь, говорю, как вспомнишь, так бы слезами и залился. Как они там, други, работают? Какой способ к ремеслу прилагают, что нашли? Это ж дело какое! Наш брат, кузнец, он такой, он все время на выдумки горазд. И все это друг дружке передается. А я? Один, как перст… Что и знал, так в лесу тут забуду, не то, чтоб новое что ухватить…
– Да, Степан, ты про ремесло свое верно говоришь, – Ворон отпил душистого отвару из чашки, поставил ее, пристукнув по столу. – Верно. А мне что? Мне об своем ремесле жалеть нечего. Пусть бы то ремесло совсем быльем поросло. Я с юных лет приучен на коне сидеть, саблей махать, огневым боем в людей палить. И от того ремесла – тоска смертная. Ворочаться к нему не хочу. Мне тут по нраву. Чего больше?
– Что и говорить, – улыбнулся Томила. – Ты, Ворон, счастливый. Ремесло свое ты покинул, а зато у тебя лада – вон какая, – он кивнул на Серафиму, – залюбуешься! Она тебя не покинула. Она с тобой. Недаром говорят: без мужа голова непокрыта, без жены дом непокрыт… У тебя ж теперь все есть – и дом, и жена.
– Истинно, – кивнул поп Иван, – истинно – жена человеку первый друг. С ней счастье, с ней веселье. А случись беда – она же первая и размыкает ту беду, и утешит, и поможет. Мне про себя, детушки, одно сказать можно: я из Дола – никуда. Никто мне здесь не докучает: во что веришь, да как веруешь. Верую просто – в господа нашего Иисуса Христа, и душой тоже прост. И вам я нужен. А выйдешь в мир – там тебя протопопы затаскают. Житья не дадут. А скажешь что не так – в яму монастырскую посадят.
– О чем жалеть? – тихо сказал Эмет. – Куда попал – там живи. Человек все сам должен нести. Где добро – там родина. Когда сплю, часто степь вижу. Во сне даже плачу. Проснусь – все вспомню. Нет, не надо. У нас один хан был. Давно. Сказал: давайте города в степи строить. Люди думали: хорошо. В городах – дома. Дома от холода спасают, от жары спасают. В городах сады можно посадить. В садах плоды сладкие расти будут. Так все думали. Но один батыр сказал: «Наш народ – честный народ, храбрый народ. Однако наш народ – малый народ. Построим города – их защищать надо. Город с места не сдвинешь. А если враг с большой силой придет? Станем защищать и все погибнем, и города наши тоже погибнут. Поэтому удел наш пока – легкие юрты. Если под силу нам – будем биться. Если чужая громадная туча на нас идет – сняли шатры неслышно, навьючили на верблюдов бесшумно, растаяли в степи бесследно. Так род свой спасем». Но и человек – тот же род. Если нет пока сил себя отстоять – уходи. Пока времена другие не придут… Уходи…
Эмет замолчал, обвел своими черными глазами сидевших за столом. Томила сказал:
– Эмет верно говорит. Я – мужик. Черносошный я мужик был, – значит, государев. Ладно. Тягло я тянул – молчал, пока сносно было. А когда из-под задницы у меня последнее рвать стали – тут погоди. Тут разговор другой выходит. Я, слава тебе господи, жену за себя взять не успел – молодой еще был. Вот и утек. Один из деревни своей утек – до того она мне постыла стала. К Ворону прибился. Спасибо ему, не отверг меня, не отпихнул. Вот я с ним, с Вороном, тут, в Долу и очутился, спаси Христос. Назад ворочаться? Это чтоб на меня опять доглядчики, доводчики, переписчики, стражники, слуги дворянские насели? – тьфу на них! Мне там: в миру – не жизнь – смерть! – Томила отвернул голову, стал глядеть в оконце, и плечи его вздрагивали.
– Все так, – заговорил Авила Парфен, – и не так.
– Как это? И так, и не так? – вскинулся Ворон.
– А вот так. Ты послушай, Ворон. Вот я здесь мельник. У мельницы хорошо. Всем нашим помогаю. Зерно мелю. Да работы – кот наплакал. Смех! Ну два, ну три человека мешок, другой принесут. А то целыми днями вода через желоб бежит праздно. Даже водяной мой, что подле колеса в воде живет, мельницу бережет, и тот скучает. А в миру? Там у мельницы иной раз не протолкаться. Возы скрипят, кони ржут, мужики переговариваются, бабы смеются, чада бегают. Весело. Потому – народ с собой все несет – и горе, и радость. А мы в стороне. Оно, правда, сытнее нам тут, да спокойнее, но одиноко. А народ – он ведь еще через муки, через кровь и долю себе отстоять может. Но без нас. А среди народа хоть и тяжко порой – а любо. Как вспомню, в округе нашей в летнее время сонмища собирались, сходились, по зорям и в ночи разного полу людей много, чародействовали. В первые дни, как новый месяц народится, после захода солнца, на небо смотрели. Гроза придет, так в громное громление – в реках и озерах купались, здоровье обретали. И с зеркала, с серебра умывались. И медведей водили, с собачками плясали, загадки загадывали, и сказки сказывали…
– И у нас тоже, – тихо сказала Серафима.
– И у нас, – повторил за ней Степан.
– И у нас все то же, – сказал Томила.
– Вот с того Васюта с ума своего и сходит, – продолжал Авила Парфен. – С того ему и сани вяземские с алым подбоем снятся. С того он и на большую дорогу с кистенем, с чеканом восхотел выйти…
– Ну, уж и на большую дорогу! – перебил Авилу поп Иван. – А может, он просто клад найти хочет?
– Клад! – опять с каким-то надрывом рыдательным возгласил Степан. – Да я тот клад, почитай, лет десять искал – шиш нашел. Они попросту, клады те, в руки не даются. Смотреть надо. А разве углядишь?
– А чего углядывать?
– А вот, скажем, поросенок где мелькнет. А щетина у него изжелта-светлая, отливает. Или баран. Или петух. Так и знай – клад близко. Не отходи никуда. Здесь и рой.
– Так тебе, значит, поросенок ни разу не попадался? – спросил Томила.
– Ни разу, – со вздохом ответил Степан.
Все засмеялись.
Выпили весь навар душистый, весь мед сладкий съели. И стало уже поздно.
– Авила, право слово, хорошо говорил, – поп Иван погладил реденькую бородку. – Хорошо. Народушко, он что-нибудь да для себя сотворит. Нет-нет, а глядишь – перемена какая приспеет.
– Переменам быть, – коротко бросил Авила Парфен, – того никак не миновать.
– Это ты с чего и откудова взял? – тотчас спросил Ворон. – Уж не водяной ли твой, что мельницу стережет, про то тебе сказывал?
– Мне не водяной сказывал, – просто отвечал Авила. – Весной я из Дола ходил, у знакомого стеклодува в строгановском городке был. Сткляниц у него пару брал. И тот стеклодув говорил, что-де на Троицу в Москве птица Гамаюн была. Ночью ее видели и слышали, что кричала, и крыльями плескала. Потом скрылась безвестно. А тут всякий знает: если она, Гамаюн, прилетела, так уж не зря, уж по-старому не будет, все наново перемотается…
– Птица Гамаюн лик имеет женский прелестный, но видом печальный, и к человекам является в кануны страстей великих и напастей неотвратимых, – странно, шепотом быстро проговорила Серафима – так, что все вздрогнули. Поп Иван покачал головой, но ничего не сказал.
Тут все поднялись, стали хозяина за честную беседу благодарить, да за угощенье обильное. Поблагодарив же, из избы вон вышли и отправились восвояси.
Тут Эмет опять отстал и, идя позади рядом с Вороном, сказал ему:
– Васюта клад не в миру искать хочет. Он его в Долу ищет.
– А ты откуда знаешь?
– Видно. Когда на охоту ходили, с охоты возвращались, он все приглядывает. И меня спрашивал, не видал ли я чего.
– А ты что отвечал?
– А что мне отвечать? Я ничего не знаю.
IX. Беседа у огня
Наступила зима. Брали у соседей лошадь, сани, возили из леса дрова, валили сухостой, распиливали, обрубали ветки – и себе хватало. И с хлебом устроились. Ждан Медведь дал десять мешков ржи. «Весной посеете, – сказал, – потом отдадите».
Эмет почти каждый день ходил на охоту. Приносил зайцев, лисиц, горностаев, иногда валил лося. Тогда, чтобы привезти тушу, посылали в лес сани с лошадью. Выделывали меха. С осени успели запасти лесных орехов, грибов – сушеных, соленых. Был в достатке и мед.
Искрился вокруг, сверкал на солнце снег. Дни стали коротки, ночи длинны.
В один из долгих вечеров собрались в избе у Ворона и Серафимы. Жарко пылал огонь в печи. Было тепло. В резном деревянном подсвечнике на столе ярко горела толстая восковая свеча. На столе тут же в деревянных мисках был мед, лежали толстые ломти еще теплого, испеченного Серафимой ржаного хлеба. Еще были в лотке алые лесные ягоды, прихваченные морозом. Их принес Иона – похваливал и всем предлагал угоститься.
Кроме Ворона, Серафимы да Ионы были и Степан с Томилой, и Эмет, и Авила Парфен. Сидели на лавках возле устья печи, смотрели на огонь. То и дело кто-нибудь подымался, подходил к столу, прихватывал ложкой мед, заедал хлебом, наливал себе в чашку горячего питья, возвращался к печи, сидя возле, прихлебывал.
– Ты, говорят, Иона, еще человека недавно привел? – спросила Серафима.
– Привел, – кивнул Иона.
– И что за человек?
– Молчаливый он человек, – ответствовал Иона, покачивая головой как бы в раздумье. – Обрел его в той же избушке, где и вас тогда сыскал. Заглянул я утром. Тихо, бережно дверь отворил. Вошел. Гляжу – спит он, человек, на лежанке. Да. Спит, а по лицу слезы текут. Сердце у меня защемило. Осторожно за руку его взял. Он глаза открывает, на меня смотрит, говорит: «Не буди меня». «Отчего мне тебя не будить?» – спрашиваю. «Оттого, что не хочу просыпаться. Постыло…» Умолк. И я молчу. А сам вижу – бывалый он человек, в летах. Испытал, значит, много. А он как умолк тогда, так, почитай, все время почти и промолчал. Еле-еле выведал я, что один он на свете, как перст, и охолодела душа его, и бежал он куда глаза глядят, лишь бы никого не видеть. В Дол же наш Заповедный согласился со мною идти радостно, только имени своего не назвал. Я, говорит, все потерял, и имя – тоже. Бросил лишь мне раз коротко, что он из стрельцов и под началом стрелецкого головы Тимофея Тетерина, было дело, служил. Но тот Тимофей сгинул безвестно, а он, бывший стрелец, теперь уж много лет бродит праздно, скрывается, места себе не находит, в миру жить не хочет…
– Тимофея Тетерина под началом служил? – живо спросил Ворон. – Так он сказал?
– Да, – Иона посмотрел, удивляясь. – И что тебе, Ворон, до того Тимофея?
– Ну, как же! – сверкнул Ворон глазами. – Про Тимоху Тетерина немало в те поры говорено было. Средь ратных людей много про него толков шло.
– Расскажи, Ворон, расскажи, – стали просить Степан, и Томила, и Авила Парфен.
– Можно и рассказать. – Ворон сунул в печь пару поленьев, потер руки. – Тетерин Тимофей смел был и в ратных делах разумен, ловок, удачлив. Над стрельцами под Астраханью начальствовал и в первом Ливонском походе оказал себя храбро. Приступом со стрельцами Русские ворота в крепостной стене у Нарвы взял, и через те ворота большие воеводы в город вошли. За таковы подвиги свои к дарю Ивану с победной вестью Тимофей послан, а еще через год крепко от него, Тимохи Тетерина, ливонским рыцарям досталось. Как они, рыцари, в отступ от Юрьева города шли, Тимоха их отряды в пыль разбил и много знатного полону забрал.
Ворон замолчал, беззвучно шевеля губами, глядя в устье печи, где играл огонь.
– Ну? – спросил Авила Парфен. – И где ж теперь тот разумный да храбрый воин Тимоха?
Ворон встал, отошел к столу, налил еще горячего питья, отхлебнул, крякнул, вернулся к печи, сел, вытер тыльной стороной ладони рот, сказал хрипло:
– В Литву сбежал.
– Вот это утешил! – вскинулся Степан. – Да как же он смел? В Литву! Да за это…
– Не торопись, Степан, – зло ответил Ворон. – Не сразу Тимоха на такое решился! Довели…
– А кто ж довел, дьявол, сатана, кто довел?
– Будто не знаешь, – Ворон оскалился, – будто не знаешь, говорю, кто у нас доводит? В каждом камне искра – не всяк ее выбьет…
– Неужто опять царь Иван?
– Он. Измыслил сначала царь Иван, будто Тимоха Тетерин на жизнь его, на государеву, зло задумал. И хотя все то измышление было ложно, и царю Тетерин служил всегда верно, да перед Иваном Васильевичем не оправдаешься. Приказано было Тимоху насильно в монахи постричь и в дальний Антониев-Сийский монастырь заточить. А теперь скажи, мил-друг, Степан, что Тимохе делать оставалось? К тому ж хорошо известно, что на пробуждение ярости своей царь Иван отменно подвижен и многих заточенных не раз убиению предавал…
Ворон опять умолк, и другие тоже молчали, смотрели на огонь.
– Да, – выдохнул наконец Иона. – Он такой. Я тоже слышал, опаляться гневом царю Ивану по сей день привычно и очень даже способно. А где грозно – там розно.
– Вот и выходит, – с надрывом выкликнул Степан, – что у нас, что у Тимохи – одна судьба. Ему на заход, нам на восход – а все равно бежать пришлось. От царя от Ивана, будто от пугала. Так он весь народушко и распугает, этот царь – больно грозен, и станет пусто везде.
– Не распугает, – злобно сказал Ворон, – народушко еще не все сказал. Как бы ему, царю, самому напоследок не испугаться. Да и про нашу долю ты, Степан, не так говоришь. У нас доля не в пример Тимохиной…
– Будто уж лучше? – с насмешкой, с обычным своим рыдательным напевом вскричал Степан, как всегда это у него бывало в запальчивости.
– Конечно, лучше! Помолчи! – твердо сказал Ворон, видя, что Степан опять хочет встрять с каким-то своим словом. – Помолчи, говорю. Тимохи Тетерина на Руси, на Москве жизнь кончена. Ему возврата нет. Хочешь – не хочешь, а теперь живи да помирай, только там – в Литве или в других каких странах. И это страшно. А мы – хоть и особый каравай, да все в русской печи. И к нам человеки доходят, русские, и мы в мир, бывает, ходим, если нужда есть. А иной кто захочет, тот и вовсе уйти может, туда вернуться.
– Васюта Выксун захочет вернуться, – вдруг сказал Эмет, – только он себя потеряет.
Все посмотрели на Эмета.
– Чего это ты говоришь? – недовольно спросил Иона. – Чего это он захочет в мир вернуться?
– Так. Он сильно думает.
– О чем?
– О санях красных.
Все засмеялись, только Авила Парфен тихо сказал:
– Не смейтесь. Эмет верно говорит.
– Сильно думать – себя потерять, горе найти, – сказал Эмет. – Сильно думать – душу отяжелить. Если же душа тяжела, мрачна, – человек умереть не может.
– Вот, на! – усмехнулся Томила. – Так это ж хорошо – не умирать!..
– Нет, Томила, – ласково улыбаясь, ответил Эмет, – жить, да не умирать – это человеку хорошо только пока сила есть, желание жить есть. Когда сила прошла, желание прошло, когда человек все прожил, что ему Аллах положил, тогда умереть надо. Тогда к человеку ангел смерти Азраил слетает, душу его уносит. И душе в другую жизнь идти надо – по мосту тонкому, как конский волос. Под ним – пропасть и темная вода. Так должно быть. Но если у человека душа огрузла мыслью, желанием, любовью, ненавистью, если чрез меру тяжела она – ни Азраил не унесет ее, ни мост не выдержит – подломится. Тогда человек продолжает жить, хоть он мертв. Покой не приходит к нему, и мукам его конца нет. Бывают женщины, которые сильно любят, сильно ненавидят, и тоже преступают всякую меру – они тоже не могут умереть – они становятся мыстан – ведьмами. В степи, в лунную ночь, иногда можно видеть – пробегает тень. Это те, не умершие. Или в жизнь возвращаются они еще, в других людях живут, чужой век себе отбирают. Вот ваш царь Иван, наверно, тоже такой, умереть не сможет. Он, видно, все превысил, и краю уже у него не стало – мыслям его, страстям, страху, ненависти на людей. Когда умрет – потом опять приходить станет, в разных властителей вселяться, жить.
– Ну, это ты, Эмет, оставь, – сказал Ворон. – Не стращай. Нам и одного царя Ивана за глаза довольно. Другого не надо. Мало ума, да примера было, – в колыбельке его не задавили. А с другими, бог поможет, – справимся. Задавим.
– Уж не ты ли давить будешь? – прищурился Иона.
– Меня, пожалуй, в те поры уж и на свете, наверно, не будет, – отвечал Ворон. – Другие люди будут. Ужель среди них не найдется способный человек? А должен, чаю, найтись. Должен!
В избу постучали. Ворон встал, вышел в сени; вернулся с толстым мужиком в черной бороде – Елистархом.
– Во имя Иисусово, – сказал Елистарх, снял шапку, поклонился, – во здравие.
– И ты будь здрав во имя господне, – отвечал Ворон. – Садись.
Серафима налила в чашку отвару, с поклоном подала ему:
– Согрейся, Елистарх, и меду откушай.
– Спасибо. А иного у вас нету? По погоде надо бы чего покрепче. На дворе-то холодно. – Елистарх отпил горячего настою, оглядел сидящих в горнице.
– Иного не держим, – ответила Серафима.
– Крепкое, Елистарх, сам знаешь, на двое способно. Сначала от него горячо, потом – зябко.
– А его, крепкого, еще подкрепить потом можно, – заулыбался Елистарх.
– Природный ты целовальник, Елистарх, как поглядеть, – сказал Авила Парфен. – Уговаривать умеешь. Да крепкое, знаешь, крепким подкреплять, – конца не видать.
– Ну и что?
– Я слышал, Васюта к тебе ходит.
– А чего? Ходит и ходит. Вольному воля.
– Это так, вольный – он и есть вольный, – не отставал Авила Парфен. – Да еще и соседа моего, Михайлу, тоже ты к себе, скверный мужик Елистарх, зазываешь.
– Чего это я – скверный?
– Сам знаешь. Чего Михайле у тебя делать? Крепким его угощаешь?
– Ну и угощаю. А что?
– А что берешь?
Елистарх не ответил, будто занялся отваром. Пил, нахваливая:
– Ах, хорош у вас кипяточек – душистый.
Все молчали, смотрели, ждали.
– Говорю, – чего берешь? – не отставал Авила Парфен.
– Ах, отстань, Авилушка, чего дознаешься!
– Не хочешь сказать? Ну, ладно, я скажу: лис берешь. Горностаев берешь и куниц же тоже берешь, обоюдный ты мужик!
– Чего это я – обоюдный?
– Оттого, что ты и туда и сюда, и на всякое дурное дело повадлив.
– Вот оно как выходит! – покачал головой Иона. – А я и не знал!
– Да. Но – ничего. Это дело еще поправить можно.
– Как? – спросил Иона.
– Когда я, грешник, мельницу еще только заводить начал, – нахмурясь, говорил Авила Парфен, – у меня водяной часто баловал. Пока не привык. То в воду столкнет, то глаза отведет, что я пазы в бревнах не там, где надо, вырублю – никак избяного венца не сладишь. А один раз – надо же! – что учудил? Жернов новенький, только что вытесанный, ночью на сосну высоченную взволок, да оттуда на каменья и кинул! Ну, жернов, конечно, надвое раскололся.
– Ну и что? Что дальше-то? – спросил Елистарх.
– А ничего. Как он раскололся, так с тех пор там и лежит, травой зарос. Но – учти, каждая его половина – хоть она и половина, а тяжелая. Ох, и тяжелая! – Авила Парфен смутно улыбнулся. – Смекаешь?
– Смекаю. – Елистарх повертел головой, почесал бороду. – Ты хочешь сказать, Авила Парфен, что и одна половина жернова утянет под воду на дно, если ее мне на шею привязать?
– Да.
– Ну, это еще поглядим, – оскалился Елистарх. – На чью шею ту половину привязывать придется.
– Оно так, – согласился Авила Парфен. – Да ты, Елистарх, в рассуждение еще и то возьми, что привязывать не я один буду. Люди помогут. Вон – Ворон сидит. Он же мне и подсоблять будет.
– Ась? – повел Елистарх глазами на Ворона. – Неужели будет? Подсоблять?
– А как же! – Ворон погладил усы, бородку, кашлянул. – Дело-то общее. Как же не подсобить.
– Та-а-ак, – протянул Елистарх. – Это я понимаю. А за Вороном и другие подсоблять потянутся? Так или не так?
– Так, – кивнул Степан. – Что Ворон, то и мы. Да ты, милый человек, не сомневайся, мы это быстро соорудим – глазом моргнуть не успеешь – на дне окажешься, и жернов рядом. Любо-дорого.
– Спасибо, – Елистарх потрогал шею, поскреб опять бороду, – это я тоже понял. Промыслу моему вы тут заграду ставите. А я-то думал вас потешить.
– Не надо, – сказала вдруг Серафима. – Не надо нас брагой да вином тешить. Уходи.
– То есть, как это – уходи?
– Так – уходи и все, – повторила Серафима. – Я ж тебя вижу. Ты от своего зелья не отстанешь, а с людей все будешь тянуть и тянуть. Вот тебе и навесят за то жернов на шею. Одно у тебя спасенье – Дол покинуть, в мир уйти. А там – что хочешь делай.
– Пожалуй, – крякнул Елистарх. – Там я себе места найду.
– Кто сюда, а кто – вон, – сказал Иона.
Наступило молчание. Смотрели в огонь, думали, вспоминали.
Ионе вспомнилось, как тому назад года с два его на той стороне, в сторожевой избушке, сонного, трое лихих людей захватили. На рассвете он очнулся – видит – связан. А рядом трое сидят, глядят на него.
– Ну? – спросил рябой, – он у них, смекнул тогда Иона, за атамана был. – Если жить хочешь, должен ты нас к своим вывести, дорогу показать. Понял?
– Понял, – повторил за рябым Иона.
– Ну и ладно. Да не дури. А то…
– Чего там… И так вижу.
– Развязать его, – приказал рябой.
– Что-то он скоро соглашается, – в сомнении сказал второй. Одного глаза у него не было, а тот, что был, – черный, горячий – буровил Иону зло, недоверчиво.
– А чего ему не соглашаться, – прохрипел третий, невысокий, жилистый. Достал со спины из-за пояса топор, потрогал корявым пальцем – остер ли? – крякнул, посмотрел на Иону. – Он же все понимает. Верно?
– Верно, – сказал Иона.
Повел он их. Рябой шел следом, держа наготове палицу с железными шипами.
– Мы этот Дол ваш Заповедный давно высматриваем, – говорил позади не спеша, с придыханием, – то в одном месте про него слух идет, то в другом. А толком ничего не разберешь. Теперь поглядим, казны пошарим. Лебедь у вас там белая, говорят, живет, а? Ничего, и лебедь нам сгодится. Пощупаем, какова на вкус.
Завел их Иона в чарусу, в омут бездонный, изумрудной травкой подернутый. Никто из троих и пикнуть не успел – сгинули. Одни шапки плавать остались. Да и те после потопли. А травка, как и прежде была, – все изумрудом нежным зеленым зовет, светится.
В другой раз погнался за ним по тропе человек плечист, рыж. Выскочил из-за дерева – подстерег, ирод – засвистел страшно, вдарил кистенем на ременной петле, да промахнулся. Бежал сзади, ногами топал, грозился, кричал что есть мочи – «стой!». Да где там – стой! Навел его Иона на лук настороженный. Сам в сторону метнулся, а тот, конечно, струну натянутую задел. Еле слышно саженная стрела всего и свистнула нежно, да и того хватило – насквозь проткнула – как бежал, так и ткнулся плечистый замертво рыжей бородищей в землю.
…Смотрел Иона в огонь, губы его шевелились.
– Приют заповедный, незнаемый… – тихо шептал он. – Обитель малая лесная, благословенна будь… Сохрани ее, господь, и укрой от злых, от несытости их и немилого стяжания – человекам в радость, в спасение.
«Да, – подумалось тут же Ионе, – от злых, что там бродят, пути ищут, разорить хотят… От них господь-батюшка укроет. А тут свои, Елистарх неправедный, изнутри разорить может. Гнать его, гнать сей же час. А потом? А потом он, Елистарх же, чего доброго, и наведет тех самых, – злых… А что делать? Не бросать же его в чарусу…»
А Ворон, глядя в печь, на игру огня, вспоминал, как прошлым летом стоял он в тенистом саду на коленях перед царем Иваном и снизу вверх глядел на лик царский. А дьяк, по правую руку стоя, о Северьяновой слезной челобитной ровным голосом говорил неспешно, и царь Иван слушал, преклонив ухо. И Ворон царские очи видел, и холод ледяной входил в его сердце, и чуял он, что милости не будет. Вот и убежище одно только и оказалось, в чаще лесной, от очей нещадных укрытое…
Встали прощаться, уходить.
Елистарх опять губы, улыбаясь, распустил:
– Коли гоните – что ж – уйду.
– А уйдя, Елистархушка, сделай милость, помалкивай, не бери грех на душу, – сказал Иона. – Не наводи на нас ни государевых людей, ни татей лесных, жадных. И нас помилуешь, в грех не введешь, про жернов не заставишь вспоминать.
– Ужо, – тихо отвечал Елистарх. – Ни сам греха не возьму, ни вас в грех не введу. Да только знайте: за других я не ответчик.
– Это за каких – за других? – спросил Ворон.
– За других, значит, – за других. Васюта Выксун, мнится мне, тоже спит, а во сне видит, как бы уйти.
– Это – его дело.
Ушли. Ворон пошел проводить. Серафима осталась одна. Стала убирать посуду со стола – на полки, что были по стенам.
Тут в избу постучали.








