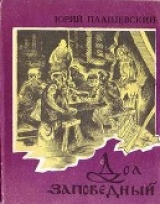
Текст книги "Дол Заповедный"
Автор книги: Юрий Плашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
V. Беседа в дебрях
С утра сеял мелкий дождь.
Лес шел все гуще. Деревья стояли стеной. То был вокруг осинник, а то целыми верстами ели тянулись – черные, высокие, косматые. Лесная дорога делалась все уже, а куда она вела, и сказать нельзя было.
Пятеро по-прежнему шли все на восход солнца – и далеко уже забрели, как-никак – второй месяц шагали. Лето уже кончалось, подступала осень. Шли и шли через леса, через поляны лесные, через речки. Начались потом уж и холмы – сначала пологие, потом все выше, да круче. И они тоже все поросли лесом.
По Заволжью первое время нет-нет и попадались селения – и русские, и татарские. Татарских было, однако, больше. Но чем дале брели Ворон и его спутники, тем народу по лесам, да по прогалинам лесным попадалось все меньше. Впереди угадывалась пустыня. Но они, кажется, той пустыни и жаждали, хоть каждый шаг давался все труднее.
Кормились больше все рыбою. Иной раз в дуплах у пчел мед брали. Едва на отдых под вечер становились, Серафима все вокруг обходила, приносила грибы, которых здесь великое множество. И грибы жарили, ели.
Эмет нес с собою лук и стрелы. Однажды свалил лося, которого тут же освежевал и разрубил на части. Куски лосятины, посолив, несли с собой несколько дней, постепенно пуская их в пищу во время привалов. Мясо жарил Томила. Он натирал его лесными кореньями и травами; потом разводил костер, а когда прогорало пламя, сгребал красные уголья в кучу. Насаживал мясо на тонкую жердь и держал над жаром, поворачивая то одним, то другим боком. То, что поджаривалось и было готово, отрезал длинным, острым, как бритва, ножом и оделял спутников своих, сидевших вокруг.
Тянуло дымком, пряным духом поджаренного мяса. Вокруг лежала ночь, лес полнился шорохами, то близкими, то далекими вскриками ночных птиц. То был малый мир путников, их зыбкий уют, который скрашивал отдых после долгого шаганья по лесным чащобам.
Тут же, рядом, лежала поклажа, – туго увязанные мешки с их нехитрым скарбом и стоял, прислоненный к дереву, Эметов лук из двух громадных бычьих ребер, связанных жилами воедино, выкрашенный яркой красной краской. Он был невероятно туг. Чтобы накинуть тетиву, Эмету каждый раз приходилось звать кого-нибудь на помощь – Степана или Томилу. Зато и посылал тот лук стрелы со страшной силой – лося, которого подстерег Эмет, пронзил насквозь, так что наконечник стрелы вышел с другого бока, – и зверь рухнул замертво.
В тот день поднялись рано – на рассвете зачастил дождь – и решили от него уходить. Все лучше идти, чем сидеть в дырявом, наспех поставленном шалаше.
Когда день начал меркнуть, дождь стих, небо слегка очистилось, открылся вдали стылый красный закат. Тут и углядели путники в стороне, по левую руку от тропы, невеликую лесную избу с крышей, поросшей мохом. Свернули.
Ворон приказал всем стоять, а сам медленно обошел вокруг избы и ее оглядел, и все ближнее место. Насторожившись, смотрел, водил носом, будто принюхивался.
– Ну? – спросил Степан.
– Да ничего, – подумав отвечал Ворон. – Человечьим ближним духом будто и не пахнет. Захаживают сюда, наверно, но не часто. Люди, кажется, добрые. Видишь – дверь снаружи бревнышком подперта. И окна не дырявы, и каждое паюсом, рыбьим пузырем, затянуто.
Внутри оказались сени, да горница с большой печью. В горнице – стол, по стенам – лавки. Все просто, чисто.
Томила усмехнулся:
– Будто кто ждал, да все устроил.
Серафима устало опустилась на лавку, скинула свой мешок с плеч, сказала тихо:
– До чего хорошо. Крыша над головой.
Она занялась печью, осмотрела ее, вычистила. В сенях нашла кадь, при ней два деревянных ведра. Эмет взял их, пошел по воду – где-то неподалеку бормотал ручей. Степан с Томилой достали топоры, пошли добыть дров, сушняку.
Ворон шагал по избе, делался все задумчивее. Остановился, сказал Серафиме:
– А Томила ведь дело сказал: будто кто ждал… Но то все ничего, только бы знать, с добром ли?
…Печь дышала жаром. Сварили в казане кусок лосятины. Поели. Из меда с кипятком Серафима приготовила сбитень. Пили, отдуваясь. Маленьким красным язычком горела лучина, воткнутая в паз стены. Еле освещала горницу.
– Что ж, спать пора? – Ворон встал. – А засов у двери есть?
Томила шевельнулся, сказал сонно:
– Есть.
– Хороший?
– Хороший брус, крепкий.
– Ну, ладно. Устраивайтесь. Я еще выйду, погляжу.
Вернулся Ворон не скоро. Задвинул засов, сел на лавку. Эмет, Томила да Степан уже улеглись, тихо посапывали. Оставалось еще место ему – у одной стены, у другой – Серафиме. Она спросила:
– Все ходишь, все смотришь, Ворон. А что?
– Сам не знаю. Но чую: уж больно все нарочито. Ну, ладно. Поглядим. А пока будем спать.
Задули лучину и легли, каждый у своей стены. И ночь прошла тихо. Из притворенной печной дверцы долго глядели красные уголья, покрывались пеплом.
Наутро день выдался серый, тихий. Дождя не было, но тучи лежали низко. Решили не торопясь, но и не мешкая – идти дальше. Когда утром в горнице собрались за столом поесть, в дверь крепко постучали.
– Во имя отца и сына и духа святого, – сказал за дверью дребезжащий голос.
– Аминь, – отозвался Ворон. Быстро встал, пошел к двери. – Во имя отца и сына и духа святого, – отодвинул засов, отворил.
Вошел человек ростом повыше среднего, в нагольном бараньем кожухе, в новых лаптях, с посохом в руке. На голове шапка черная, высокая, вроде монашеской, борода долгая, козлиная, редкая.
Оглядел сборище в горнице вострыми глазами, поклонился:
– Во здравие.
– И ты будь здоров, добрый человек, – ответствовал Ворон, – садись к столу.
– А ты откуда знаешь, что я добрый? – сощурился пришелец. – Смотри, не продобрись. Человек, он смутен бывает, правду про себя не сразу сказывает. А за хорошее слово спасибо. Сяду.
Снял кожух, шапку, пристроил вместе с посохом в сенях, в углу. Сел на лавку рядом с Серафимой. Вернулся на свое место и Ворон.
Серафима взяла еще миску, достала из казана кусок мяса, подала с поклоном. Человек перекрестился, взял.
– Ионой меня зовут, – сказал он. – А тебя? Ты кто?
– Мужняя жена. Серафима.
– А чья? Его? – он кивнул на Ворона.
– Его.
– Хорошо, – Иона жевал мясо, оглядывал сотрапезников.
– Мужа моего имя христианское – Ефрем, – продолжала Серафима, – а прозвище – Ворон. А это – Степан, а это – Томила, а это – Эмет. Он из орды, а мы от Москвы идем.
– Ну? И что же на Москве? – спросил Иона. – Здоров ли царь-государь Иван Васильевич?
– Коли тебе интересно, царь Иван, говорят, слава богу, здоров, – мрачно сказал Томила. – Да что толку? Сын его старший, именем Иван же, государь-наследник, – умер. Да не просто, а злой смертью…
– Ну? – Иона растерянно оглядел застольщиков. – Да как же это? И верно ли? И кто же сказал, что злой погибелью? Да ведь это всем пагуба!..
Ворон покивал головой, воззрился прищуренным глазом в Иону:
– Ну, пагуба… А ты – что? Будто мало наслышан, что доселе творил царь Иван? А что верно – так уж верно. Инок один сказывал: им в монастырь вклад большой от царя прислан, молитвы держать и поклоны братии монастырской класть по убиенном рабе божьем Иване.
– И чтоб все то – и молитвы, и поклоны – до скончания века было, – тихо прибавил Степан. – По всей Москве шепот идет – царь-де в сына посох метнул, гневом опалившись. Сына и не стало. Да ты что – впрямь ничего про то не слышал? Ну и глухомань у вас!
– Не, не слышал, – в странной задумчивости покачал головой Иона. – А еще что?
– А еще то, что царь Иван государство свое разорил. – Это тебе ведомо?
– Про то ведомо. Про то мы слыхом слыхали. А как все ж разорил-то?
– Очень просто. Все на войну истратил. Ась? Лет двадцать, почитай, иль больше Ливонию воевал, да не завоевал царь Иван. Земля и запустела. В деревнях – шаром покати. Народушко разбегается.
– Как вы? – Иона усмехнулся.
– А что? Мы – как все, – опять вмешался Томила. – Да и ты тоже. Разве нет?
– Я тоже – что бог даст. А что царь Иван Ливонию не завоевал – на том его вины нет.
– Как это – нет? – сказал Ворон. – Царь он или не царь?
– Он-то, конечно, царь, – задергал козлиной бородкой Иона, – да удачи ему не было.
– Почему?
– Воеводы не те.
– А где ж те? – ощерился Ворон.
– Какие – те?
– Те, что ему Казань, да Астрахань завоевали, под высокую его руку подвели? Ну?
– А бог весть.
– Не можешь сказать? А чего разговор затевал? Чего? – не отставал Ворон. – Теперь говори!
– Да обожди ты, черт!
– Не можешь? – повторял Ворон. – Так я тебе скажу: псам, кромешникам отданы.
– Каким кромешникам?
– Что кромешникам, что опричникам – все едино – на съеденье отданы.
– Опять все про то же, – вздохнула Серафима. – Неужто не надоело? Как соберутся, знай одно – про царя Ивана. Пейте вот лучше, – она подала каждому в деревянных чашках горячий сбитень.
– Нет, отчего ж, поговорить всегда хорошо, – Иона оглядел сидящих. – Так и познакомимся. Про опричников царских я знаю, а что кромешниками их кличут – не знал. И давно?
– Давно! – Ворон махнул рукой. – Псы ненасытные. Из ада кромешного вышли и в ад же кромешный уйдут.
– Уж больно грозен царь Иван, – хмуро прогудел Томила.
– Царство без грозы, что конь без узды, – подмигнул Иона, засмеялся тихо.
Ворон хотел было взвиться, да вгляделся в Иону и осел. Улыбнулся невесело:
– Ты чего нас задираешь? Чего?
– Что боле человек голеет, то боле мудренеет.
– То-то и у тебя мудрость сквозь дырья просвечивает.
– Теперь дырьев, спаси Христос, уж нет. А были.
– А на Руси тех дырьев что дольше, то все больше, – сказал вдруг все время молчавший Степан. – Теперь мужику вовсе податься некуда. Выход ему заказан!
Иона вопросительно взглянул на Ворона. Тот кивнул:
– Запретил царь Иван выходить крестьянским мужикам от одного помещика к другому, искать лучшей доли.
– Это что ж? Значит, теперь Юрьева дня нет?
– Теперь Юрьева дня нет.
Иона вдруг прикрыл глаза, забормотал, раскачиваясь, будто в полусне:
– Река мелкая, плоты тяжелые, пристава немилостивые, палки большие, батоги суховатые, кнуты острые, пытки жестокие, люди голодные…
Серафима испуганно толкнула его:
– Ты что? Иона! Проснись!
Иона взглянул на Серафиму, сказал словно нехотя.
– Ничего. Это я свой путь вспоминаю. Как шел когда-то…
– И куда пришел?
– Туда, куда, чую, и вам хочется.
– А ты откуда знаешь, куда нам хочется?
Иона хитро посмотрел на Ворона:
– Без толку далеко забредать – себя не знать! Только вы мне вот что скажите – на добро идете, или так – чертям хвосты сучить?
– А где они здесь – черти?
– Где? – возопил вдруг в голос Иона. – Они – везде! Вы думаете – леса темные да заломные, места топкие и грязи, и болота большие, и дебри дикие, и лешие – так и нет никого? Кровососы – они проныры, они везде пройдут и все найдут. Переписчики царские Иван Яхонтов, дьяк, да подьячий, Третьяк Зотов, прошлым летом окрест бродили, едва до нас не дошли. Спаси, Христос, на последнем переходе чуть в болоте не потопли, отступились, аспиды, вернулись обратно. Ушли. А всех, кто попался под руку – всех переписали, всех пересчитали. И все плати, плати, плати – дьявол их забери!
Иона стал красен с лица, борода тряслась, руки дрожали – сбитень начал пить – чуть не пролил.
– А другие черти? – чуть потише, но с той же злобой, продолжал он. – А другим чертям имя – Строгановы купцы. Слыхали? Ну, конечно, – где ж не слыхать! На весь мир слава идет…
Тут Эмет вдруг громко засмеялся. Иона осекся, уставился на него. Другие тоже посмотрели на молодого ордынца с вопросом: отчего смех.
– Уж сколько сидим, – заговорил молчавший до тех пор Эмет, – а нас все пугают и пугают. А нас пугать не надо. Мы и так много видели, знаем. Куда идем – тоже знаем. Людей старших уважаем. Почтение к ним имеем, – поклонился Ионе. – Не знаем, однако, кто вы, откуда вышли, чего от нас хотите. Только сидите, нас пугаете. Оттого смешно стало.
– Та-а-ак, – протянул Иона, – значит, куда идете – знаете. А можно спросить: куда?
– Когда я к ним пристал, к Ворону и товарищам его, – твердо, просто отвечал Эмет, – они сказали, идем, рай на земле отыскать хотим. Про то и у нас, в наших краях слыхано было – есть на свете жер-уюк – счастливая земля, блаженная земля. Потому иду с ними. Хочу до такой земли дойти. Правильно я все, Ворон, сказал? – обратился он к вожаку.
Тот молча кивнул.
– Та-а-ак, – опять пропел козлиным голосом Иона. – Значит, дойти хочешь? Вместе с приятелями? И что же вы там, любезные, делать хотите? Кверху брюхом лежать, калачи крупчатые с деревьев срывать, утробу ими набивать? Ведь рай же!
Эмет по-детски улыбнулся, взглянул на Иону как-то жалостливо:
– Зачем, дедушка, за дураков нас считаешь? Я неученый, но думаю, что таких мест, где сладкие лепешки на ветках растут, нигде не найдешь, И человеку животом кверху лежать, жир растить – пользы нет. Жиреть баран умеет, человек – землю должен видеть, землю устраивать. Счастливая земля там, где человек работает и сам собирает, и всему сам хозяин.
– Эге-ге, вот оно как! – чему-то словно обрадовался Иона. – Хорошо говоришь. Лучше не надо. А все ж опять спрашивать придется. Коли такая земля есть, что ей перво-наперво делать надо, о чем заботу нести?
Сказал – и всех испытующим глазом обводить стал, бороденку свою в кулак зажал.
– Молчите? Ну, хорошо, томить не буду. Скажу. Таиться ей, земле этой радостной, надо, чтоб несмысленные да наезжие, да жадные на нее ненароком не набрели, не погубили, не нарушили.
И тут вдруг Ворон не выдержал:
– Ах, дьявол! Ах, сатана хитрый! Притворщик, узнаватель, так вот ты кто! Это ты все пытаешь – зачем идем, с чем идем! А сам ты, значит, оттуда! Вот оно как!
Иона кивнул:
– Оттуда…
VI. Беседа при луне
Луна была большая, круглая и подымалась уже над кромкой леса, обливая светом поляну и дорогу. Дорога выходила из лесу и тянулась мимо землянки дальше туда, где стояли редкие избы. Над ними курились дымы, и в слюдяных окошечках тускло кое-где светились огоньки.
У землянки возле костра, на бревнах сидели Ворон, Томила, Степан да Эмет, перебрасывались изредка словами. Уж три дня минуло, а не совсем еще оставила этих искателей земного рая оторопь от перемены, что явилась им: после дебрей, непролазных чащоб, болот и топей, скальных осыпей и перевалов – очутиться в местах, человечьими руками ухоженных. И строения для жилья, и пашни, огневым палом отвоеванные у леса, и люди, чьим трудом все то было устроено – радовали глаз.
Ворон до сих пор про себя дивился, какой страшной глухоманью вел их Иона – и вывел без ошибки в Заповедный Дол, к поселению мужичьему, тайному, о котором московские властители, доглядчики, стражники знать не знали, ведать не ведали.
Шли тогда, пустившись в путь немедля, целый день. Поздним вечером наспех перекусили, а утром рано зашагали, и лишь уже в сумереке ночном достигли Дола Заповедного – так обозначал это место Иона. Благо хоть месяц был на небе, помогал идти.
– А кто назвал поселение ваше тайное Долом Заповедным? – спросил, улучив минуту, Ворон Иону на кратком роздыхе.
– Старшой наш. Он его и основал. Лет десять тому назад пришел он сюда. На первых порах трое их было. Начали жилье строить, лес корчевать, жечь. Землю пахали, семена, что принесли с собой, в землю бросали, жито растили. Семян-то немного было, а потом, что год, то больше. И люди понемногу прибивались – все мужичье работящее, холопы беглые. Он, старшой, ту избу приказал потом поставить. Теперь к себе с разбором принимаем. Смотрим, что за люди, зачем идут, что ищут.
– И на нас смотрели? – усмехнулся Ворон.
– А как же? – заглянул Иона ему в глаза. – А как же? Мы около вас с неделю, наверно, кружили. Потом двоих, что со мной еще были, я в Дол отослал, старшему сказать: идут, мол, люди спокойные и мыслят, кажется, добро. А потом уж я в избу к вам открыто пришел.
– А откуда ж ты, Иона, про нас вызнал, что люди мы спокойные и мыслим добро?
Иона усмехнулся:
– Человек виден, какой он есть. Не раз мои молодцы на деревья забирались, на привал ваш издали глядели. И понимали, и мне все сказывали: и вызнали мы – идут человеки с береженьем, и тихо, и промеж себя с миром. Да еще Серафима с вами. Это тоже не просто. Лихие люди с женским полом не ладят, с собой не водят.
– А кто ж он, старший ваш, откуда?
– Мы его просто зовем – старшой и старшой. Имя же его христианское – один господь батюшка знает. То дело не наше. А прозвище его Ждан Медведь. Он – сами видели – телом здоров, и духом крепок, и справедлив, и разумен, хоть строг. На веку на своем видел много и много же испытал, по разным краям ходил, и в ратях бился, и иноком был, и все то покинул.
Так говорил тогда в пути Иона, а придя на место, в одну избу сразу их привел. Вступили они в тот вечер вслед за Ионой все пятеро в чистую горницу о двух оконцах, за которыми стояла уже тьма. Сбоку здесь был стол, покрытый грубого тканья чистой скатертью с красной каймой; на столе – поставец, на поставце – толстая свеча воску ярого. Тут и увидели они – сидит супротив двери, упираясь широкими ладонями в лавку, могучего сложения человек – тот самый, Ждан Медведь, в бороде черной с проседью – глядит молча. В лицо каждому смотрел долго, впивался пристально. Потом глаза его карие помягчели, он кивнул. Сказал тихо, густым голосом:
– В добрый час вступайте в Дол наш Заповедный, если с миром пришли, с желанием труда.
Потом старец сказал Ионе, чтоб устроил их на отдых ночной. Серафиме же приказал остаться. Повернулся слегка к той, что сидела тут же на лавке, чуть от него поодаль:
– Жена эта пришлая, – произнес ласково, – пусть с тобой пока, Лебедушка, побудет.
При этих словах Лебедушка, как назвал ее старец, распахнула глаза свои, взглянула на людей у двери. Красоты она была, – заметил Ворон, – тихой и кроткой.
– Кто такая? – быстро, шепотом спросил у Ионы Ворон, когда вышли из горницы.
– Дочь его, – отвечал тот. – Любимая и верная его помощница. Светелка у нее есть своя в доме, там пока и будет с ней Серафима.
Сидя теперь со своими спутниками у костра, возле землянки, где они жили вот уже несколько дней, Ворон перебирал все в памяти, думал.
– Ну, что? – сказал. – Пришли в райское место?
– Ну, и пришли, – отвечал Степан. – Мне другого не надо. Ходил я тут, смотрел. Избы крепкие. Народ здоровый. Пища сытная. Работай – и тебе то же будет. Ты ж, Ворон, знаешь – не вор я, не разбойник. Если б за спиной у меня добро было, стал бы я что другое искать? Не стал бы. Кузнец я, и руки у меня к молоту, к огню, к железу привычны. А в степь я с тобой ушел оттого, что край настал. Оттого, что царь Иван посады наши разорил, податями задушил. И осталось: либо помирай, либо беги. Господи, кузню свою вспомнишь – и сердце заноет, так бы и полетел туда. Да некуда. Давно за долги кузня продана. А я в ней и лемехи, и сошники, и косы ковал, и коробьи, обитые полосами железными, делал же. А из уклада иной раз такой кинжал сготовлю – загляденье. Не хуже чем тульские.
– Уклад – это что? – спросил Эмет.
– Уклад? – оживился Степан. – Уклад это, милый, самое доброе железо. Железо простое – оно мягкое, податливое. Уклад – твердый, сильный. Уклад такой бывает, что и железо режет. Из него ножи делают, кинжалы, мечи, сабли. Уклад – он острый, гибкий. И гнется, да не ломается.
– Понял, – сказал Эмет. – Это булат. Самый твердый: кисею на лету сечет и железный прут разрубает.
– Верно, Эмет, – кивнул Степан. – Уклад – это булат. Да только дело мое прахом пошло. Посады разорены, а деревни – того больше. Теперь – ни лемеха, ни землицы паханой, все царь-кровоядец выел, на войну свою спустил, да на опричнину, будь она проклята. И стало теперь пусто.
– Теперь, теперь! – ощерился Томила. – Разорил, задушил! И все царь Иван? Да царь-то Иван, может, того и не знает, не ведает. А все бояре его ближние. На какого не взглянешь – по бороде апостол, а по зубам собака. Потому как те бояре не богу служат, не государю, а бесу. Верно говорят, скоро уж последнему черту быть, княжата-де московские путь ему усердно стелют, простому народу на все лады зло готовят. Из-за того своего злодейства царский город Москву, тому пять лет назад, лихим волшебством боярские шпыни поджигали. Все знают: сорока по граду летала, и где дом хвостом зацепит, тот и горит. И ту сороку бояре пускали.
– И ты ту сороку видел? – спросил Ворон.
– Я не видел, – хмуро ответил Томила. – А посадский человек Некрас Рукавов видел, и дьякон же наш посадский видел, и то все знают.
– Сорока! – усмехнулся Степан. – Сороку, может, бояре и напускали. А поборы да подати на людей царь напускает. У бояр хоть руки и долгие, а до всего не досягнут. Тут царская рука лихо делала. Под Новгородом родич мой, в деревне Федосеихе, Еря Белкин, от царевых податей сбежал, и жребий его пахотный остался пуст, и на дворе же его прежнем две хоромины стоят, брошены. А государевы опричники и Новгород и все в округе запустошили. И в той же деревне Федосеихе у крестьян Осокина Саввы, Устина Бараша, Молокина Епифания и у других все пограбили, скотину посекли, а крестьяны умерли и дети их сбежали безвестно.
Томила что-то хотел сказать, уж и рот раскрыл, да Степан на него рукой махнул:
– Помолчи! Сам видел! До смеха до слезного да рыдательного уж дошло! Помещики государевы, грех сказать, и то помирают, в бродяги пошли. В тех же, в Новгородских пятинах, у помещика Федора Денисьева Титова поместье пусто, сам же Федор Титов постригся в чернецы. Брат Федора Иван обнищал, кормится милостыней. Помещик Алексей, Ильин сын, да Степан, Васильев сын – Измайловы – сбежали в московские города – в Переславль, в Серпухов. Помещики Данил и Семен Туковы, дети Образцовы, сошли кормиться меж дворы – подаянием. У помещицы Ольги Селяниновой, жены Нарбенкова, поместье пусто. Сама помещица пошла прочь и дочери ее волочатся еле живы. Сорок поместьев, и все пусты. А помещики бродят кое-как, драные, и все помирают голодною и озябают студеною смертью. Вот теперь и скажи – бояре ли их до того довели, или сам царь-государь ободрал. И я тебе скажу: царь!
Ворон вздохнул:
– А что ж! Пожалуй, что Степан верно говорит.
Степан же остановиться уже не мог:
– И с той нищеты и скудости, – продолжал он, – начал я мыслить: куда ж податься? Услыхал сначала про святой град Китеж, что будто в лесах, в Светлояре озером укрытый, пребывает. Там душегубства нет, и податей нет, и только свет тихий, да пение молитвенное. И душе спасенье, и плоти человеческой.
– Нет, ты скажи, отчего все? – встрял все-таки в Степанову речь Томила. – Отчего?
Степан пожал плечами:
– Отчего? А кто его знает. Зло размножилось, и все смешалось. Что раньше добром было – в зло обратилось.
– От того все смешалось, что господь-батюшка добро перемерить собрался, – тихо сказал Ворон. – Так чернец один устюжский говорил.
– То есть как это – перемерить? – испугался Степан.
– А так. Как хозяин по весне зерно, жито перемеряет – в одну меру ссыпает, в другую высыпает, смекает, много ль у него того зерна, да еще сор на сторону отбрасывает. Так и господь добро вздумал перемерить, перепробовать – что добро, а что нет.
– А что ж? Неужто добро уж на свете поизносилось? – захихикал Томила.
– Что-то это не годится. – медленно сказал Степан. – Раз поизносилось – это уже не добро, как его не перемеряй. От того только смута да свара пойдет.
– Так она уже идет, смута, свара да шатость, – ухмыльнулся Томила. – Вот ты про светлый, про тихий град Китеж мыслил, а народушко об топоре мыслит, да об кистене, да о большой дороге. Тоже добро люди ищут, сами устанавливают.
– Топором да кистенем? – спросил Ворон.
– А что! Топор – остер. Порядок враз наведет и добро из тьмы вытянет. И перемерять не надо.
– Крови от него много.
– Да уж это верно. Без нее никуда.
– Вот ты, Ворон, у реки нам про князя Юрия давеча рассказывал, – быстро вдруг заговорил Томила, – и про то, что из мира он ушел, а потом в Кудеяровом облике явился. Рассказывал ведь?
– Ну, рассказывал. И что из того?
– Я по-другому слышал. Князь Юрий и Кудеяр – люди разные, хоть их пути и пересекались. Князь Юрий после той ночной встречи с царем Иваном из-под Казани бежал. В Москву бежал, и все с себя ратное обличье свое снял, и в рубище облекся, и среди нищей братии затерялся. Как все они – стал он наг, стал худ и бос. А ликом так переменился, что никто в нем прежнего князя Юрия признать уже не мог. Исчез Юрий, а на свете остался Юрка юродивый. Волочился Юрка по московским улицам, пропитание себе милостыней у добрых людей искал. Взор имел беспощадный, а язык острый и язвительный. Не раз случалось ему царя Ивана принародно обличать. И на что уж царь Иван жесток был и на распаленье ярости быстр, а Юрки юродивого слова терпел, не зная, что под личиной нищенской князь Юрий скрывается. Был еще в те поры на Москве среди ближних к царю людей боярин Шестун. И приключилась с ним беда. В давние годы, когда царица Соломония была услана из Москвы и слух до царя Василия дошел, что прежняя его жена Соломония тяжела ребенком, послал он матушку боярина Шестуна царицу Соломонию смотреть, правду выведать. Уж что там боярыня-матушка высматривала, да что выпытывала – бог ее знает. Но все высмотрела и все выведала. Царица бывшая Соломония бояр тугодумных вокруг пальца обвести сумела, а от женского взгляда укрыться не смогла. Все узнала боярыня-матушка, а может, и сама Соломония ей тайно открылась.
Вернулась боярыня-матушка на Москву и никому тайны не выдала, а царю Василию сказала: умер-де младенец, и дело с концом. Однако до конца промолчать она все же не смогла, доверила потом тайну эту сыну своему боярину Шестуну.
Томила умолк. Костер угасал, языки пламени становились все короче; прогоревшие поленья рассыпались красными угольями. От земли тянуло сыростью, прохладой. А луна набирала силу, – ползла по небу все вверх, становилась все ярче.
– Чего замолчал? – спросил Томилу Степан.
– Так… Подумалось вдруг: не проговорилась бы боярыня-матушка, не сказала бы сыну любезному про тайное это дело – и уберегла бы сына своего любезного от беды…
– Женщине доверять нельзя, – сказал Эмет. – Женщина тайну хранить не может.
– Да и сын ее ведь тоже не смог, – с коротким сдавленным смешком сказал Томила. – Жене своей любимой, молодой боярыне Алене, все рассказал, а боярыня Алена и проговорись как-то: есть-де на белом свете законный царь наш, государь, князь Юрий, сын царицы Соломонии…
– Ну? – воскликнул Степан.
– Вот тебе и «ну»! И про те ее дерзкие, боярыни Алены, слова царь узнал… И приказал он молодую боярыню жизни лишить. Но и то еще мало царю Ивану показалось. И призвал он боярина Шестуна, и приказал ему – вместе с ним, с царем, и с опричниками царскими, в виду бездыханного тела жены его молодой – пировать, и заморские вина пить.
– Ай, да царь Иван!
– То-то и оно… И сидел боярин Шестун за столом и слезы лил, и запивал их вином греческим, и клятву страшную давал…
– Что за клятву?
– Про ту клятву потом узнали, когда московский боярин Шестун к крымскому хану бежал, и магометанскую веру принял, и новым именем нарекся – стал Кудеяром.
– Это где же ты слышал? – хмуро спросил Ворон.
– Где-нигде, а слышал, – коротко бросил в ответ Томила. – И лучшим воеводой Кудеяр у того хана стал. И водил полки крымские на Русь, города да села жег, русских людей в полон брал, в рабство уводил. И даже до Москвы раз дошел. Царь Иван про напасть такую уведал, из столицы заранее – с двором, с казной – в северные города бежал. А Кудеяр Москву взял, огню ее предал, да тут ему и смерть пришла…
– Отчего же?
– Едет раз Кудеяр по московской горящей улице, на пожар, на разорение глядит, злобно усмехается. А навстречу ему нищий юродивый, в ветхой рубахе, в ветхих портах – руки крестом раскинув, – бредет.
– Стой, – кричит, – стой, Кудеяр! И не вздумай притворяться, что ты по-русски не разумеешь. Знаю, что ты русский, хоть чужеземное на тебе обличье и имя ты свое изменил и веру. Все равно сердце у тебя русское! Отвечай, зачем на Русь войска водишь, грабишь, жжешь, людей губишь? Во имя чье?
Остановил Кудеяр коня, на нищего юродивого смотрит. Посмотрел, помолчал и говорит:
– Во имя истинного русского царя, во имя князя Юрия, что в безвестности скрывается, потому что царь Иван ему путь к престолу заградил!
– Лжешь! – закричал юродивый страшным голосом. – А если и так, то смотри: я – князь Юрий!
– Ты?
– Я! И чтоб ты знал, что я князь Юрий и есть, я тебе скажу то, что моя мать, царица Соломония, говорила твоей матери. Она сказала: сильный всего сильнее – один. То же она и мне перед смертью сказала и всю мою жизнь помнить велела: сильный всего сильнее – один!
Страшно изменилось тут лицо Кудеяра, дыхание пресеклось. Вспомнил он, что его матушка-боярыня те слова царицы Соломонии сказывала.
Всмотрелся он в юродивого и говорит:
– Что же ты, князь Юрий, в рубище нищенском по пыли и грязи влачишься, вместо того, чтобы в силе и славе на престол отеческий воссесть? Благо, супостата твоего, царя Ивана, сейчас на Москве нет! Да и я тебе помогу…
– Безумен ты, безумен, Кудеяр! Мало того, что кровью и огнем русскую землю заливаешь, – ты еще и смуту возжечь хочешь! Чтоб восстал брат на брата и чтоб один царь у другого престол рвал? А я, знай, всю жизнь этого берегся, и во мрак ушел, и в пыли влачусь, лишь бы не восстала на Руси усобица и не стали раздирать ее на части. И не нужна мне твоя помощь. Уходи!
Кудеяр молчал.
– Ну? – продолжал юродивый. – Ты теперь видишь, что слова твои были лживы, Кудеяр. Что еще скажешь? Почему Русь кровавишь? Молчишь? Так я тебе скажу, потому что я все про тебя знаю. Жену свою, царем Иваном убиенную, забыть не можешь. За нее и мстишь. Но месть твоя давно уже всю меру переполнила. И проклинают тебя за твои злодейства сироты и вдовы, живые и мертвые проклинают… И я тебя проклинаю! – Поднял юродивый посох, подошел к Кудеяру да и ткнул его в грудь. А Кудеяр покачнулся в седле и пал с коня на землю – мертвый.
– Вот что я слышал, – закончил Томила. – Князь Юрий после того из Москвы ушел, в Белогостицком монастыре стал схимником под именем Ивана Зюкина. В лесу, подле монастыря келью себе выстроил и в той келье долго жил и с миром в той же келье умер. А тот, кого Кудеяром звали, посреди московского пожарища богу душу отдал. Татары, воины, тут же его подхватили, с собой в степь увезли и в степи похоронили. На том и конец…
– Нет, – сказал вдруг Эмет. – Не так дело было. Кудеяр жив. На Москве он не умер, в степь не увезен и там не схоронен. Он далеко, в леса, на восход солнца ушел.
– А ты откуда знаешь? – враз крикнули Томила и Степан. А Ворон покачал головой, недоверчиво усмехнулся.
– Так у нас говорят, – спокойно ответил Эмет. – Говорят, ушел Кудеяр за горы, в чащи лесные, золото унес. Какой московский боярин в Крым бежал, какое имя принял, кем у хана стал – этого я ничего не знаю. А настоящий Кудеяр, из степей уйдя, долго, говорят, у вас на русской земле ходил. И на войне был, и в монастырях ваших его видели, и в лесах потом с шайкой джигитов много разбойничал. И все потом оставил. Молодцов своих распустил, каждого одарил, а главную казну с собой взял и скрылся на востоке в глухих местах. Никто его больше не видел. Когда время наступит, опять к людям выйдет. Говорят, деву с собой он юную взял.








