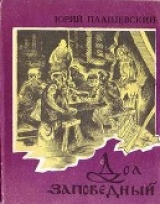
Текст книги "Дол Заповедный"
Автор книги: Юрий Плашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
III. Все еще беседа ночью ясной
Месяц взошел высоко, и вся окрестность в месячном свете лежала, будто молоком облитая. Тихо было, только ветерок перебегал, и из далекого простора, из деревни, верно, какой слышен был изредка собачий лай.
– Да, – задумчиво сказал Ворон, – За Уралом. Оно конечно. Все может быть. Да Урал велик.
– В прошлом годе, после Троицы, – заговорил Пила, – косили мы на лугах у Оки сено. А луга хороши, пойменные. И вечер уж наступил. А по Оке, мимо лугов, плоты гнали. И тут, которые плотовщики на ночь возьми да к берегу и пристань. Костер запалили, кулеш варить стали. Хорошо. Тут, смотрим, сошел с плота на берег человек, ростом низмян, волосом черен, речь у него остра, скоровата. К мужикам нашим, к покосникам, подошел, оглядел их, да и говорит вдруг: совсем вы опустошились, робели, не мужики стали, а телята. А у нас-де скоро повсюду сделается по-своему, иной-де боярин и места не найдет. Ужо-де перемотаем. И хоть они спеси той и набрали, да нам-де они – тьфу!
Мужики, однако, испужались, ты-де, говорят, против государя и царя поносных речей подымать не смей, а мы слушать не станем, своя голова дороже.
И тот человек мужиков стал лаять и говорить, ума-де у вас не стало никакова, и я, говорит, не супротив царя, а супротив бояр слово молвил. А и супротив царя, так что? Раньше цари были золоты, сосуды деревянны, теперь стали сосуды золоты, цари деревянны. Сейчас на Москве царь – и какой он царь? Он-де не царь – мироедец. Выел опришниной да в Ливонии войной свое царство все, а если-де долго не изведется, он-де и мирской корень выест. Вот уж и осенний Юрьев день заповедал, запретил крестьянам выход, чтоб кто, если хочет, от одного вотчинника к другому перебирался. Теперь нет! Теперь где тебя закабалили, там и живи, хоть помещик зверь… Это разве царь! Не царь он, помещичий холоп, об них об одних радеет, а крестьяны для него – постылое место. Оттого все и разбегаются врозь…
Мужики, покосцы, послушали этакое, да тогда видят, человек смел, правду говорит, вина ему поднесли, хлеба краюху. Ты, говорят, учен, мир видел, скажи, что будет.
А он вино пил, хлеб ел, мужикам кланялся. Я, говорит, грешить не буду, не ученей вас. А видел – да. И сам был. За Уралом есть дол. А дол сей заповедный. И которые в дебри бежать будут, те и спасутся.
– Спасутся! – сказал Томила. – Знать бы – где? Да и в каких дебрях? Везде тебя десница царская достягнет.
– И дол тот укрытый, – не слушая, говорил свое Пила, – и кто там окажется, укрыт же будет. За Камой-рекой, на тропе Батыевой. Найди тропу и иди. Она тебя и выведет. Сквозь лес дремучий. Встренет тебя на тропе медведь на задних лапах. Рыкать будет и пасть открывать. Не бойся, иди: благослови, скажи, батюшка. И вместо медведя станет старец. Как благословит он тебя, ступай дальше. И явится в конце тропы лебедь белая и речка быстрая. И вскричит она, лебедь, криком трубным и крылами начнет плескать и водой на тебя из речки брызгать. И стань на колени и кланяйся. И явится вместо лебеди жена прелестная и ласковая. И поведет тебя в дол заповедный и там отдохнешь.
– Прелестная и ласковая, – усмехнулся Томила. – Сыскать бы такую. Да где?
– И сказавши нам все это, пропал человек, и плоты уплыли, и туман над лугами встал. Глядим: никого, ничего…
За спиной Ворона послышался шорох. Пила встрепенулся, привстал. Увидел: вышла из шалаша женщина. По плечам, по груди ее две косы, будто две черные змеи вниз струятся, текут. Месячный свет по ней скользнул – глаза блеснули, губы полуоткрыты, улыбаются.
– Что это ты мужика, Томила, слушаешь? – спросила. – Мужик тебе нарасскажет…
Опустилась на траву, обвила Ворона белыми руками, прильнула.
– А тебе что за польза с того недоумка и со слов его? – спросила. – Такие, как он, в лесу пням молятся, странничьи побасенки да сказки слушают, тем и живы. Кому и серый филин, а им все, поди, ясный соловей.
– Ворон, – затряс бороденкой Пила, – прикажи этой птахе ночной замолкнуть. Нечего ей меня срамить. Их у тебя – что? – много там разных в шалаше спрятано?
– Молчи, пес! – женщина вскочила. – Отстегаю тебя прутом. Чем чаровать вздумал! Медведями, лебедями, да гуслями! А и врешь все! Ничего того и в помине нет! Ни дола, ни тропы, ни леса, ни реки!
– Есть! – вскричал Пила. – Есть! Странник, плотовщик, старец низмян, волосом черен, все истину говорил…
– Низмян, да черен! – издевалась женщина. – Или высок, да бел? Из тумана вышел, в туман вошел, да и сам – туман! Если б туманом он не был, так знал бы, что на Урале, на каменном хребте, на горах, на долах его, на всех лесах, на реках – Строгановы купцы хозяйничают, городки-крепости ладят, строят. И где тому долу с птицей-лебедью примоститься? Негде! Да еще разные беглые, проходящие люди ходют, что найдут – жгут, кого встретят – режут! Ну? Где?
– Есть дол! Потому и есть, что – тайна! – голос у мужика со злости охрип. – Есть! Кто хочет – увидит, найдет! Кто хочет! А не захочет – и не увидит!
Ворон слушал, и лицо его было смутно, как давеча, когда Пила и он быстро шли через поле по меже, и восходивший над черным лесом молодой, яркий месяц бросал на них первый свой свет.
– Горе вам, богатые, – вполголоса, быстро, будто отвечая кому-то, вдруг сказал он. – Горе вам, ибо получили вы уже утешение свое. И нечего ждать вам ни в сей жизни, ни в будущей.
От непонятных этих и не вязавшихся ни с чем слов стало жутко. Мужик передернул плечами.
– Ась? – переспросил он. – Ты чего говоришь, Ворон? Кому?
– Никому, – Ворон закрыл глаза, откинулся, взял белую руку женщины, прижался к ней щекой. – Никому.
– Не слушай его, Ефрем, не слушай, Ворон, – она гладила его по каштановым волосам, ласкала. – Не слушай. Нет никакого дола. А и есть, так чужой. Не наш. Постылый. Или Строгановых-купцов, или царских воевод. А нам уходить. К кзыл-башам уйдем. Вместе будем.
Мужик крякнул:
– Да. Такая полюбит, все отдашь. Все… Все по ее будет!
Ворон улыбнулся хмуро.
– Ты слышишь, что он говорит? Смеется. А ты? К кзыл-башам? Это за море, значит? В Персию? А хороша, наверно, Персия. Зимы нет. Все лето и лето. И все мне другое станет и другим явится. А этого уж ничего не будет. И обратится все это в сон. И во сне мне все это нахлынет. И Пила, и поляна, и свет сей желтый месячный. И ты, лада. И возрыдаю. Во сне возрыдаю, другим стану, а меня этого и в помине не будет. Вода соленая, пенная ляжет, оденет холодом тонким…
– Ворон! – вскрикнула женщина, – не рви мне душу! Не смей!
– И Северьян же в туманном облаке явится, головой кивать станет. Хорошо тебе, скажет, Ворон, в кзыл-башах.
– Не скажет! – опять вскрикнула женщина, и в голосе ее был страх. – Не скажет, Ворон, не скажет!
– Почему! – он приподнялся, взглянул на нее остро. – Почему? Скажи!
– Скажу! Расстриженного попа, что в Крыму, в Кафе на базаре стельками да тесьмой плетеной торговал, помнишь?
– Ларивона? Трехпалого, на верхней губе бородавка, рыжего?
– Да!
– Ну, так что, – помню!
– Так я его на Москве у церкви видала, у Спаса на Якиманке… милостыню просил.
– Ну, ну – и что? Ну, видела! Да как он на Москве оказался?
– А как и мы! Так же и утек!
– Хорошо, лада, хорошо, говори дальше… Что ж Ларивон тебе сказывал? Ведь сказывал же? Да?
– Сказывал, что бросили Северьяна в море рыбам на съеденье, оттого и нет более его на свете.
– За что?
– Татарина он убил. Ночью из ямы выбрался, бежать хотел. Да на хозяина и напоролся. Во тьме. Не туда сунулся. Тот заверещал, а Северьян его душить. Да и придушил-таки. Но шум сделался вокруг, переполох. И – поплыл Северьян с камнем на шее на дно морское.
Женщина замолчала. Вздохнула тяжело.
– Добро, лада, добро, Серафима, – Ворон опустил голову. – Понял я тебя. Вон ты, когда, значит, про то узнала. А не сказала ж. А не сказала оттого, что боялась, как бы в Москве я не осел. Да?
– Да, Ворон, да! Тебя ж мысль о Северьяне на простор гнала в степь. Я думала: пусть гонит. Не скажу.
– Добро. Пусть гонит. А теперь ничего уж у нас не осталось, видно, на все четыре стороны путь. Только назад ходу нет.
– И ты на меня, Ворон, не серчай, что смолчала я.
– Не буду, лада. Ты мою душу знаешь.
– Кошку что больше гладишь, то больше она хвост дерет, – сказал вдруг мужик со злобой.
– Не так ты, Пила, слово молвил, – ласково взглянул на него Ворон, – сказал бы лучше: не то беда, что рано родила, а то худо, что поздно обвенчалась.
Томила засмеялся:
– И то верно! Не то худо, а это…
– Подожди зубы скалить, – оборвал его Пила. – Пусть-ка она скажет сейчас – пойдет она за Вороном в дол заповедный или не пойдет? Ну?
– Пойду! – закричала женщина. – Пойду!
IV. Беседа при реке
Река приплескивала – то тихо, еле слышно, с протяжным шуршанием, то резко, с ударом и откатом, когда подходила волна. Над речным крутым обрывом темнел в светлой звездной ночи долгий, высокий шалаш, и когда веял теплый ветерок, по шалашу пробегал шорох подсохших листьев и веток. У входа горел костер, и вокруг сидели люди, смотрели на большой закипавший казан с густой ухой.
Послышались шаги. Подошла женщина. С чистого, расстеленного на примятой траве плата взяла черпак, помешала уху, попробовала, сказала:
– Готова. Кому во что? Ложек у меня довольно, а мисок только на своих, – она кивнула на плат, где лежала вся ее нехитрая деревянная утварь.
Это была Серафима, Воронова лада. Лицо ее, облитое светом костра, улыбалось. Блестящими глазами она обвела сидевших возле огня. Тут были и Ворон, и друзья его: Степан и Томила, и кроме – еще сидели двое – беглый крестьянский бобыль, из землепашцев, и черноглазый скуластый человек с заволжской стороны. Оба пристали под вечер, когда Ворон со своими в сумерках пробирался ельником к Волге.
Набрели на шалаш, что поставили такие же, наверно, безместные шатуны. Ворон решил остановиться здесь на ночь. Теперь сидели все молчаливые, усталые, поглядывая на бурлившее густое варево, куда пошла почти вся пойманная давеча неводом рыба.
– А у меня есть, – отозвался на слова Серафимы беглый бобыль, – есть, голубушка! – он полез в тощий мешок, что лежал у него рядом, достал две деревянные миски. – И для него будет, – он кивнул на черноглазого, протянул миски улыбающейся женщине.
Она стала оделять каждого, разливая черпаком поспевшую горячую уху с белыми кусками рыбы. И каждый принимал миску из рук Серафимы с поклоном, и ели все досыта, дуя на горячий навар, то отдыхая, то принимаясь хлебать снова.
Тут бобыль и начал рассказывать, когда утолили уж все первый голод и ели медленнее, ленивее.
– Давеча весной, на заре на вечерней, – заговорил он, пяля глаза в огонь, – пустил меня к себе сивый дед в деревеньке малой, лесной. Жбан молока на стол поставил и краюшку хлеба положил, говорит: ешь. Я ему поклонился, сижу ем, а сам в окошко поглядываю. А там – заря красная переливается, тлеет. Вдруг дверь стукнула. Гляжу – женщина вошла, высокая да статная. Лик белым, щеки румяные, брови – дуги черные. И волосы же черные, с отливом. Глянула на меня, а глаза – уголья. У меня и сердце захолонуло, страх обнял. А сивый дед, ирод, носом покрутил, нахмурился, да и вышел молча вон из горницы. Я было за ним, а женщина рукой меня к лавке придавила: сиди, говорит. На меня смотри! – говорит. Я и ну, на нее смотреть, – диво-дивное! – в глазах у нее, гляжу, огни перебегают. По спине у меня холод ручьем бежит, а очей от нее отвести – не могу. Смотрел-смотрел, да и заныл. С лавки на пол соскочил. Смотрю, что такое? Батюшки, а у меня все шерстью пошло. Ни рук, ни ног – и лапы, и морда собачьи. А сзади хвост. А сам все вою и вою. Со страха. Меня эта чертовка-колотовка кобелем обернула. Хорошо. А в руке у нее вижу – ухват. И начала эта красавица меня ухватом бить, да возить. Била, колотила, ажно устала, села на лавку отдохнуть. Охти мне! Чудеса в решете: дыр много, а выскочить некуда. Да, на мое счастье, дверь приотворилась – я в ту щель – шмыг, да через сени – во двор. А там, слава тебе господи, подворотня еще не ставлена была, я пролез – и на улицу. А на улице еще того хуже: набежали собаки, начали меня, бедного, нещадно рвать – чую, последний час приходит!..
Бобыль замолчал.
– А что ж потом? – спросил Томила.
– Ночью уже только оклемался. Как очнулся – смотрю – лежу при дороге в канаве. И все при мне – мое. Ни шерсти, ни лап, ни хвоста. Как есть, природное человеческое – руки, ноги и все прочее. Темень ночная, а на небе – месяц красный, в глаза мне уставился…
Томила засмеялся:
– А складно ты, бобыль, врешь. Хоть бы знать – чего ради?
Тот осклабился:
– Ну, как же! Потешить-то вас надо ж… Уха больно навариста… И сами вы того. Люди будто хорошие…
– За потеху спасибо, хоть и невелика, – вмешался Ворон. – Только много врать не приучайся. А то скорчишь рожу – да так при ней и останешься. Скажи лучше правду – чего бродишь, да куда бредешь?
– Чего, чего! Будто не знаешь? – бобыль осердился. – Не знаешь, с чего деревни запустели? От прежних поместников они, бедные, запустели, да от тиунов, от доводчиков и обыскных грамот. И от татей, от разбойников тож. А еще пуще – от государевых податей да от опричного правежу. А коли не знаешь – гляди: я из такой же вот деревни. Убег – и бреду разно…
– Это мы понимаем, – тяжело сказал Ворон. – А куда?
– Да как и вы…
– У нас дело особое.
– Да оно, милый, у всякого – такое. Особое. Взять к примеру меня. Бежал я со своих мест, потому что – невмоготу. И про то – довольно. А теперь же ты спрашиваешь: куда? На то я тебе скажу прямо: брожу, рай ищу.
Ворон мрачно усмехнулся. Томила сказал:
– Блаженный! Его ж на небе, рай, искать надо. Не здесь.
Бобыль засмеялся:
– А я рай здесь где-нибудь отыскать хочу.
– Где это – «здесь»? – воскликнул Степан. – Вон там, за речкой?
– Ну, не за речкой, а все ж где-нибудь здесь, в окружности.
– «В окружности»! – передразнил Томила. – Спятил, вовсе спятил!
– Подожди, – тихо сказал Ворон. Он пристально посмотрел на бобыля. – Ты что, и вправду так думаешь?
– А чего ж нет? Да не я один. Прошлым летом сидел я, примерно, как с вами же, на Цне-реке. Мимо монах шел. Я ему поклонился. Он говорит: ты чего? Я ему, конечно, отвечаю, мол, я сам по себе. Он говорит: ну и дурак. Коли ярмо, говорит, снял, в бега ушел, не броди несмысленно, но рай природный, на земле тайной ищи. Я же, как вы, монаху на то отвечаю, что рай-де на небесах. Он в другой раз меня дураком обозвал и велел слушать.
И сказывал мне, что он у тверского епископа Федора служкой был и новгородского архиепископа Василия Калики послание читал. И в том послании прописано, что есть, мол, в дебрях, за горами рай божий, что глазами человеческими узреть можно и в тот рай войти и жить беспечально. Купецкие люди новгородские его же видели и там бывали.
– Сказки! – резко бросил Степан, – нет такого рая на земле.
Тут произошло неожиданное. Черноглазый с заволжской стороны, что все время сидел молча, вдруг сказал:
– Есть!
Все посмотрели на него. А Ворон спросил:
– А ты откуда знаешь?
– Слышал.
– Да ты кто? Из каких мест?
– Зовут меня Эмет. А сам я издалека. – Лицо его осталось спокойным, но прошла по нему как бы легкая тень. – Жил в степи. Степь широкая.
– А чего ж ушел?
Он усмехнулся:
– Да вы тоже ушли из своих мест. Или нет?
– Нам невмоготу стало.
– А мне, может, тоже невмоготу.
– А по-нашему говорить где научился?
– В Астрахань с караваном ходил. Там всякий народ встречается, и русских много – научился.
– А про рай на земле где слышал? Тоже в Астрахани?
Эмет покачал головой:
– Нет. Про то в степи слышал. Жил у нас когда-то мудрый человек, Асан-Кайгы. Всю жизнь он искал, где народу беспечально жить можно.
– Нашел?
– Одни говорят – нашел. Другие говорят – нет. А где только он не бывал! И в Семиречье, и на Алтае, и на Джаике, и еще во многих краях.
– Видишь! – зло ощерился Томила. – Даже Асан-Кайгы ваш – и тот не нашел, а ты говоришь: есть! Где же?
– Где-то есть, – твердо сказал Эмет. – Асан-Кайгы верил, говорил, – есть. Надо искать. Если нет – сделать надо.
Ворон взглянул на него с любопытством:
– Сделать, говоришь?
– А что ж еще остается? Уйти в дебри, в пустыню и из пустыни доброе место сделать. Жить, как аллах прикажет. И – никого не надо.
– Хо-хо! – засмеялся бобыль. – Придумал хорошо! Никого! Да вот беда – дотащатся!
– Кто?
– Слыхал, у нас царь есть?
– Слыхал.
– Ну, вот. А у вас?
– Хан.
– То-то и есть. То ли царь, то ли хан, а дотянутся. У них руки длинные.
– Нет, – Эмет упрямо покачал головой, – так уйти надо, чтоб никто не дотащился, ни царь, ни хан.
Помолчали.
– Хочешь с нами идти? – спросил Ворон.
– Хочу, – кивнул Эмет.
– Да мы сами не знаем, куда.
– Все равно. Лишь бы идти. На душе смутно. Богатые и сильные между собой воюют, бедным плохо.
– Нигде покоя нет. Бедных в полон берут, в рабы продают.
– В рабы продают? – переспросила Серафима.
– Продают, сам видел, – голос Эмета сделался глух, и говорил он будто через силу. – В прошлом году кайсацкие наши князья Байзин и Исван, и Окоун, и Кубакуш большой караван на север вели, и я с тем караваном шел. И до перевального городка дошли, и там торг был. И князья те наши – русским воеводам да купцам детей степных, от матерей, от отцов отнятых, продавали – Бидалу малого, тринадцати лет, за двенадцать рублей продали и Мурмеята, восьми лет – за девять рублей, и девочку Шундей, четырнадцати лет – за десять рублей. Ну? Еще что?
Последние слова он почти выкрикнул и так посмотрел на всех у костра, будто это они были виноваты.
– Ничего, – хмуро сказал Степан, – бывает, что и на сильных, да на богатых управу находят.
– Как?
– Был бы кистень, нож острый.
– Это и мы знаем, – согласился Эмет, – аркан, да лук тугой, да сабля, да глаз верный. Да все равно голову сложишь. Гулять недолго придется.
– Ничего, – сказал Томила, – зато душу отведешь, а повезет – и башка цела останется.
– Останется, если воля аллаха будет. Был у нас в степи Худояр-удалец. Поплакали от него князья-султаны. Спуску им не давал. С год, наверно, наводил на них страх. А потом вдруг пропал. Будто сквозь землю провалился. Никому не дался. Как пришел, так и ушел – неведом. Одни говорили – на север подался, другие говорили – на закат солнца.
– А он – везде, – медленно проговорил Ворон, отвел глаза от догоравшего костра, посмотрел странно.
– Это как, то есть – везде? – усмехнулся бобыль. – И что ты про ихнего Худояра знать можешь?
– У них он Худояр, – прищурился Ворон. – А у нас – Кудеяр. Только сказки эти опасные.
Томила встрепенулся:
– Кудеяр? Так кто ж про Кудеяра не слышал! Но все по-разному говорят, а толком никто не знает.
– Знать про то опасно. Потому никто и не знает. А кто знает – молчит. Дело царское, тайное. Тут башку еще верней потерять можно.
Серафима зябко передернула плечами:
– Так и ты молчи, чего на рожон прешь?
– Не век же молчать. Уже далеко ушли и дальше уйдем, где ж и уста отомкнуть, как не в отдалении.
– Расскажи, мил-человек, расскажи, – просительно молвил бобыль. – Пусть, что было, останется, хоть оно и царское, и тайное, пусть люди про Кудеяра правду узнают.
– Кудеяровы дела и начала далеко уходят, – помолчав, заговорил Ворон, – еще в те поры, как на Москве князем сидел Василий, батюшка нынешнего царя Ивана Васильевича. И ходила у князя Василия в супругах княгиня Соломония, из рода бояр Сабуровых, лицом прелестна и нравом хороша и покладиста, за что любил ее великий князь Василий сверх всякой меры. Вот неладно однако было, что не дал бог княгине Соломонии детушек, а великому князю наследник первее да важнее всего на свете. Приказывает великий князь супругу свою Соломонию в Суздаль-монастырь заточить, и в старицы-монахини насильно постричь, и чтоб имя у нее отныне было не Соломония, а Евфимия. И все так совершилось, хоть обливалась Соломония слезами, и пойманной птицей билась. Великий же князь Василий взял себе в жены Елену Глинскую.
Ночь густела. Степан подбросил дров, костер опять начал разгораться. Внизу плескала вода. Тихо, медленно по небу шли редкие облака. Люди смотрели в костер, слушали задумавшись.
– Вдруг до великого князя Василия на Москву весть из Суздаля-монастыря доходит: тяжела, мол, его прежняя благоверная супруга Соломония, в монашестве Евфимия, и вот-вот разродиться ей срок подойдет. Посылает тогда в Суздаль-монастырь великий князь в тревоге доверенных, надежных бояр. Но уведала о том Соломония заранее и поняла: не с добром бояре едут. Успела сына милого, что Юрием нарекли, у людей верных спрятать, а всем сказала: умер младенец. Приехали бояре, на могилку поглядели, в Москву вернулись, обо всем, что видели, доложили. Успокоился царь Василий и думать про прежнюю супругу позабыл. Но Соломония всех вокруг пальца обвела – в могилку-то куклу спеленатую положить приказала, а сына Юрия тайно князю Луговскому предоставила, и князь его на север в леса увез. Юрий там вырос.
– Жив? Жив остался? – вскричал Томила. – Так, значит, он истинный князь природный московский, царь всея Руси? Где же он?
– Не спеши, – жестко сказал Ворон. – У Елены Глинской сын Иван родился, забыл? И на престол царем Иваном Васильевичем взошел. А про князя Юрия мало кто знал. Да к тому же князь Луговской с него клятву взял, – никогда царского престола не домогаться, царю Ивану верно служить, чтоб не восстали на Руси смута и распря.
Бобыль слушал Воронов рассказ, раскрыв рот.
– А при чем же тут Кудеяр? – вдруг спросил он.
– И ты не спеши, – усмехнулся Ворон. – Кудеяр еще появится. А сначала царю Ивану да князю Юрию надо встретиться.
– И где же это им пришлось? – спросил недоверчиво Степан.
– Под Казанью. В ту пору, как царь Иван Казань-город брал, Юрий в его войске безвестным ратником службу нес и храбр оказался. Однажды в ночь послан был Юрий с донесением к князю, к воеводе Петру Федоровичу Охлебишину. Возвращается. Место глухое. Время позднее. Слышит – шум оружия, бьются между собой воины. Подъезжает, видит – русский латник супротив двух татар бой ведет и уже изнемогает. Бросился Юрий на помощь, и враз они вместе обоих татар положили. Всмотрелся, однако, и обмер: видит, что латник – это царь Иван. Глядит царь на своего избавителя, говорит: чем мне тебя наградить, скажи, и кто ты есть? А князь Юрий вплотную на коне подъехал, в лицо Ивану заглянул, шепчет недобро: чем сын Елены Глинской может наградить сына царицы Соломонии? Вмиг царь Иван понял, кто перед ним. Побелел, как мертвец, и рухнул наземь, будто бездыханный. Смотрит на него недвижимого князь Юрий дико, и соблазн в его сердце вдруг змеей шевельнулся. Место глухое. Время позднее. Рядом – мертвые татары. Пред ним – Иван, беспомощный, как спящий ребенок. Один удар – и нет царя Ивана, и все так поймут, что пал царь в бою с врагом. И открыта князю Юрию дорога к престолу.
– Ну? – прошептал Томила. – Ну? И что же?
Трудно передохнул Ворон:
– Задушил ту змею в своем сердце Юрий и ускакал прочь. Как ветер умчался, навсегда – от войска, от Казани, от людей – в леса, в дебри. В те поры и появился нежданно-негаданно Кудеяр…
Недобро усмехнулся Степан и спросил:
– Мысленное ли ты дело, Ворон, рассказываешь? Это, по-твоему, выходит, царской крови князь Юрий – Кудеяр и есть?
– Ах ты, боже мой! – всплеснула руками Серафима. – И зачем это!
– Кто уши имеет, тот пусть сам и слышит, – отвечал Ворон, – думает. Чего каждому разжевывать? Кудеяр он Кудеяр и есть. Кто ветром служит, тому, знаешь, дымом платят. Так и у Кудеяра вышло – все, что ни было, – дымом развеялось. Потешил душу с ватагой, пощипал бояр, купцов на больших дорогах, поймал казны немалыя, а потом пропал, сгинул, и не слыхать про него теперь ни в каких концах, будто и не было. Ни про него, ни про ватагу Кудеярову.
– Куда ж сгинул?
– Пойди, спроси, – усмехнулся Ворон.
– Нет, уж пусть лучше другие ходят, спрашивают, – покачал головой Томила, – а наш путь известен: дол заповедный, где руки трудятся, а душа счастлива.
– Туда, где рай земной? – блестя черными глазами, спросил Эмет.
– Туда. С нами хочешь?
– Хочу.
– А ты? – Томила повернулся к бобылю.
Тот покачал головой:
– Нет, не хочу. Я сам по себе проходящий.








