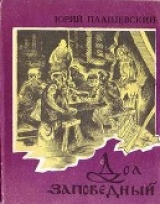
Текст книги "Дол Заповедный"
Автор книги: Юрий Плашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Какую деву?
– Красавицу деву. А кто она ему, – по-разному говорят. Кто говорит – дочь. Кто говорит – сестра.
Тут все четверо переглянулись и замолчали, стало слышно как где-то вдалеке затянули песню:
Этим соколам крылья связаны,
и пути-то им все заказаны…
VII. Беседа в горнице
В той самой горнице, куда в первый вечер привел их Иона, сидели раз утром за столом Ждан Медведь и Ворон. Женщина в заячьей душегрейке принесла, поставила медный кувшин с кипятком, заправленным лесными травами. Разлила по чашкам душистый отвар, улыбнулась и вышла. Голова ее, – заметил Ворон, – была повязана пестрым платком, черные живые глаза смотрели спокойно, ласково.
– Ну, что скажешь, Ворон? – Ждан Медведь отпил отвару, поставил чашку, взглянул. – Как вы здесь очутились: искали или бежали?
– Хочешь сказать – чего искали или от чего бежали?
– Ну.
– Бог его знает. По долгой дороге далеко вперед не видно. Сначала просто бежали. А потом решили место искать, где человеку по-доброму жить в труде можно.
– А бежали от чего?
Ворон молча пожал плечами.
– Можешь не говорить, – Ждан Медведь трудно вздохнул. – И так знаю. Бежали от того, в чем участвовать не хотели. Не могли.
– Не хотели, – кивнул Ворон. – В казнях ни живыми, ни мертвыми, в грабеже – ни богатыми, ни бедными. В опалах – ни гонителями, ни изгнанниками. На пирах – ни пирующими, ни подносчиками…
Ждан Медведь сощурился:
– Местами меняться не хотелось?
– Как это?
– А так. У царя ж, у Ивана Васильевича, милому другу, сам знаешь, век короток. Сегодня ближний, завтра дальний, сегодня могутный, а наутро опальный. Все равно, как у мужика, что лешего отвадить хочет, да орет в лесу во весь голос: «приходи вчера!» Вот у него, у царя Ивана, одно только и есть: «приходи вчера», – никто ему угодить не может.
– А нам все едино, – спокойно поглядел Ворон в глаза хозяину, – что вчера, что сегодня.
– Не сердись, – сказал Ждан Медведь, – знаю, путь у вас был трудный. Хорошо, что теперь здесь. Иона говорил, – разное у вас позади, из разных мест человеки…
Тут Ворон и спросил:
– А ты сам, хозяин, откуда человек?
– А я отовсюду человек. Я, Ворон, везде был. И сюда пришел.
– Тоже бежал? Тоже искал?
– Истомился… Истомился я, Ворон.
– От чего истомился? От душегубства?
Ждан Медведь криво усмехнулся:
– Не шевели этого. Что ты про это знать можешь?
– Не знаю.
– Веришь, Ворон, что человека иной раз на душегубство толкнуть можно насильно?
– Верю. Выпей еще своего отвару, хозяин. Выпей. И не кричи.
– В какую пору и покричать. А то молчи. И под Казанью я бился, и под Астраханью, и в монастырях был тихих, и в лесах темных. И в ватаге ходил у Ермака Тимофеевича на Волге. И ту ватагу оставил…
– А с чего?
– Шалили. А Москва, дело известное, за те шалости когда и гладит, а когда и скребет. Не разберешь. Раз ногайского языка взяли, отослали с казаком к царю. И что ты скажешь! Языку на Москве руки развязали, казаку голову отрубили на глазах у того же у ногайского татарина. Знатен ногаец оказался, не надо было его в полон брать, царя с ногайской ордой ссорить. Не в масть ударили. А попробуй ее угадай – масть. Отряс я прах и ушел. И не жалею. Ермак-то Тимофеевич, слышно, Сибирь воевать ходил…
– А ты б не хотел Сибирь воевать?
– Нет, Ворон, нет. Землица мужикам нужна, кто этого не знает. Да земли новые сохой добывать нужно, не мечом. Пришел, сел на землю – паши, сей. Ворог придет – берись за меч, отбивайся. А первый – не смей.
– Добро, Ждан Медведь. Ермака Тимофеевича, стало быть, ты знаешь. А Кудеяра видел?
– Это какого Кудеяра? С большой дороги добытчика?
– Да.
– Имя его, конечно, слышал. А свидеться не пришлось. Да про Кудеяра многое говорят. Про него и про клады его, что заговорены и закляты, и не взять их никакой силой.
– А ты откуда это знаешь? – Ворон так и впился глазами в хозяина.
– От знающих людей знаю, что сами у того клада были и ушли ни с чем.
– Вот как!
– Да. Желаешь послушать?
– Желаю.
– У края леса, где Кудеяр стан свой держал, на реке Угре, деревня есть. С той деревни три мужика раз в пасхальную ночь пошли в чащу. Стан разбойничий к тому времени давно уж запустел, никого в нем не было, одни развалины, вал, пещера каменная. Ночь темная была, но дошли. У самого вала уж оказались. Вдруг оттуда на них высокий старик с пылающей головней вылез, в белой рубахе до пят, кудлатый, встрепанный, а сам босой. Глаза дикие. Усмехнулся зло. Посмотрел на них, говорит: что ж это вы, мужики-невежи, без всякого яичка в такую ночь пожаловали? Прогнал. Но мужики упорные были. Через год, опять на пасху, опять ночью туда же отправились. С яичком. И опять дошли, и уж через вал перелезли, да у пещеры медведь оказался – цепью прикован. Великан медведь – одна башка с котел на цельную артель. Как он на задние лапы встал, как заревел – в беспамятстве мужики от страха сбежали без оглядки. Ладно. И в третий раз, через год, на светлое христово воскресенье, ночью опять пошли. Запаслись хорошо – и свяченое яичко взяли, и рогатину – на медведя. Но не тут-то было. Еще только к валу подходить стали – вихрь по лесу пошел – все загудело, кусты к земле пригнулись, а меж деревьями верховые замелькали, с посвистом. Обомлели мужики. А тут на них опять тот старик, теперь уже на коне, выскакал, а в руке – пудовый кистень, так и водит им, так и размахивает. Еле ноги унесли. И с того, третьего раза, – закаялись ходить, клад Кудеяров искать.
Посмеялся Ворон, сказал:
– Горазд ты, Ждан Медведь, были и небыли плести. Теперь-то я вижу, в самом деле ты человек отовсюду. А пришел сюда и как жил?
– Пришел по весне. Давно это было. Пять горстей ячменю в сумке принес. Поляну открытую нашел. Чеканом землю пахал. Добро, что у чекана лезвие закалено – острое, с клевцом, и обух тяжел. Спутник со мной был, и Лебедушка мне помогала. Она тогда совсем еще мала была, а все ж старалась. Посеяли ячмень. Жду. Страх меня обуял: а ну, как не выколосится полюшко мое малое лесное? Взошло, заколосилось, – да как! Зерно литое, тяжелое. Земля нетронута, хороша. Тем временем рыбу ловил, на зверей ловушки, силки ставил, земляное жилище на взгорке вырыл, сухое, теплое, жердями его внутри обшил. Осенью деревья валить начали. Зиму они, бывало, перебудут, подсохнут, весной я их запалю – и по гари, по палу опять пашем, сеем. Так и стали мы с зерном. Из беличьих шкур Лебедушке одежу теплую шил, и себе тоже – шапки, рукавицы, тулупчик меховой. Любо! Оно, конечно, тягости великие были. Трудились с зари и до зари. Да зато – ни государя, ни бояр, ни помещиков, ни тиунов, ни переписчиков, ни дьяков – одни мы полные хозяева. Потом и другие человеки беглые сюда прибиваться стали. Легче дело пошло. Соху завели, с железным оконечником, пару коней купили, привели. Теперь их у нас два десятка по дворам стоят… Лебедушка подросла, девка ладная, да теперь забота о ней душу сушит.
– А чего ж она сушит?
Ждан Медведь посмотрел на него, посмеялся невесело.
– С бабами у нас тут плохо, Ворон. Сорок дворов с лишком теперь в Долу стоят, а в половине, почитай, баб нет. Мужик, знаешь, легче с места снимается, бежит, когда он один. И в дороге один – все ничего. А когда он куда добежит, да сядет, да избу построит, да спокойно заживет – без бабы ему невмоготу. Вот и ходят здешние жители из Дола в мир – туда, где люди живут, – жен себе ищут. Иной раз далеко ходить приходится, да не по разу – по два, а то и по три раза ходят, пока не найдут девку, да уговорят, да по лесам сюда приведут. Не всякая девка соглашается, не всякую отец с матерью отпускают. Вдовы безмужние, те легче на подъем, да не везде ее, вдову молодую да пригожую, сыщешь. Вот и приходится порой уговаривать, умыканьем, чтоб убегом, тайно ото всех. А иным еще и венчание подай, с попом, с образом святым, со свечами.
– А у вас в Долу поп есть?
– Есть у нас старенький. Был он поп безместный, от прихода отставленный, мы его к себе привели, чинно по согласию. Венчает молодых, а мертвых отпевает, напутствует. Поп хороший, человечный, голос у него душевный, да очень уж стар. Половину молитв забыл, а книг божественных мало. Одно евангелие, страницы иные в нем выдраны, требник есть и псалтырь ветхая. Зато свечи у нас хороши, воск вместе с медом по дуплам лесным берем, пчелы здесь ведутся.
– А что же Лебедушка? – напомнил ему Ворон.
– Лебедушкой с малых лет привык я ее называть. А имя ей – Анна. Всюду со мной была, всегда мне помочь старалась. И сейчас тоже. Трудолюбива, разумна. Но – в возраст вошла. Замуж ей пора. А каков муж окажется? Есть здесь молодцы, смущают ее. А что поделаешь? Вот и думаешь думу – куда кривая вывезет…
– Смущают?
– Смущают! Ходят, песни поют. Запрещать ей? Боюсь. От запрета хуже будет. Пусть все открыто, просто, чтоб я знал.
– Да. От запрета – хуже. А сам-то ты как?
– Мне жаловаться – грех. Видел же: отвар душистый лесной женскими руками сготовлен, женскими руками подан – так он слаще. Это все сударушка моя Евдокия. Тому уж лет пять, как привел ее. Хороша, покладиста. И нравом тиха, да все с улыбкой. Утешенье, радость.
– А поп ваш где обитает?
– Отсюда, от меня – с полверсты по дороге – избу большую видел?
– Видел. Не изба – хоромы!
– Да. Хоромы. Андрей Выксун строил. Три года ворочал. Из леса вековые стволы возил. Все под одной крышей сделано – и жилье, и рига, и скотный двор. Два года назад дед Андрей помер. Теперь там его сын Василий хозяйничает. В избе комнат десять. В одной поп наш живет. И моленную там же устроили.
– Как же он у вас очутился?
– Говорю, без места оказался поп. От прихода его отставили, заподозрили в ереси. Будто он нестяжательские словеса говорил, что-де священникам, иереям богатство не к лицу, и жизни они должны быть простой, мирной. Правду про него говорили или нет – не знаю. А сам поп Иван – человек душевный.
– Исповедует тоже?
– Нет, Ворон. Исповедовать он, конечно, не исповедует. Боится. В нутро человеческое руками, говорит, лезть не хочу. Если кто сам по душе поговорить желает – это он может.
– По душе?
– Ну, да. Утешение если кому требуется, – Ждан Медведь прищурился. – А может, оно и тебе, Ворон, требуется?
– Не знаю. Может, и утешение. А может – разъяснение.
– Чего тебе разъяснять?
– Не знаю. Как шли сюда, задумываться я начал. Зачем идем? А дальше и того больше: зачем живем?
– Во как!
– Да. Ты вот, Ждан Медведь, знаешь, зачем живешь!
– Знаю, – быстро ответил тот, – знаю. Чтоб Лебедушке моей хорошо было и чтоб хозяюшке моей Евдокии тоже. Для того живу. Их счастье – мое счастье.
– А больше ничего?
Ждан Медведь молча отхлебнул душистого отвара.
– Молчишь? – сказал Ворон. – Молчи, молчи. Да не отмолчишься. Как один проходящий говорил: настанет час – и каждому, кто по белу свету странствует, сказать придется – тебе, телу, в земле лежать, а тебе, душе, на ответ идти.
– На ответ идти боишься?
– Не то, что боюсь. А так – скушно. От безвестности. Хоть бы знать. Потому и разъяснения взыскую. В тоске. Ты вот, Ждан Медведь, в господа веруешь?
– Хочу веровать.
– А ведь я знаю, Медведюшко, почему ты веровать хочешь.
– Ну, почему?
– Игрушкой ты в лапах у сатаны быть не хочешь. Потому тебе и хочется в господа верить. Хочется верить, что жизнь твоя, душа твоя кому-то нужны, кому-то дороги. И страшно тебе, если не нужны никому. Как пузыри на воде – лопнули и пропали.
– Может, и так. Это хорошо – если нужны.
– И еще тебе, Медведюшко, страшно вспомнить, что ты видел и слышал в жизни сей – стон человеческий и крик, и изнурение, и голод, и боль. И исполнилась той боли душа твоя, и возжаждала, и отрясла прах, и бежала в дебри. Да. Бежать-то бежала, а забыть-то не может. Вот потому тебе и смутно, и печально, и страшно.
– Славно ты, Ворон, говоришь. Прямо, как поп наш Иван. Да одно только ты пропустил.
– Чего это я пропустил?
– А то. Боль эту, и тоску человек одним только задавить может.
– Чем?
– Работой. Землю пахать. В ту землю зерно бросать, хлеб растить. Лес валить, избы строить. Жизнь устраивать, себе и другим украшать.
– А надолго ли?
– Навсегда.
– Шутить ты любишь, Медведюшко. Хотелось бы, конечно, навсегда. А на деле – покуда сюда царские доглядчики не придут. А они все ж когда-нибудь придут. Тогда вся краса эта дымом пойдет, а народушко еще дале побежит.
– Хочешь ты, значит, сказать, Ворон, что везде сатана правит. А где ж господь пребывает? И почему он врагу рода человеческого такое попущение дает?
– Не знаю.
– А есть такие, что знают.
– Скажи, Медведюшко, скажи, пожалуй меня, кто знает? Кто эту великую тайну ведает?
– Далеко отсюда жил в давние времена возле земли греческой, человек святой жизни – поп Богомил. Тот поп Богомил написал Тайную книгу. В ней все сказано. Сказано, что был в предвечные времена у господа еще один сын, старший. А Иисус – младший. А старший сын – имя ему было Сатанаил – по правую руку от отца сидел, тот же образ имел, ту же одежду носил, и в доме бога нашего правил. Но возгордился и восстал. И стал сеять в мире зло, и боль, и страдание, и ненависть. И он же, Сатанаил, соблазнил Еву и был ее первым мужем до Адама, и от него пошли по земле носители тьмы, злобы, стяжания и смерти. И все это разлилось неискоренимо. Тогда по воле отца Иисус сковал Сатанаила, отнял у него конец имени – ил – что одним ангелам прилично, и бросил Сатану в бездну. Но даже в бездне пребывая, царит Сатана в мире рассеянным злом. И ждет срока.
– Какого?
– Чтоб выйти ему из бездны и еще раз пойти войной на господа со всем своим сатанинским воинством. И будет то последняя битва тьмы и света, и свет восторжествует. А Сатана будет уничтожен. Навсегда.
– Хорошо бы – навсегда. А что ж человек?
– А человек к тому сроку должен быть готов, за Иисусом идти, в битве святой ему помогать, за добро стоять и все свои силы положить…
– Хорошо поп Богомил учил, царство ему небесное. Но ты мне, Медведюшко, лучше скажи прямо: деньги у вас тут в Долу есть?
– А на что они в Долу, деньги, сатанинское порождение, человеков пагуба? У нас тут деньгами ничего не купишь. Только трудом все добывается. Деньги, бывает, конечно, нужны, если в мир ходить приходится.
– А откуда ж они у вас берутся?
– Каждый, у кого бывают деньги, кто их с собой приносит, в общую мошну кладет. Если ж кто в мир от нас идет, чтоб нужное достать или если кто по бабу желает выйти, – берет из мошны. Сколько мужики приговорят, столько такому и дают.
– Славно это вы придумали.
– А ты, Ворон, чего беспокоишься?
– А как же? Раз вместе жить – хочется все знать. Хорошо у вас. Да не все понятно. Потому и спрашиваю.
– Ну, что еще?
– Да, вот, сейчас прямо подумалось – дурачишь ты меня, что ли, Ждан Медведь?
– Как?
– А вот, смотри. Говоришь же, – лошади у вас есть. А по иным дворам и коровы мычат, это я сам слышал. Да еще и баб из мира мужики ваши беглые сюда потом привозят. А много ли у тех же беглых в кармане денег оказывается, когда они сюда добегут? Алтын – и все. А если у кого полтина – так это хорошо! По себе знаю. У нас у всех четырех, если рубль наскребешь – так с трудом. Значит – гроши. А расходы у вас выходят большие. Откуда ж деньги?
Ждан Медведь распустил губы в улыбке:
– Во все ты, Ворон, вникаешь. Глаз у тебя востер. Да и мы тоже не блаженные. На вьючных лошадях через дебри в мир мед возим, воск, меха куньи, горностаевы, лисьи. Продаем. Хорошо за них платят. Чем дальше отвезешь, тем больше получишь. Это мы тоже в мошну кладем.
Послышались шаги. В горницу вошли Серафима и Лебедушка. Они были обе в заячьих тулупчиках, мехом внутрь, без рукавов, в долгих темных юбках, головы повязаны платочком, в руках плетеные корзинки.
Поздоровались.
– Куда собрались? – Ждан Медведь сдвинул брови. – В лес?
– Ну да, – певуче сказала Лебедушка. – По грибы.
– Смотрите. Дождя не будет?
– А нам нипочем.
Тут Ворон получше рассмотрел Лебедушку. Росту она была невысокого, но статная, ладная. За мохнатыми ресницами – серые глаза, не то испуганные, не то удивленные. Тиха, приветлива, и губы улыбаются, но что-то в ней Ворону почудилось затаенное. Какое-то ожидание? Бог весть! А так – мила, хороша. Уж на что Серафима приятна, глаз радует, а Лебедушка ей не уступит.
Они вышли. Напоследок заметил Ворон, что у дочери Ждан Медведя по спине из-под платочка длинная русая коса змеится – заплетена толсто.
Ждан Медведь запустил пальцы в бороду, спросил:
– Ну, как?
– Хороша у тебя дочка, Медведюшко, ах, хороша. Анной зовут?
– Анной, – Ждан Медведь вздохнул сокрушенно. – То-то и оно, что хороша. Да. Беда.
Вошла Евдокия, взяла кувшин, принесла еще свежего, горячего отвару.
Так они сидели, разговаривали и запивали беседу настоем душистых трав. Видел Ворон – хорошо, истово и мирно житье человечье в Долу Заповедном, но догадывался, однако, что хоть и особые у них тут заботы, – а все ж заботы…
VIII. Беседа у попа Ивана
Время шло. Приближалась зима. Закончили две избы – одну для Степана, Томилы и Эмета, другую – для Ворона с Серафимой. Теперь осталось главное – сложить печи. Недели две ходили все вчетвером вверх по ручью, к горе, где была каменная осыпь. Отбирали приглянувшиеся обломки, обтесывали, привозили в тюках на лошади, которую дал Ждан Медведь. Привезли ж, замесили и глину. Печи сложить взялся Степан.
– Кузнецы ко всяким делам способны, – сказал он. – И железо ковать, и уголь жечь, и печи класть, и все иное. Жаль, у них тут в Долу железа мало, узнали бы Степана кузнеца. Да, вот Ждан Медведь обещал в мир сходить, купить, привезти железа. У Строгановых купцов мастеровые, говорят, руду копают, домницы дуют, железо плавят. У них достать можно.
Сложили в обеих избах печи. Степану помогали все, носили камни, глину, песок, укладывали обтесанные брусы, как он укажет, промазывали глиняным месивом старательно, чтоб ни щелочки не осталось. По наклонным доскам вывел Степан вбок на крышу дымоходные трубы, скрепил их железными скобами.
Томила оглядел как-то готовые избы, покачал головой.
– Что и говорить: трудов немало. Да все они – в радость. И ни полушки, ни алтына не потрачено. А там, на Руси, на московской? К князю, к помещику находился бы в поклонах весь лоб разбил, а он с тебя за бревна лесные последнюю рубаху снял бы. Так-то… Вот и выходит рай мужицкий там, где за всякое благо ты одним трудом в ответе и всему сам хозяин.
Наконец как-то под вечер решили запалить огонь в Вороновой избе. День был сырой, холодный, падал редкий снежок. Собрались в горнице – Серафима, Ворон, Степан, Томила, Эмет. Тут же был и поп Иван, которого позвали ради такого дела.
За слюдяными окошечками густели сумерки. Ворон взял огниво и кресало, высек искру на трут, вздул огонек, зажег бересту. Поп Иван, тряся бородкой, прочитал малую молитву. Ворон поднес бересту к устью печи, где уже были горкой сложены сосновые поленья, под ними сухой мох щепки. Затрещало, задымилось. Быстро занялись смолистые дрова. В печи загудело. Все стояли вокруг, смотрели на игру огня.
– Во имя отца и сына, и святого духа, – сказал поп Иван.
– Аминь, – прошептала Серафима.
– Ну, что ж, сядем, – сказал Ворон, – в ногах правды нет.
Все расселись у стен по лавкам. Ворон устроился на толстом чурбаке возле печки – подкладывать поленья. Каменная груда печи начала нагреваться, в горнице потеплело.
– А завтра ко мне приходите, – пригласил поп Иван, – зайчатиной жареной угощу. Они вот – Эмет да Василий Выксун, у которого в доме живу, вчера на охоту в лес ходили, двух зайцев добрых, жирных русаков уложили. Мне принесли, отдали. Поклонился им за ту милость, доброту. Освежевал, выпотрошил, на холод выставил. А завтра и зажарим. Приходите.
– А запивать чем? – подначил Степан.
– Кипятком, отваром на травах, на листьях, на малине, да еще с медом лесным. Разве плохо?
– А больше ничем? – не унимался Степан.
– Больше ничем, – покачал головой поп Иван. – Знаю, иные у нас зерно квасят, брагу варят, пьют. Говорят: веселья ради. Да то неправда и грех. Хмель, знаешь, головой высок, да ногами жидок. Эту брагу пить – образ человеческий терять. Бесу в радость. Зачем?
– Ну, хорошо, – согласился Степан. – А еще чем угостишь?
– Беседой, – поп Иван погладил реденькую свою бородку. – Слаще этого ничего в свете нет, как одному от другого разумные речи слушать, чего не знал – узнавать.
– Да об чем речи те вести?
– А об чем хочешь – об мирском, о божеском.
– И мне тоже? – спросил Эмет.
– Чего?
– Приходить?
– А как же! – поп Иван ласково поглядел на Эмета. – У нас тут, милый, всяк человек хорош, если к другим добр и честен. Откуда бы ты ни вышел. Ведь божеское только тогда – божеское, если оно человеческое. В какого бы ты бога ни веровал, на какой молве его бы ни славил – а человечье свое не теряй.
– Хорошо, – кивнул Эмет.
Посидели, поговорили еще. Потом Степан, Томила, Эмет засобирались домой. Ворон и Серафима тоже поднялись гостей проводить. Вышли в сырую, влажную темноту. Снег перестал. Тучи уходили. На закате проглянуло умытое небо со звездами. Там еще догорала холодная, стылая заря. Тихо переговариваясь, медленно шли по дороге. Эмет отстал. Шагая рядом с Вороном, тихо сказал ему:
– А если человек не добр…
– Так что? – не понял Ворон.
– Я говорю, если человек не добр, его хорошим не назовешь. Если ум у него только…
– Само собой…
– Вчера на охоту ходили, Василий Выксун мне говорит: закона нет.
– Еще чего! Где же здесь закон? Ни царя, ни воевод… И слава богу.
– Нет. Он сказал, между людьми никакого закона нет. Говорит, душа самовластна, что захочет, то сделает. Можно и человека убить.
– Как это – можно? Кого?
– Кого захочет.
– Зачем?
– Если ему нужно. Кто смеет, тот владеет, – он так говорит.
– Зачем он это говорил?
– Не знаю.
– Ты, может, Эмет, не понял?
– Нет. Я хорошо понял.
Эмет ускорил шаг. Подошли к новой выстроенной избе. Попрощались. Степан, Эмет, Томила поднялись по крыльцу, вошли в избу. Поп Иван зашагал дальше. Ворон и Серафима повернули обратно, к себе. Ворон смотрел на небесный склон, где заря совсем уже почти угасла. Еле-еле еще дрожал там за черными верхушками леса размытый кровяной отсвет с прозеленью. Чуть повыше зажглась, глядела неподвижно в очи тусклая желтая звезда. Впервые за время, что были они в Заповедном Долу, коснулся Ворона неясный шелест тревоги.
– Серафимушка, – он взял жену за руку, – лада моя… Довольна ты?
– Довольна, Ворон. Грех жаловаться. В кои-то времена – свой угол, крыша над головой. Хорошо здесь. Нравится. А что дальше – поглядим.
– Поглядим…
На следующий день, дело тоже было к закату, пошли к попу Ивану, как он просил.
Жилище Василия Выксуна выходило на дорогу глухой стеной из длинных толстых, потемневших от времени бревен. Здесь уже поп Иван ждал их и повел за угол. С ним был еще человек, востроглаз – в темной окладистой бороде с рыжими подпалинами. Поднялись по крыльцу к низенькой двери, поп Иван сунул в отверстие длинный тонкий железный прут, поднял запорную щеколду, отворил.
– Входите, – сказал, – во имя Иисусово.
– Аминь, – сказал востроглазый.
Вошли. Из сеней поп Иван повел гостей в ближнюю горницу, из нее – в другую, потом в третью, дальнюю.
– Здесь я обитаю, – сказал он, остановившись. – Рядом – моленная. Там у нас образ святой Спаса нашего. Собираемся в моленной в праздники православные, а иной раз и просто по желанию – помолиться, побеседовать, душой отдохнуть, укрепиться.
Вошли в моленную. В переднем углу увидели – большой темный образ Иисусов в простом медном окладе. Чисто, опрятно, сухим листом пахнет приятно. Поклонились, крестясь. Вернулись в жилую горницу, расселись по лавкам.
Поп Иван вышел, вернулся с зажженной свечой в подсвечнике, поставил на стол, сам сел на лежанку в углу.
– Славно у меня? – оглядел гостей.
– Славно, – согласился Степан. – А вот ты, отец Иван, сказал, в праздники православные собираетесь помолиться, побеседовать. А откуда же вы знаете, какой когда праздник? Я уж и забыл даже, какой когда день бывает, какое число.
– Это, Степан, плохо. Это все равно жить, как медведи в лесу живут. Человек время знать должен. Я, когда сюда, в Дол этот Заповедный, шел, – доску с собой нес. На доске год написал и на каждый день черту резал. День прошел – черта. Еще день – еще черта. И число. И так по сей день. Счет веду дням, годам, времени. Если кто придет, спросит – я ему говорю.
– Ну, что ж, отец Иван, скажи тогда, какой сейчас год и что за дни идут?
– От сотворения мира сейчас семь тысяч, девять десятков и один год. И миновал недавно у нас день рождества девы Марии. Это значит, осень на дворе, Степан. Впереди – зима. Тогда будет день рождества господа нашего Иисуса Христа. И тогда же солнце вновь народится, день пойдет в прибавку, а ночь в уменьшение.
– Это хорошо. Только от сотворения мира уж длинно. А еще от чего лета идут?
– Еще лета идут от рождества господа нашего. От рождества Христова на дворе сейчас одна тысяща пять сот восемь десятков и третий год.
– Чудно. И как это ты, отец Иван, все знаешь и помнишь…
– Надо помнить. Без памяти жизни нет. Да это не так уж и чудно. А вот почти лет сто назад чудо и в самом деле приключилось.
– Какое?
– Сейчас – я уж сказал – от сотворения мира семь тысящ лет минуло, и еще почти сотня лет сверх того прошла – и ничего. Стоит белый свет, как стоял. А вот за сто лет, когда к седьмой тысящи года подходить стали, смятение в умах среди людей было великое. Дед мой мне рассказывал. Он тоже попом был. В Великом Устюге приход имел, людей утешал. И сочинили тогда, говорил он, которые попы, и дьяконы, и вышние церковные служители, что-де, когда семь тысящ лет изойдет – и белому свету конец. И до того дошло, в небрежении человеки дела свои оставляли, и епископы, и протопопы считать православные праздники бросили, и пасхальные дни исчислять наперед не желали. Все равно-де скончание века земного приходит. Заживо в гробы ложиться готовились. И что ж? Изошла седьмая тысяща лет тихо-мирно – а солнышко как светило на небе, так и светит, леса, и горы, и грады человеческие, и поля – как стояли, так и стоят, красуются. Людишки малоумные рты разинули. А дед говорил: великий то грех такое гадательство об конце света. И гордыня великая. Откуда человеку промысел божий знать, что он, господь-батюшка, о земле нашей, об роде людском думает, когда их к скончанию привести решит. А нам жить надо, работать, детушек растить – ведь дней впереди без счета и лет тоже.
– Славно ты, отец Иван, сказываешь, – улыбнулся Ворон. – Заслушаться тебя, ей-ей, можно. Да, говорят, соловья баснями не кормят. Похвалялся давеча зайчатиной нас попотчевать. Где ж она?
– Будет, будет зайчатина, – спохватился поп Иван. – В печи уж готова стоит. Серафимушка, и ты, Авила Парфен, пойдемте со мной в поварню, поможете угощение принести.
Поп Иван вышел. Серафима и востроглазый мужик поднялись, вышли тоже за ним.
– Это кто – Авила Парфен? – спросил Ворон.
– Мельник, – ответил Томила. – У них выше по реке мельница стоит. Авила Парфен на ней хозяйничает. Ничего, мужик способный.
Поп Иван, Серафима, Авила Парфен стали носить из поварни, уставлять на стол деревянную посуду, чашки, ложки, миски с солеными грибами, овсяным киселем, лотки с житным хлебом, бурачки берестяные с белой солью и всякий иной столовый обиход. Принесли корчагу с ягодным квасом на меду и – наконец – на железном листе – горячие, с пылу – две запеченные большие тушки заячьи, уже разрезанные на части. От ломтей зайчатины, обложенной травами, шел вкусный пар.
Все оживились. Серафима накладывала в миски куски мяса, грибы, овсяный кисель и оделяла каждого. Ковшом зачерпывала квас, наливала в чашки.
Поп Иван благословил пищу, начали есть, тихо при том беседуя.
– Хороши грибки соленые, – похвалил Степан. – Оно понятно, в лесу грибов пропасть. А соль откуда?
– Пять верст отсюда вверх, там, где река сквозь теснину пробивается, – сказал поп Иван, – есть ход в гору. Там соль каменная. Там ее ломаем, по реке на плоту свозим. Здесь размол делаем, потом в пищу кладем. Вот и грибы солим. Соль хороша, чиста.
– А куда река дальше уходит? – спросил Ворон.
– Дальше вниз, – отозвался Авила Парфен, – там горы поднимаются, сплошная стена. Ходу воде нет. Там река в провал уходит. Видно, глубоко идет, вокруг все время грохот стоит. Люди говорят, за горами, дальше, версты через четыре из-под земли, из скал, река опять на свет белый выбивается.
– Вот ты говоришь, отец Иван, без памяти жизни нет, – сказал Степан. – Это так. Так ведь для того, чтобы жизнь была, цвела, один счет дням и годам вести – мало.
– А что еще? – поп Иван отпил из чашки квасу, крякнул, – хорош!
– А кроме дней да годов, надо еще знать, что за люди жили-были, чем землю прославили, какие цари да князья правили, кто из них во что горазд был.
– А как же! На то писцы ученые есть, летописи ведут, все замечают. По кельям в монастырях старцы блаженные сидят, на пергамене буквы рисуют – и уставом, и полууставом, и скорописью. И то память наша о земле, ты верно сказал, – правдива и нетленна.
– Правдива ли? – усомнился Степан.
Поп Иван ухватил бороденку рукой, прищурил один глаз:
– Должна быть правдива.
– То-то – должна! – хмуро усмехнулся Степан. – А будет ли? Что еще там старцы по кельям про нынешнего царя Ивана напишут? Бог им судья. А мы вот, хотя пергамена белого и в глаза не видали, ни уставу, ни полууставу не учены, а про нашего царя-государя рассказать можем такое – старцам и не снилось.
– Это так. А все ж правда доходит. Вот был на Москве великий князь Димитрий. Его потом Донским прозвали. Давно его уж на свете нет, а все помнят: он хана Мамая на поле Куликовом побил. Вот тебе и память.
Помолчали. Зайчатина всем пришлась по вкусу, и занимались ею усердно, приправляя грибами, овсяным киселем, запивая квасом.
– А в степи, в орде у вас тоже есть хан? – спросил Эмета Ворон.
– Есть. Хан есть и еще султаны есть.
– А кто был самый большой? Я в Крыму слышал, татары говорили, в давние времена был хан Чингис, по сей день самый большой, никто его не превзошел.
– Да, – кивнул Эмет. – Чингисхан поныне самый большой из всех ханов, кто был. Имя его правильно так: Шынкызхан, что значит – хан, рожденный истинной девой.
– Истинной, – сказал поп Иван, – значит, непорочной?
– Да, – сказал Эмет.
– Как же это случилось?
– Мать Чингисхана была красива, – тихо проговорил Эмет, как будто припоминая. – Однажды в уединенном месте она купалась в озере. Подняв глаза, вдруг увидела бога Тенгри, проходившего между облаками. Когда взгляды их встретились, она почувствовала, что в теле ее затеплилась новая жизнь. Так понесла она в себе ребенка и через положенное время родила Чингисхана. Говорят, в кулаке новорожденного был зажат сгусток крови. Это знамение потом исполнилось – Чингисхан в годы своего владычества залил землю потоками крови.








