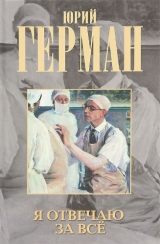
Текст книги "Я отвечаю за все"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
И он показал свою толстую ногу.
Машины, конечно, не было.
Тогда он позвонил Устименке и сказал, что «мигом» будет в своей хирургии, пусть Салов не злится.
Шел он около часа, а неподалеку от городка, где начались подъездные колдобины, упал, и так неловко, что долго держался за голову – там стоял неистовый шум.
«Старость, что ли? – подумал Богословский и пальцами попробовал, все ли зубы целы. – Пожалуй, старею…»
Салов лежал благостный, розовый на каталке, крутил пальцами перед собой. Завидев измученного доктора и испытав мгновенное чувство неловкости, он скривил свою жирную, небритую рожу и рассказал, какие испытывает страдания с того самого момента, когда «покушал соленых грибов». «Не на шесть столов я из тебя мрамор выну, а на двенадцать!» – подумал Богословский и пошел мыть руки. А пока мыл, додумал до конца: «С выплатой по безналичному в конце будущего года. У речников мрамора нет, но они получили немецкие электрические мясорубки. Обменяю на мрамор – раз. И с областной больницей комбинацию осуществлю – надо посмотреть, что у них есть».
– Больно будет, товарищ профессор? – спросил Салов.
– Было бы больно, если бы мы так же к некоторым больным относились, как эти больные к нашим бедам и нуждам, – заранее приготовленной фразой ответил хитрый Николай Евгеньевич. – Очень было бы больно…
Салов хохотнул на операционном столе так, будто его щекотали.
– Мрамор нам понадобится, – сказал Богословский. – Он ведь не фондированный, для столов кухонных разделочных.
– Зробимо! – поспешно ответил Салов.
– На двадцать три стола! – бахнул Богословский и сам немножко испугался…
– Хоть на сто! – готовый на все, сказал Салов. – Еще трубы чугунные вам подкину, давеча Устименко ругался…
А когда Салов заснул под наркозом, Богословский вдруг сердито вспомнил, что ни слова не сказал о стекле. После операции Салов будет, пожалуй, поприжимистее… Впрочем, мрамор и трубы уже есть: что-что, а слово он держать умеет…
Размывшись, едва шагая от усталости, Богословский медленно пошел в кабинет, где было его жительство. Устименко, распахнув настежь окно в холодную, снежную, темную ночь, писал у стола, накинув на плечи свою флотскую шинель. Николай Евгеньевич, сердито посапывая, что-де Владимир выстудил комнату, постелил себе на диване и, снимая с кряхтением сапог, спросил:
– Чего пишете?
– Да Штубу пишу, – быстро ответил Устименко. – Нельзя же это откладывать. Как он вам, Штуб-то?
– Ничего, подходящий. Был когда-то. А какой нынче – не знаю. Может, еще возьмет нас с вами и посадит в узилище, никому оно не известно…
Устименко усмехнулся, свернул свои листы в трубочку и встал.
– Ладно, ложитесь, – сказал он, – пойду домой писать.
Он ловко вдел руки в рукава шинели, снял с гвоздя фуражку, взял палку и еще постоял немного, думая о чем-то и сурово хмуря брови. Потом кивнул и ушел.
«НЕ ЗАБУДУ!»
Просыпался Родион Мефодиевич раньше всех в доме, даже раньше деда Мефодия, грел воду самодельной электрической спиралью, долго правил на ремне старую, сточенную бритву и педантично, тщательно выбривал сухие щеки, недовольно морщась и по-стариковски, как отец, кряхтя. Потом, выпив стакан крепкого чаю вприкуску, садился за очередное письмо, сочиненное в голове ночью.
Но теперь все те сильные, весомые, точные слова, которыми он думал ночью, казались пустяками, ничего не стоящим, неубедительным, истеричным «дамским» вздором. Ну и в самом деле, что он мог написать? Что он верит Аглае Петровне и будет верить ей до смерти? Что если не верить ей, то нельзя верить никому? Что он знает о пребывании ее в гестапо и о том, что она там испытала – из часа в час, изо дня в день? Что он наконец заслужил право хотя бы на ответ – жива его жена или нет, погибла она в войну или находится в заключении, а если находится в заключении, то где, как ее искать, как ее увидеть хотя бы для того, чтобы понять, в чем она обвиняется!
Родион Мефодиевич хорошо помнил тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, то время, когда словно нарочно истреблялись люди на флотах – от Амурской военной флотилии до Балтийского флота. Но нынче он знал, что фашистская разведка – ихние мерзавцы – организовала целый ряд дел так, что советским органам госбезопасности было почти невозможно разобраться в провокациях, затеянных «на той стороне», и жертвами этих провокаций пали сотни, если не тысячи военачальников, среди которых были и выдающиеся полководцы. Даже у «союзника» Черчилля он прочитал о том, как истреблялись кадры советских военных специалистов.
Это так было, Степанов понимал ясно ход событий того времени, разумеется, события эти не одобрял ни в малой мере и ужасался ими, но молчал, как молчали многие. Уже в конце войны выяснил он в случайном разговоре, что и его песенка была спета, спасла Степанова тогда страна Испания. Покуда он там был, о нем забыли, а когда вернулся – сажать было неудобно, опять отложили. Потом сел и был расстрелян некий красавчик, который оклеветал целую группу военных моряков, – так Степанов и остался живым.
Все это было, «имело место», как думал Родион Мефодиевич, но не могло возникнуть вновь после такой войны, как эта, где народ показал себя поистине народом-героем, где совершались чудеса повседневного подвига, где всему человечеству было доказано, что советские люди едины, стойки духом, что именно они, а не кто другой, покончили с фашизмом и подняли знамя победы над рейхстагом. Так за что же подозревать, держать в каких-то таинственных, секретных лагерях людей, повинных только в том, что они не эвакуировались в безопасные дали, а действовали по мере всех своих сил на войне, в которой, как всем известно, существуют не только одни победы, но и поражения, и несчастные, сложные обстоятельства, и горькие просчеты? Разумеется, изменники должны быть сурово покараны, но именно они, изменники, а не свои, честные, чистые люди…
Родион Мефодиевич писал, но настоящие письма у него не получались. Тоскливые, пыльные, канцелярские обороты, вроде: «исходя из всего перечисленного», или «на основании приведенных мною фактов», или еще «и потому я считаю возможным убедительно просить» – не выражали ни мыслей его, ни чувств, а осторожность, въевшаяся в него в годы сплошных арестов, привела к тому, что он боялся любым резким словом повредить не себе (себе что, о себе он не думал, самое главное – службу – у него уже отобрали), – он боялся повредить Аглае Петровне, если она жива. А в то, что она жива, он верил, хоть даже себе в этом боялся признаться.
Писал он всюду.
И не отвечал ему никто.
Письма словно проваливались в тартарары.
И никакие дополнительные меры страховки, вроде: «такому-то и такому-то лично», «заказное», «ценное», никакие постыдные слова на конверте типа «жизненно важно», «в четвертый раз», обратный адрес со словами «от Героя Советского Союза» – все это ничему не помогало.
Ему не отвечали.
Впрочем, одно письмо пришло.
Он разрезал конверт перочинным ножом – аккуратно, как делал все, и долго не понимал, о чем идет речь.
Письмо было от капитана Амираджиби Елисбара Шабановича.
Об Аглае Петровне Амираджиби не знал ничего, писал он только о себе и о своей невеселой жизни. Болен. Лечат. «X-лучами».
Степанов перечитал, держа письмо на расстоянии вытянутой руки: «Икс-лучами». «Как это можно лечить лучами?» – сердито удивился Родион Мефодиевич.
На людях, на почтамте, он стеснялся напяливать очки, даже оставлял их в футлярчике дома. И дома перечитал в третий раз.
Все было верно, Амираджиби лечили радиоактивным кобальтом, у него было что-то не то в горле – так, по крайней мере, понял Родион Мефодиевич. И еще понял, что старый Амираджиби желал бы получить совет от своего «молодого друга», «симпатичного доктора Устименки, с которым мы вместе кушали кашу в одном веселом кордебалете».
На конверте он наложил резолюцию: «т. Устименке В. А.» и подумал о том, что к вечеру наведается к Володе.
А больше писем не было.
Люся на почтамте – он уже знал, что она Люся и что у нее умерла мама, а папа пал смертью храбрых под Сталинградом, – эта прозрачно-бледная Люся много раз давала ему разные сложные почтовые советы про корреспонденции «с уведомлением», про всякие виды оплаченных ответов. Он выполнял все в точности и без всякой надежды на успех.
Письмо от Амираджиби показалось Люсе тем письмом, которого и ожидал Степанов. А когда на следующий день он сказал, что это вовсе не то письмо, Люся вдруг посоветовала:
– Надо вам поехать в Москву.
Она не знала, о чем он пишет, но верила, что, если человек сам поедет в Москву, все придет в порядок.
– В Москву? – нисколько не удивился Степанов.
Он и сам давно об этом думал, и Люся лишь подтвердила его мысли.
– Пожалуй, это дело! – произнес Родион Мефодиевич.
И объявил дома о своем решении.
– Не вижу практического смысла, – сказал Женька, протирая стекла очков яркой замшей. – Истреплешь нервы до основания и ничего не добьешься. Разве после таких катаклизмов можно отыскать одного человека?
Говорил он беспокойно, и Родион Мефодиевич лишь молча покосился на него. Основательный, с иголочки одетый, в меру полный, всегда государственно озабоченный, Евгений Родионович еще постоял, раздумывая и перекачиваясь с каблуков на носки, высморкался в большой платок и, приказав, чтобы его не отрывали, пошел в кабинет, как обычно, соснуть после обеда. Потом почтительная Павла проносила туда чашку натурального кофе, и Евгений садился за письменный стол. Разумеется, если не случалось заседания. Впрочем, в последнее время он научился диктовать свои «труды» стенографистке. У него завелась большая картотека, в которую он выстригал различные, по его выражению, «материалы», или «сырье», и эти вырезки перед приходом стенографистки он раскладывал на тахте, как пасьянс…
Когда дверь за Женькой закрылась, Родион Мефодиевич подошел к буфету, налил себе полстакана коньяку и выпил залпом. Подумал и еще налил. Ираида следила за ним с тревогой.
– Не бойся, алкоголиком не стану, – сказал Степанов, – года вышли, припоздал. А впрочем…
– Ежели Родион Мефодиевич и выпивают, то при их пенсии это разрешительно, – покашляв в кулак, издали сказал дед Мефодий. – У нас на японской ротмистр был, некто барон Дризен, тот ром ямайский выкушивал по три бутылки в день. А звание плевое – ротмистр…
– Батя, выпьем! – предложил Степанов.
– Я не против, – сказал дед, подходя к буфету из вежливости мелкой походкой, – я завсегда могу выпить, и при своем уме. А что в Москву Родион Мефодиевич надумал – оно правильно…
– Не уезжай, де-ед! – попросил Юрка. Он очень привязался к Родиону Мефодиевичу, подолгу гулял с ним и хвастался его Золотой Звездой в своей школе так, что Евгения однажды туда вызывали. – Не уезжай, а?
Ираида сказала, что поездка и посещение инстанций может вызвать только совершенно ненужное внимание к личности Родиона Мефодиевича. Устименко, к которому зашел Степанов попозже вечером, сказал, что он бы непременно поехал, что тут-де и раздумывать нечего, а Вера Николаевна, которая была как-то странно возбуждена, внезапно покраснев, попросила мужа:
– Володечка, напиши Цветкову. При его связях и возможностях он всего добьется…
Устименко быстро взглянул на жену и не ответил, а Вера, повернувшись к Родиону Мефодиевичу, сказала то ли шутя, то ли сердито:
– Ваш милый Володечка этого человека терпеть не может. Ему сейчас неприятно, что я назвала Константина Георгиевича, но, поверьте, поверьте, Константин Георгиевич все узнает и все сделает. Он многое может и, главное, не побоится. Меня Владимир по некоторым причинам не послушается, а вы, Родион Мефодиевич, ему велите – он напишет.
Устименко послушался – написал. Вера сказала, что они с Любой проводят Родиона Мефодиевича, вечер прекрасный, а они совсем и воздухом не дышали. И Степанов вдруг, нечаянно, заметил, как Вера подмигнула Любе, словно девчонка.
Володя вслух прочитал Степанову свое письмо. Оно было прямое и открытое, без всяких околичностей и экивоков, даже чуть-чуть грубоватое, как всегда, если Владимир Афанасьевич что-нибудь просил. Они сидели в кухне вдвоем, Вера и Люба заперлись в комнате. А когда вышли оттуда, то Степанов понял: пора идти – сестрам хотелось «дышать», как сказала Вера. А Степанов еще рассуждал с Устименкой. Люба молчала, смотрела на Родиона Мефодиевича широко открытыми, мерцающими, как у сестры, глазами. Казалось бы, и румянец у них был одинаковый – матовый, и умение выражать взглядом молчаливое и доброе сочувствие, и, вроде бы, участливость, отзывчивость на чужое горе.
– Тут, возможно, кое-что в ближайшее время прояснится, – начал было Владимир Афанасьевич. Ему очень хотелось рассказать Степанову про вечерний разговор со Штубом, но он вдруг испугался, что только обнадежит Родиона Мефодиевича и взволнует его. И он не договорил.
– Что прояснится? – спросил Степанов.
– Да со здешними партизанскими делами. Тогда и Аглаю Петровну легче будет искать. Впрочем, Москва ничему не помешает…
Степанов вынул из кармана письмо Амираджиби.
Устименко прочитал внимательно, лоб его нахмурился.
– Ладно, об этом мы с Николаем Евгеньевичем посоветуемся, – сказал он, – вы будьте спокойны, завтра же он разберется…
Нина Леопольдовна, собирая со стола чайную посуду, внезапно вмешалась и спросила:
– А что, собственно с вашей супругой произошло?
Степанов не ответил.
– Оставь, мама, – сказала Люба. – Вечно ты, право…
– Я к тому, что бывают любые недоразумения, – светским тоном, как она играла в пьесе Дюма, заговорила Нина Леопольдовна. – У нас, помню, в декабре сорок второго с одним нашим приятелем, добрым приятелем, славным, случился казус: кассир наш старший, ты его, Любушка, помнишь, одаренный артист, немножко чуть-чуть жуир, хорош был во «Власти тьмы», ну еще благородный отец для мелодрам. Так оставляет в пригородном вагоне – дурачок эдакий – четыре килограмма сливочного масла. По тем временам! Представляете? Кошмар и еще раз кошмар. Но сила коллектива такова, что мы его отстояли…
– Моя жена масло не воровала! – сказал Степанов.
– Браво! – холодно сказала Вера и взяла Степанова под руку. – Уходить, уходить скорее!
– А ты не пройдешься, Владимир? – спросил адмирал.
Володя потряс головой: он уже ставил на стол свою раздолбанную пишущую машинку.
– Мы не скоро, – звонко сообщила Вера Владимиру Афанасьевичу. – Может, еще кино посмотрим… Любочка требует.
Он проводил их невеселым взглядом, повесил на распялку старый китель, подвинул поближе стакан пустого чаю. И подумал тоскливо: «Почему, собственно, это все, вместе взятое, называется семьей?»
На улице Вера и Люба отменили свое решение провожать адмирала. Они теперь испугались, что не попадут в кино, и опять Степанову почудилось, что они как-то странно пересмеиваются, переглядываются и чего-то не договаривают.
– Желаю успеха! – сказал Родион Мефодиевич, козырнув.
Если он чего-нибудь не понимал, то ему делалось неловко. Так неловко было ему сейчас, и он испытал чувство облегчения, завернув за угол Старого сквера.
– Уф! – сказала Вера, когда шаги адмирала стихли. – Смотри, словно что-то знает.
И спросила:
– Ты меня осуждаешь?
– А ты из тех людей, которые пакостничают и еще желают, чтобы над ними плакали? – спросила Люба. – Ох, берегись, расскажу все твоему мужу.
– Не посмеешь!
– А если?
– Не порти мне настроение! – попросила Вера. – Ведь ничего же не произойдет, все это давно кончено. Повеселимся, посмеемся, поедим, потанцуем. Могут же сохраниться человеческие отношения? Он из-за меня сюда приехал…
– Безумная любовь? – сухо осведомилась Люба.
– Не осуждай, сестреночка, – попросила Вера. – Доживешь – поймешь.
– Вряд ли. А если пойму – уйду.
– От такого, как Володя?
– От любого.
– Но что же мне делать, если я действительно люблю Устименку?! Люблю, несмотря на то, что он не состоялся таким, каким я видела его в моем воображении. Нет, ты должна понять…
– А если я не хочу понимать?
В это самое время Родион Мефодиевич вошел в свою комнату и увидел Варвару, которая курила, лежа на его кровати. Она была в старых лыжных штанах, круглые ее глаза смотрели печально, устало и ласково. Степанов просто забыл, что послал ей телеграмму – просил приехать, посоветоваться.
– Ты ела? – спросил он по старой памяти и по старой памяти, как тогда, когда она была совсем маленькой и жила у него на корабле, поцеловал обе ее руки в широкие ладошки. – Ела, доченька?
– Ты у Володьки был? – спросила она.
– Был.
– Верно, будто у него одна комната?
– Вроде, – ответил адмирал. – Мы в кухне сидели.
– А кухня коммунальная?
– В общем-то тесновато живут. Там еще сестра, насколько я понял, супруги его – Любовь Николаевна. Тоже женщина красивая. И мамаша – говорит голосом из живота, вроде как чревовещатель. Дочка-то спала уже…
– Чем же тебя угощали?
Это все-таки была мука мученическая. Всегда она вот так, со скучным лицом, выспрашивала его про Устименку, а он чувствовал, как колотится ее сердечко, бедное, одинокое, дурацкое, усталое от этой длинной, несуразной, невозможной любви, такой нелепой для его Варьки, – она-то ведь все равно лучше всех, умнее, душевнее, проще, яснее; нет больше таких, как Варвара, вот поди ж ты!
– Забудь ты наконец про него! – адмиральским голосом велел Степанов. – Кончено это! Освободись!
– Не забуду! – твердо глядя своими круглыми коричневыми, все еще невзрослыми глазами в глаза отца, с медленной усмешкой ответила Варвара. – И не покрикивай на меня, как на свою верхнюю палубу. Я – твоя дочка, а не артиллерия главного калибра.
– Забудь, дочечка, – испугавшись, что обидится, вдруг старушечьим голосом повторил он. – Найдем тебе женишка, вот хочешь, из Москвы привезу?
– Женишков полно на базу завезли, – как в детстве, держа руку отца за пальцы двумя руками, сказала Варя. – Только я, батя, не невеста.
– В монахини пострижешься?
– В прежние времена непременно бы постриглась. И не простым – черным постригом, или как это у них было. Схиму приняла бы, что ли! А потом сиятельный граф Володя Устименко бросился бы передо мной на колени на холодные каменные плиты суровой монастырской церкви. А у меня в руке свеча, и сама я такая тонкая-претонкая…
– Ну? – не без любопытства спросил адмирал.
– И все. А потом бы лежала в гробу, и монахини бы жалобно надо мною пели. А граф Устименко, черт бы его подрал, застрелился бы из длинного пистолета.
– Сейчас все выдумала?
– А хочешь – я его убью, – блестя глазами, предложила Варвара. – У тебя револьвер есть? Протяну вот так руку – и бац-бац-бац!
– Ненавидишь его?
– Нет, люблю, – со вздохом сказала Варвара. – Скоро совсем постарею, а все любить буду.
– Послушай, а что ты в нем в конце концов нашла? – вдруг взорвался Степанов. – Что захромал на войне? Так и хромого сыщем, невелика примечательность. Сострадаешь? Ведь не было же так?
Варвара села на кровати, поправила волосы, потянулась, потом сказала:
– Ладно, папа, ты ведь меня не для этой беседы депешей вызвал. Что у тебя за новости? Поговорим, потом пойдем в ресторан, мне охота с тобой потанцевать. Ты не думай – я переоденусь…
– В ресторан? – удивился адмирал.
– Ага. За мой счет, я заработала дикие деньги. И потом мне интересно, чтобы про нас думали: какой ты ухажер старый и какую дамочку приволок. Имей в виду – я буду капризничать и выламываться.
– Выламывайся! – сказал адмирал. – А я тебя розгой посеку.
– Угощение будет роскошное, – продолжала Варвара. – Самые дорогие закуски. Вина, водки, коньяки, какао, кофе, молоко…
Она вдруг поцеловала отцу руку, что делала раз в три года, сказала, что Женька ей уже изложил планы отца насчет поездки и что она считает – ехать нужно немедленно. Степанов тихо улыбнулся: кто-кто, а он знал свою дочь…
– Денег у меня до черта, – продолжала Варвара, – тебе пригодятся, ты не изображай миллионера…
Степанов все улыбался: вот для чего она вела его в ресторан, чтобы он видел, как она мотает деньги.
– А чулки себе купила, монашенка? – спросил Родион Мефодиевич. – Или еще красишь ноги?
– Женька насплетничал? – быстро спросила она.
И велела ему одеваться, бриться, привинтить Золотую Звезду и вообще «соответствовать».
– Я тоже постараюсь! – сказала она почему-то угрожающе.
То ли он уж слишком ее любил, то ли стар стал и сентиментален, но почему-то, когда пришла она в его комнату «готовая совсем», по ее словам, он даже порозовел от гордости: какая у него дочь, какая его Варвара, насколько лучше она всех вместе взятых «раскрасавиц», вроде этой Веры Николаевны, которая свою красоту носит и всем показывает, – красоту всегда одинаковую, никогда не праздничную, да что тут!.. И тихим голосом, самодовольным и даже рокочущим, Родион Мефодиевич радостно сказал:
– Ну-ка повернись, повернись, ну-ка покажись, дочечка!
Она щелкнула выключателем, чтобы отец и покрой костюмчика увидел, и как волосы она уложила, и как прямо и счастливо смотрит на него она – тоже довольная собой, придуманным кутежом. «Гляди, батя, ничего у тебя дочка?» И он, конечно, смотрел, оглядывал, вглядывался в ровный, насмешливо-добрый, умный взгляд ее, в тяжелый узел совсем немодной нынче прически (и когда она волосы отрастила!) и в то горькое, мгновенно мелькнувшее возле ее губ выражение, которое замечал он не раз после войны и которое простить не мог Устименке, и во всю ее особую, ей принадлежащую, всегдашнюю открытость. «Вот я такая, люди, я вся тут, любите меня, я вас люблю!» Такая, еще маленькая, она ходила по Кронштадту, такой была на корабле, такой и выросла…
– И еще сумочка будет, – сказала Варвара. – Ираидка сейчас еще щеткой чистит – заначить хотела, но со мной шутки плохи, что мое – то мое, ты меня знаешь!
– А шуба у тебя от мороза есть?
– Шуб у меня избыток, – соврала Варвара, – сколько угодно, три или четыре. Я вообще, папа, исключительно одеваюсь. Но все неперешитые, у меховщика. Я ведь люблю модное, не могу отставать. Для тебя надену Ираидкину – с шиком сшита. Ты хочешь, папа, выпить?
– Выпить можно!
– Выпить завсегда можно, – сказал дед Мефодий. – Если по-хорошему, в аккурат. А если с безобразием, то лучше нет, как воздержаться.
– Я, дед, с безобразием тяпну, – сказала Варвара, поцеловав Мефодия. – Я люблю, если выпить, то чтобы подраться, ножом кого пырнуть, верно, пап?
– Перестань ты, – попросил адмирал, подавая дочери в передней шубу. – Слушать, и то смешно!
Дед Мефодий почесал о косяк спину и осведомился:
– Вы куда ж, ребяты?
– В ресторан! – сообщила Варвара. – Мы, геологи, дед, знаешь как пьем? Литрами! Конченый народ!
– По ресторантам, – рассердился дед, все еще почесываясь о косяк. – Видали? Там же сумасшедшая стоимость, обдираловка немыслимая. За те деньги я вам дома и холодец из ножек подам, и сельдя с луком, и горячее, и красной головки – залейся, казак, до ушей хватает.
– А мы, дед, желаем в ресторан! – сказала Варвара. – И ты нам не препятствуй!
– Заимей сначала свою шубу! – брякнул дед.
Варвара грозно на него взглянула, он закрыл свой рот ладонью. Юрка тоже попросился в ресторан, но Ираида его уже разула на ночь, и он со своей участью примирился.
– Может быть, и мы погодя подойдем! – пообещал Евгений. – Если у Иры настроение будет.
– Вы подойдете за свой счет, Женюрочка, – сказала Варвара. – А так как ты это терпеть не можешь, то у Иры не будет настроения. Пошли, папа. И запомни – я твоя дама. Один взгляд в сторону, и я, сделав тебе сцену, уйду в ночь.








