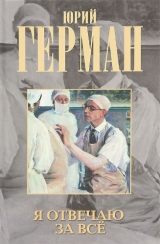
Текст книги "Я отвечаю за все"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
БЕЗ ВСЯКОЙ РОДСТВЕННОСТИ
Люба Габай приехала в Унчанск часовым московским поездом, приехала измученная и запуганная и не торопясь, пешком, вдыхая запах первого, уже тающего снега, отправилась отыскивать дом 39 по Лесной, возле улицы Ленина, – во двор прямо, во флигеле, квартира три.
Тихий, чистенький под снегом Унчанск после всего пережитого показался ей милым, уютным и годным для постоянного проживания городом, если, конечно, сюда приедет Вагаршак. А если нет, она всеми силами, всеми правдами и неправдами станет пробиваться к нему и, что бы с ней ни делали, – пробьется.
Веру она застала дома, Нина Леопольдовна ушла гулять с Наташей, Устименко, конечно, был в больнице, поэтому сестры, не теряя времени, сразу заговорили о делах с той предельной откровенностью, с которой умеют разговаривать один на один даже такие разные люди, как Люба и Вера.
– Ты просто сумасшедшая! – ставя на электрическую плитку кофейник и любуясь сестрой, произнесла Вера Николаевна. – Откуда эта бешеная храбрость? Ну, а если?..
Люба улыбалась.
– Послушай, – сказала она, – насколько я понимаю, это одна комната? И всё?
– Почти все. Володя, как правило, занимается на кухне. Там у него и стол, и раскладушка, – говорит, что там ему спокойнее.
– И тебя устраивает такая жизнь?
– Конечно, не устраивает. А мама просто в ужасе.
– Ну, а Владимир Афанасьевич?
– Ему что! Поспал ночь да ушел.
– А твои теории насчет его диссертации и насчет высокого полета?
– Это ты мои старые письма вспомнила?
– Разве такие уж старые?
Она все еще чему-то улыбалась, но улыбка у Любы была невеселая, может быть даже недобрая.
– Судишь? – спросила Вера Николаевна. – Это, пожалуй, самое простое. Только если бы ты из своей глубинки не удрала – тогда изволь, суди. А так что-то не получается.
– Да я разве сужу, – задумчиво сказала Люба. – Какой из меня судья. Думала, у тебя все по-твоему, ан не так это просто. Ты мне не ответила – движется диссертация?
– Какая к черту диссертация, – почти грубо, на нижнем регистре, как всегда, когда она злилась, произнесла Вера Николаевна. – Все это давно отменено. Болбочет пироговские слова, что врач на войне – это, прежде всего, администратор или организатор, и вся недолга…
– Но война-то давно кончилась.
– Для таких, как Владимир, она никогда не кончается. Он, знаешь, из тех, которые полагают, что они работают не для того, чтобы жить, а живут ради того, чтобы работать.
– То есть ты хочешь сказать, что твой супруг – не американский житель?
– При чем здесь Америка?
Люба не ответила. Она вообще приехала с каким-то загадочным выражением лица.
– А как твой грузинчик? – осведомилась Вера. – Живет и благоденствует?
– Вагаршак армянин, – сказала Люба. – А насчет того, благоденствует ли он, я не знаю. Мы давно не виделись.
– Не огорчайся, Любашкин, – посоветовала Вера. – Самое лучшее – свобода. Ну, что я имею от этого брака, что? То, что в паспорте стоит фиолетовый штамп и жизнь моя связана? Почему ты улыбаешься?
– Не знаю. А разве я улыбаюсь?
– Улыбаешься. И нехорошо улыбаешься.
– Это от зависти, Верочка. Наверное, я хочу штамп в паспорте и связанную жизнь.
– Тогда ты просто глупа, моя сестричка, – пожала плечами Вера.
Она сварила крепкий кофе, зажарила яичницу из порошка, расставила на столе сахар, масло, банку со сгущенным молоком, печенье.
– Чем богаты, тем и рады, – услышала Люба. – Это еще угощение экстра-класс. Мой супруг совершенно беспомощен в смысле «достать».
Люба все помалкивала.
– Константина Георгиевича видела? – наконец не выдержала Вера.
– Нет. Не дозвонилась, – не поднимая глаз на сестру, ответила Люба.
– Врешь. И не звонила, наверное.
– Не звонила, – быстро, словно с облегчением, сказала Люба. – Ты только не сердись, Веруня, я не могла. Я же к вам ехала, я с твоим Владимиром сегодня познакомлюсь, трудно мне. Да ведь и дела никакого не было – просто здрасьте, я сестра Веры Николаевны…
– Дура! Нет, какая же ты все-таки дура! – даже захлебнулась от гнева Вера Николаевна. – Дура, и упрямая притом. Ведь он и твои дела, и твоего армянинчика – все мог обладить, он всюду вхож, все от него зависит, если не прямо, то связи у него огромные…
Вскинув глаза на Веру, Люба прервала ее на полуслове своим мягким, но внезапно окрепшим голосом, словно ей нужна была такая яростная вспышка сестры, чтобы сказать свое решительное и окончательное суждение.
– Давай не будем ссориться, – круто произнесла она, – но наша с Вагаршаком жизнь – не твоя забота. И не Константина Георгиевича, кем бы он ни был.
– Но приехала ты тем не менее ко мне?
Глаза Веры блестели, и нежный румянец проступил на щеках – всегдашний признак ее ярости. Но Люба осталась спокойной.
– Не совсем к тебе, – пожала она плечами. – Если помнишь, Владимир Афанасьевич приписал в последнем вашем письме, что здесь нужны врачи. Ну, а получу работу, получу и крышу – так в жизни тоже случается. Так что тебе на шею я не сяду.
Сделалась пауза, как говаривали в старину. Вера Николаевна притихла, поняла, что произошла некоторая неловкость. И, с легкостью вызвав в себе состояние жертвы, так что и губы у нее даже задрожали, и слезами глаза заволоклись, – привлекла к себе сестру, обцеловала ее, попросила у нее прощения за свой «несносный, правда, невыносимый нынче характер» и немножко лихорадочно, нарочно вразброд, стала рассказывать Любе о своей жизни, о том, что Володю она, конечно, ни в чем не винит, сама виновата, увидела в нем то, чего ему природа и вовсе не отпустила, влюбилась в это несуществующее, самой ею выдуманное, самой сфантазированное качество – в талантливость, которой ни в малой мере в нем нет, и только теперь убедилась, что он в своем деле ничто, «нуль без палочки», ремесленник, «смотритель больничный», как он сам, и справедливо при этом, про себя выражается…
Младшая сестра слушала молча, щуря глаза, покуривая маленькую, дешевую папироску, ничем не выражая своего отношения к печальной Вериной повести. Но что-то едва заметно брезгливое сквозило в ее прищуренном взгляде, в том, как иногда сбоку посматривала она на сестру, как мгновениями ее коробило от Вериных понятий и взглядов.
– Костя пишет уклончивые письма, – рассказывала Вера Николаевна, – считает, что мне следует переезжать в Москву, но в задачке спрашивается – на каком положении? Кем я туда отправлюсь? Просто докторшей, которую его превосходительство своей милостью определит в поликлинику? Тогда мне и тут не надует, и здесь проживу. О Наташе ни полслова, насчет мамы – будто и нет старухи, насчет своей собственной мадам, видимо, все так и останется. Но, голубушка моя Любочка, от жизни никуда не деться, я еще не стара, я не хочу себя заживо хоронить в этом проклятом Унчанске. Научи, что делать?
– Все рассказать Владимиру Афанасьевичу, – суховато, без всякой интимности, сочувствия или родственности в голосе посоветовала Люба. – И покончить…
– А если я его люблю?
– Кого?
– Как – кого? Володю!
– Тогда прекрати раз навсегда эту канитель с Цветковым. Ты же Владимиру Афанасьевичу даже как будто клятвы какие-то давала, судя по твоим покаянным письмам.
– Ради Наташки, – совсем понурилась Вера Николаевна. – Да разве ему клятвы нужны?
– А что ему нужно?
– Не знаю, – уже совсем искренне и печально сказала Вера Николаевна. – В нем что-то словно бы сломалось. Вот с тех самых пор. Приходит домой чужой человек и уходит совсем чужой…
В это самое мгновение с грохотом растворилась дверь в кухню и вошел вышепоименованный «чужой человек». Что это именно он, Люба догадалась по суковатой палке в его руке и по флотской потертой шинели, но главное – по сурово-мальчишескому выражению глаз под темными бровями и по той мгновенной, летящей улыбке, с которой он поздоровался, опознав в ней сестру жены.
– Значит, удалось к нам приехать? – спросил он, моясь над раковиной и сильно растирая шею. – Это вы молодцом, нам врачи очень нужны, пропадаем. Климат, конечно, похуже вашего благословенного юга, но школа будет, я надеюсь.
И, поставив подогреть себе суп, стал хвастаться Богословским, знаменитым австрийцем, докторшей-терапевтом, по фамилии Воловик, которая только нынче прибыла, а более всего – будущим, удивительным будущим, которое вовсе не за горами, а совсем уже близко. Хвастаясь, он ел суп, сильно разжевывая корки хлеба, присаливая их из солонки, и все вглядываясь в Любу, ища в ней сочувствия своим грандиозным планам или хотя бы недоверия к ним, чтобы вцепиться и дать бой.
Но Люба молчала, смотрела на него и слушала.
Она должна была все понять сразу, сейчас, и раз навсегда определить свою позицию по отношению к этому человеку и к тому, что происходит в семье ее сестры.
– Ты объясни, почему вдруг заявился? – изображая любовь и ласку и для этого слегка теребя Устименке волосы с той нежностью, с которой делают это артистки в кино, спросила Вера. – Ты же только спать приходишь?
– А почти мимо шел, – ответил Владимир Афанасьевич. – На Ленина двадцать восемь был, за углом, кровельное железо выбивал, дай, думаю, щей дома похлебаю…
– Видишь, – печально произнесла Вера, – видишь, Любашка, почему он домой пришел? Из-за щей.
Пообедав, он еще повалялся в кухне на своей коечке, «покейфовал» минут с двадцать, выкурил папироску, выпил чаю, который ему подала Люба. Она все не отрывала от него взгляда – взыскательного и пристального, словно пытаясь угадать в нем то, что не было ей пока видно.
– Что это вы меня все вашим взором пронзаете? – спросил ее Устименко. – И молчите. Рассказали бы, какие они такие московские новости. Чего там в нашей хирургии слыхать?
Люба вздохнула:
– Не до хирургии мне было.
– Это в Москве-то?
– Именно в Москве.
– Зачем же вы тогда там торчали? – совершенно искренне удивился Устименко. – Уж я побегал бы по обществам, обнюхал бы там все тумбы.
Когда он ушел и шаги его стихли, Вера спросила:
– Ну?
– Что же ну, – негромко и печально произнесла Люба. – Какое может быть ну? Уезжай от него к своему Цветкову, уезжай куда хочешь, но только не калечь, не ломай его жизнь.
– Ты это всерьез?
– А ты разве не понимаешь, какой это человек?
Когда Устименко вернулся, и Вера, и Люба, и теща, и Наташка спали в комнате. Гебейзен вскипятил себе чаю и ушел. Владимиру Афанасьевичу было постелено в кухне, на раскладушке. Задумавшись, он поел каши с тушенкой, посидел на краю раскладушки, потом поставил перед собой табуретку с пишущей машинкой и принялся за письма, которые собирался написать давно и все откладывал за отсутствием времени.
Да не только, пожалуй, из-за времени, скорее, за отсутствием подходящего настроения. А сегодня был день удач, привезли шпунт, и не на один корпус, а почти для всей больницы, привезли цемент, известь, щебенку, весь городской транспорт работал на больницу. И больничный городок вдруг из облачка, в котором он едва рисовался, приобрел зримые очертания, не то чтобы уж совсем, но словно бы возник из того небытия, куда его загнали нерадивые и недобросовестные устименковские враги.
Но главное, конечно, доски.
Доски и речь, которую он, как бы репетируя нынешние письма, за щами произнес Любе. Речь и доски.
Короче говоря, Устименко не без усмешки над самим собой, понял, что его энергии в сочинении писем споспешествовало не что иное, как доски, – те самые, которые он даже руками пощупал, когда их повезли, машину за машиной, – полы для больничного городка.
И шпунт, если так можно выразиться, расцвел в его письмах пышным цветом, и каким еще пышным!
Письма были пригласительные – Ашхен и Бакуниной, сестре Норе, той самой, которая заявилась в медсанбат с дочкой, доктору Шапиро и верному Митяшину. Всех своих адресатов он звал в свой больничный городок в Унчанск, и, боже мой, какой это был городок, как оснащен он был самой современной, ультрасовременной лечебной техникой, какие тут были палаты, прогулочные террасы, парк, какие предполагались операционные, кухни, лифты, прачечные, какие квартиры для лечащего персонала – однокомнатные с ваннами и кухнями, двухкомнатные с раздвигающейся стенкой между комнатами, нормальные трехкомнатные, и все это здесь же, на территории города, в парке, в нескольких минутах ходьбы от нового пляжа на Унче.
Нет, он ничего не выдумывал, когда писал. Он твердо знал: такая больница будет с ними, со своими, с теми, на кого он может положиться, – будет, не может не быть, ведь делали же они гораздо большие чудеса в войну, и именно чудеса, а не просто возводили больничный городок. И Ашхен Ованесовне он расписывал будущий хирургический корпус на сто коек с гардеробными и специальной выписной, с диагностическими рентгеновскими кабинетами и с аппаратными, с гипсовой перевязочной и манипуляционной, с открытой столовой на воздухе и с залом-столовой, в котором можно показывать кинофильмы, а старухе Бакуниной хвастался терапией, точно такой, как видел сегодня в журнале, – не типовым проектом, сочиненным артелью бездарных архитекторов, а настоящим, вдохновенным и разумным, легким и прочным зданием, где каждый метр полезной площади был использован остроумно и целесообразно, где не торчали перед зданием проклятые, дорогие «типовые» колонны, где все было рационально и соразмерно, короче – талантливо.
А Митяшину он написал о котельной и об электроподстанции, о каландрах для прачечной и о центрифугах, о дезинфекционных бучильниках нового типа и о передвижных шкафчиках с мармитами, в которых можно развозить по палатам действительно горячую пищу.
«Суп прямо из Парижа!» – стуча на машинке, подумал Устименко хлестаковской фразой и улыбнулся. Возможно, что он и Хлестаков, так не для себя же, и все, что он пишет, не выдумано – он хочет, чтобы именно так, а не иначе было в городке. Он хочет и добьется, дешевка себе дороже, а мы не так богаты, чтобы строить дешевые больницы. И еще раз с раздражением вспомнился ему его личный враг – универмаг с колоннами из зеленого камня, которым почему-то, с легкой руки Золотухина, облицовывали в Унчанске всё, что нужно и что не нужно. И здание государственного банка, тоже с колоннами, и восстановленный «Гранд-отель» с пущенной по фасаду ядовито-зеленой полосой. Вспомнилась ложная монументальность, дикой дороговизны люстра из меди… Откуда этот размах за казенные деньги, это расшвыривание ценных металлов, стекла, камня на никому не нужный шик? «Нет, врешь, будет больница, – выстукивая зазывное письмо Норе и расхваливая климат для Аленкиного здоровья, думал Устименко. – Мне только люди мои нужны, мои – золотые, проверенные, обстрелянные, люди, на которых можно положиться всегда, во всем, как на себя, нет, лучше, чем на себя!»
На машинке он щелкал часов до двух, пока на кухню в халате, в туфлях на босу ногу не вышла Люба – пить воду.
– Ужасно соленую селедку ели на ужин, – пожаловалась она, – что-то страшное. Прямо словно наждаку наглоталась. Господи, третий час, а вы не спите!
– У меня нынче день удачный, хоть сабантуй устраивай, – похвастался Владимир Афанасьевич, потягиваясь с хрустом. – Бывает, что не задастся, а тут все вдруг задалось.
Он сидел в полосатой морской тельняшке, широкоплечий, побледневший от усталости, но еще возбужденный своей «хлестаковщиной». И глаза его излучали мирный, греющий свет.
– Вон какую гору писем накатал, – произнес он, кивнув на заклеенные конверты. – Все докторов к себе сманиваю. Наобещал им невесть чего, одна надежда, что не поверят.
– Это которые с вами работали?
– Со мной.
– Поверят и приедут.
– Со мной работать тяжело, – искренне произнес он. – Это после двух ночи я вроде бы тихий становлюсь, когда от усталости ничего не соображаю. А поутру точно как на воротах пишут: «Осторожно – злая собака». Так что вы будьте, родственница, готовы, нахлебаетесь со мной горя.
Люба молчала.
– Не верите?
– Верю. Но вы меня не возьмете.
– Почему это? – удивился Устименко.
– Потому что я со своей работы сбежала. – Губы ее дрогнули, в глазах мелькнул и погас злой, короткий свет. – Я дезертир. Оставила больных, оставила больницу и на рассвете сбежала. Вера меня и предупредила: ты, сказала, с ним даже и не заводись на эту тему. И причины не объясняй. Он, то есть вы, всегда за больных, во всем. И если они брошены, ты с ним не договоришься. Какие бы доводы здесь ни были. Это так?
– Пожалуй, так, – не торопясь, но все еще глядя на Любу, ответил Устименко. – Я числю себя и по сей день военным врачом со всеми вытекающими отсюда последствиями.
– Это как?
Мирно греющий свет в его глазах сменился тусклым, усталым выражением. И оживленное доселе лицо тоже сделалось замкнутым и строгим.
– Как? – переспросил он. – Приехала ко мне сюда такая тихая докторша. Фамилия Воловик. В сорок втором высыпали немцы ошибочно на ее медсанбат парашютистов. Стали парашютисты ножами резать раненых. А моя Воловик сидела в это время в своей землянке, и вдруг в окошечко – такое, под самым накатом – увидела немецкого офицера. Она через окошечко в него и выстрелила – надо отметить, с хорошим знанием анатомии. Упал мертвый фриц. «Раз», – сказала себе докторша Воловик. И дождалась второго, а потом и третьего. Землянка звуки выстрелов гасила, а науку, повторяю – анатомию, Воловик знала на «хорошо» и на «отлично». Потом, разумеется, сделался у нее сердечный припадок, но сути дела это не меняет. Она осталась со своими ранеными до самого последнего конца. И свой долг выполнила…
– Но мои обстоятельства…
– А это, дорогая родственница, меня не касается. Ведь эти обстоятельства могут всегда возникнуть, эти или иные безвыходные. Только больные ни в каких обстоятельствах не повинны. Так что уж вы, родственница, меня от этого дела увольте.
Он аккуратно, словно карты, стасовал конверты с письмами, закрыл пишущую машинку исцарапанной крышкой, застегнул сверху ремешок.
– Это окончательно? – спросила Люба, вглядываясь в Устименку печальными глазами. – Вы уверены, что вы правы? Или мне все-таки рассказать вам сюжет, из-за которого я убежала?
– Да что сюжет, – совсем уж скучным голосом произнес Владимир Афанасьевич. – Один сюжет, другой сюжет, у всех свои сюжеты. А какие сюжеты у больных? Какой сюжет может быть у больного, который прикован к своему койко-месту и ждет-пождет, когда к нему его добрый доктор заявится? А добрый доктор ищет, где ему поглубже. Нет, уважаемый доктор, нет бога, кроме бога, и Магомет – пророк его. На этом стоим. Спокойной ночи.
Люба поднялась. Туфля упала с ее ноги, она наклонилась над ней и долго просидела в этой неудобной позе. Ей было страшно. Так бы сказал и Вагаршак. Совершенно так же. Им, никому, никогда нет дела до того унизительного и горестного, что составляет немалую часть жизни человеческой. Они абсолютно уверены, что со всем этим можно справиться, только нужно уметь «взять быка за рога».
– Спокойной ночи, – сказала Люба.
– Спокойной ночи, – машинально ответил он.
А утром, когда Люба проснулась, Устименко уже ушел в больницу.
НЕПРИЯТНОСТИ
Этот день начался для Евгения Родионовича даже некоторым сюрпризом: едва он вошел в свой просторный, о пяти окнах, кабинет, как зазвонил междугородный телефон и старый добрый приятель – в прошлом Мишка Шервуд, а теперь товарищ Шервуд, который осел нынче в столице и многое решал в медицинско-издательском деле, – сообщил, что его, степановский, «Справочник медработника» утвержден в плане и что договор вышлют безотлагательно – приспело время начинать работу.
– Товарищ Шервуд, – закричал Евгений, напрягшись и дуя в трубку. – Товарищ Шервуд, а ты бы к нам наведался. Все-таки родные Палестины. Или пенаты? Приняли бы по наивысшей категории. Ты охотник? Миша, я спрашиваю – охотишься? Ну это – «вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф-паф, – заорал Евгений, – ой-ой-ой, умирает зайчик…» Чего? Рыбалка? И рыбалку сделаем. Нет, я говорю: и рыбалку сгоношим. Как парикмахер повесился – знаешь? Записку какую оставил? Написал: «Все равно всех не переброешь!» Так и мы! Работаем, работаем, а пенаты ждут. Говорю – ждут палестины…
Он всегда путал пенаты с палестинами, но и Шервуд в них не слишком, видимо, разбирался, так что все сошло благополучно.
– А ты поспешай, – бархатным голосом заключил беседу Шервуд. – У тебя имеется чутье к темам, нужным народу, мы это отмечали на коллегии. И эту брошюрку подработай – «Целебные силы природы». Она в плане. И в дальнейшем не отрывайся от идеи популярной книги, массовой книги, понятной книги. От этого комплекса, товарищ Степанов, многое зависит.
Заключал Шервуд, по обыкновению, долго, а Евгений слушал и кивал, секретарше же Беллочке казалось, что кивает не он, а телефонная трубка, и дергает за собой Степанова.
– Почта, – сказала секретарша, когда Евгений Родионович тепло попрощался с Шервудом. – Сегодня порядочно.
– Порядочно, – вздохнул он, – а когда мне над книгой прикажете работать? Беседу мою слышали? Сам товарищ Шервуд лично звонил.
Беллочка сказала, что понимает.
– Торопят, – пожаловался Евгений Родионович. – А домой я прихожу измотанным, нервы напряжены, принять бы люминалу да в постель…
И, принимая от секретарши пачку конвертов, он посетовал:
– Вы бы, дорогая, сами эту писанину разбирали. Глаза лопаются читать малограмотные строчки. И чем я могу помочь, если в больницах нет мест? Можете совершенно спокойно отвечать от моего имени, но, конечно, вежливо – на нет и суда нет. Война, разрушения, еще не восстановились… Да нет, эти уж я посмотрю, а завтра…
Беллочка ушла, Евгений заперся, сделал гимнастику «для тучных» – при отце он стеснялся заниматься этими сложными манипуляциями, – потом позвонил Геннадию Павловичу Голубеву, референту Золотухина, и сообщил ему, что доктор Богословский приехал и уже даже акклиматизировался.
– Ну и что? – спросил Голубев, который, в отличие от своего шефа, разговаривал решительно со всеми в Унчанске и в области грубо, считая, что имеет дело только с «нижестоящими», в то время как для аппарата, соединяющего область с Москвой, у Геннадия Павловича был наготове совсем даже иной тембр голоса, не то чтобы ласкающий, но с готовностью и без всяких «ну и что?».
– А то, что вы это товарищу Золотухину доложите, – вдруг взбесился Евгений, который в последнее время стал настолько уже начальником и притом привыкшим к начальствованию начальником, что мог себе позволить в некоторых исключительных случаях и вспылить, и накричать, и поставить на место. – Понятно вам? Доложите, и только. А насчет «ну и что» – это не наша с вами забота.
Хамоватый Геннадий, видимо, доложил тотчас же, потому что Беллочка, испуганно просунувшись в дверь, которую она открывала из приемной своим ключом, сообщила:
– Зиновий Семенович на проводе.
– Добрый день, товарищ Золотухин, – кланяясь телефону, сказал Евгений, – да, насчет Богословского. Но если позволите, то мое мнение все-таки, товарищ Золотухин: не привозите вашего Александра. Одну минуточку. Он же в специальной клинике, а тут даже условия ему не могут быть созданы на данном этапе… Простите, но поручиться никто не может, тем более я. Совершенно согласен, но доктор Устименко – человек крайностей, рисковый, так же как и Богословский… Это очень верно, но кем-то из авторитетов было сказано, что иногда нужно иметь мужество, чтобы не оперировать…
Он помолчал, послушал, потом сказал покорно:
– Слушаюсь!
И, положив трубку, длинно выругался – ругательство относилось к Устименке. И тут, почти машинально, он вскрыл этот проклятый конверт – после дюжины безобидных просьб, жалоб, служебных весточек, приложений к отчетам…
Это был почерк Аглаи. Он сразу понял, едва взглянув. И понял, что с ней плохо, с ней самое худшее из того, что он мог предположить, – худшее и для нее и для всех других, связанных с нею родственными узами.
Она была жива, и она находилась в заключении.
Карандашом она исписала лист бумаги, вырванный из школьной тетрадки. Буквы были неразборчивы, некоторые слова целиком стерлись, но он прочитал «арестована», «этапирована», «подозреваюсь, хоть и…», «была на Колыме», «Тайшет», «силы уходят», «надежда написать в ЦК», «Володя погиб», «надеюсь выбросить из вагона – добрый человек перешлет дальше», «всегда честно».
Держа письмо в зажатом кулаке, Евгений поднялся, налил себе воды из графина, стоящего возле окна, спустил на дверном замке собачку, чтобы секретарша не смогла войти, и вновь принялся за письмо. Потом аккуратно положил треугольничек обратно в конверт, конверт сложил пополам и спрятал в бумажник. Механические движения всегда успокаивали его, и он несколько раз без всякого смысла вынимал письмо Аглаи из конверта и вновь его туда укладывал, а потом, спрятав окончательно, написал без помарок на большом, с полями, листе бумаги заявление здешнему начальнику Управления, бывшему спасителю Богословского, недавно пострадавшему из-за Варвары Штубу. Штуб был членом бюро, и там, докладывая, Евгений всегда дивился обилию знаний у этого коротконогого, головастого человека, который, если и задавал вопрос, то толково, а если выражал свое мнение, то основательно и с пониманием дела. Сам далеко не ума палата, Евгений все-таки научился разбираться по малости в том, кто глуп, а кто умен. Но тут, будучи, мягко выражаясь, несколько возбужденным по поводу получения треугольничка буквально с того света, Евгений Родионович и заявление свое написал в стиле растрепанном, с визжащими звуками и с ненужными заверениями в своей проверенной суровыми днями войны преданности нашему государственному устройству, Коммунистической партии, а также, разумеется, лично вождю и учителю…
Штуб Евгения Родионовича принял незамедлительно. Он был один в своем большом, мрачном кабинете и пил жидкий чай, проглядывая газеты и хмурясь, когда, деликатно постучавшись, Женя вошел.
Здесь березовыми, сухими и толстыми поленьями жарко топилась старинной кладки изразцовая печка с широким, как у камина, жерлом, и от веселого потрескивания дров и яркого огня Евгений Родионович несколько взбодрился и довольно-таки глуповатым голосом, с излишней, но свойственной ему в минуты душевной тревоги развязностью сказал:
– Здравствуйте, товарищ Штуб. «Не ждали» – какого это художника картина? Так это я – Степанов.
– «Не ждали» – картина Репина, – спокойно ответил Штуб. – Здравствуйте, Евгений Родионович.
– Ну, как самочувствие? – докторским голосом осведомился Женька. – Надеюсь, ребро больше не беспокоит?
Он хотел было похвастаться познаниями Устименки, но хлопотливо подумал, что в связи со всем прочим лучше эту фамилию сейчас вовсе не упоминать, и выразил лишь свое мнение о пользе консервативного лечения.
– Я про свое ребро и думать забыл, – сказал Штуб.
– А мы было сильно встревожились, – напомнил о своей активной помощи в ту пору Евгений, – я, между нами говоря, со многими консультировался.
– Зачем же было людей тревожить?
– Как же не потревожить, если случилось такое происшествие.
Наступила маленькая пауза. Женя подумал, что неудобно ему не знать звания Штуба – полковник он или генерал, – здесь хорошо было бы обратиться, как положено в этих ведомствах, но спрашивать он не счел возможным. Штуб аккуратно сложил газету и еще подождал.
– А у вас нечто вроде камина, – произнес Степанов. – Все-таки уютнейшая штука – живой огонь. Пламя. Все эти паровые отопления человеческому организму не слишком полезны, это я знаю как врач.
– Да, живой огонь – приятная штука, – согласился Штуб.
И опять наступила пауза.
«Как начать-то?» – с тоской подумал Евгений.
Штуб снял очки, протер их платком, надел и взглянул на часы.
– Простите, – воскликнул Евгений, – понимаю, как в вашей работе напряжено время.
– Почему же, – возразил Штуб, – оно не напряжено, только я не люблю, когда оно пропадает зря…
И, слегка пригнувшись вперед над столом, он спросил:
– Ведь вы по делу?
– Разумеется, – заторопился Женя, – конечно же, и по самому неотложному. Для меня, во всяком случае, оно неотложное…
И жестом решительным и немножко даже театральным он положил на стеклянное покрытие огромного и ничем не занятого стола свое заявление с присовокупленным к нему конвертом, к которому скрепочкой был прищемлен треугольник, написанный Аглаей Петровной.
Прочитав и заявление с заверениями, и письмо Аглаи и разглядев отдельно конверт – не написано ли на нем что-либо, Штуб разгладил короткопалой рукой все доставленное Степановым и произнес:
– Вот ведь странно. На прошлой неделе ко мне наведывался ваш отец, Родион Мефодиевич, за советом, где ему искать вашу мачеху. Судили мы с ним, рядили…
– Ну? – почему-то очень тихо спросил Женя.
– Судили-рядили, – повторил Штуб, – и пришли к заключению, что вашу мачеху надобно энергично искать. Возможно, она и погибла в войну, но не исключена надежда, что она жива. После такой войны самые разные неожиданности случаются…
Степанов разом и обильно вспотел.
– Значит, вы не были в курсе ситуации? – спросил он.
– Нет. А теперь буду. Аглая Петровна, видимо, попала в какой-то переплет, из которого ей трудно доказать свою невиновность в обвинениях, которые могут быть предъявлены…
Было заметно, что Штуб оживился.
– Значит, – неопределенно начал было Евгений, но полковник перебил его. И перебил довольно сердито:
– Значит, что вашему батюшке, вам, сестре вашей надо начинать искать…
– Нам самим? – воскликнул Женька, обтирая потное лицо платком. – Но удобно ли это, например, отцу в его положении?
Штуб нетерпеливо-насмешливо взглянул на него, и Евгений понял, что задал совсем уж никчемушный вопрос. Но, с другой стороны, Штуб, по его мнению, вел себя по меньшей мере странно, учитывая занимаемую им должность. Какие такие поиски может он рекомендовать, если Аглая осуждена. Самый факт осуждения осуждает и возможность поисков.
В это мгновение зазвонил телефон, и Штуб, взяв трубку, вдруг очень повеселел и воскликнул молодым для его лет, праздничным даже голосом:
– А, Сережа? Заявился, сокол ясный? Ну как – в основном?
Прижав телефонную трубку головой к плечу, он протер очки, приговаривая все более радостным тоном:
– Так, так, молодец. Это точно, это так я и предполагал. Да нет, через полчаса освобожусь. Это мы обсудим. Молодец как соленый огурец!
Сказав «огурец», он слегка сконфузился: это было Зосино слово из домашнего обихода.
– Какой огурец? – не понял по телефону Колокольцев.
– Так в одиннадцать тридцать, – взглянув на ручные часы, велел Штуб. – Ясно? – И вновь оборотился к Евгению.
– Я, естественно, предполагал, – уже совсем глупо принялся тот себя дополнять и развивать, – думал, поверьте, всерьез обдумывал, что если ее партизанская группа действовала в нашей области и если с ней что случилось и с ее… уж не знаю… лжепартизанами или подлинными партизанами…
– Почему же «лжепартизанами»? – со сдержанным раздражением перебил Штуб. – Она действовала совместно с партизанами. Это мы теперь хорошо знаем. Но больше мы ничего не знаем, хоть знать будем!








