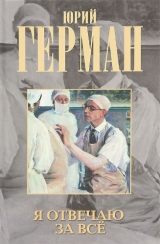
Текст книги "Я отвечаю за все"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
– Я тебе противна?
– Ты ленивая девочка, – утверждал он. – Но еще не все потеряно…
И улыбался – светло и остро:
– Я этого не потерплю. Я буду бороться с твоей леностью и с тем, что ты нелюбопытна, всеми средствами. Вплоть до жестокостей. Я перекую твой характер. Учись на моих глазах!
Они занимались теперь вдвоем, вернее, занималась она, а Вагаршак читал книги, какие-то записки, которые ему давали оба новых военных профессора, печально посвистывал, глядя в мутное окно своего запечного жилья. Если случалось «сырье», Люба варила суп, он же и второе. Вдвоем им было легко и весело, с каждым днем, с каждым часом она все больше, все глубже и серьезнее любила этого длиннорукого, то медленного, а то вдруг исполненного бешеной энергии странного взрослого мальчика, юношу-мужчину, который ни с того ни с сего начинал ей рассказывать истории о повадках дельфинов, или о муравьеде, или о летучей мыши. Глаза его при этом вспыхивали, все ему было интересно, этому Вагаршаку, все казалось еще непонятным или не до конца понятным, он умел радостно удивляться и однажды так рассказал ей о скрытых силах человеческого организма, о его резервах и возможностях, что она – медичка, и неглупая, – просто ахнула.
– Знаешь, прямо – Гомер! – сказала она.
– Да, величественно! – ответил он, улыбаясь черными глазами потому, что ей понравилось его повествование. – Но надо научиться по-настоящему командовать этими резервами сил. Мы еще совсем темные ребята в этой области.
– Послушай, из меня получится врач? – спросила она его однажды.
– А из меня? – спросил он, взяв ее голову в свои большие, горячие ладони. – А? Получится?
Он поцеловал ее в полуоткрытые губы и сказал внезапно серьезным голосом:
– Вот что, Любочка. Давай выясним наши отношения.
– Давай, – ответила она.
– Я тебя люблю, – сказал Вагаршак, и огонь в его глазах погас – Люблю. Но пожениться мы не можем.
– Здравствуйте, – удивилась она. – Почему это не можем?
– Потому что я не хочу портить твою жизнь.
– А чем ты мне можешь испортить эту мою жизнь? – робея от его решительности, спросила она. – Своим характером?
– Нет, не характером. Моей биографией. Ты способная девочка, хоть и ленивая. Тебе все дороги открыты. А если у тебя мужем буду я, мало ли… И ты сделаешься яблочком, которое недалеко падает, помнишь Елкина?
– Вздор! – крикнула она. – Бред!
– Конечно, – почти весело согласился он, – но, как пишет в письмах твоя сестра, «жизнь есть жизнь». И вот, представляешь, в один из дней это все тебе надоест. Нет, ты мне не скажешь, но я-то почувствую…
– Ты просто не хочешь на мне жениться, – рассердилась Люба. – Это как в фельетоне из довоенной газеты: ты бытовой разложенец – вот ты кто! И пусть наше дело разберет студенческий коллектив!
– Пусть! – с нежностью глядя на нее, сказал Вагаршак. – Я очень люблю, когда мою личную жизнь обсуждает здоровый студенческий коллектив. И все-таки я на тебе не женюсь, Любочка.
– Но ведь я и так твоя жена, что бы там ни было!
– Бросишь! – сказал Вагаршак. – Надоест! Или посоветуешь мне покаяться и отмежеваться от родителей, и тогда мы поссоримся.
– Ты просто боишься своей тети Ашхен, – огрызнулась Люба. – Сам же говорил, что она ревнивая и не позволит тебе жениться.
– Тетя Ашхен очень ревнивая, – почему-то с удовольствием произнес Вагаршак. – Но она тебя полюбит. Тебя нельзя не полюбить, но и она понимает то, о чем я тебе сказал. Только, пожалуйста, Любочка, договоримся еще по одному вопросу. Если мы поженимся – нас при распределении направят работать вместе. И тогда все то трудное, что ожидает меня, придется делить и тебе. А если же…
Она не дала ему договорить.
– Ладно, – услышал он ее вконец разобиженный голос, – отложим ваше попеченье на будущее воскресенье. Не нужны мне никакие твои загсы. Обманул девушку и задал стрекача, все вы такие – мужчины!
Вагаршак погладил ее по голове.
– Уйди, – сквозь слезы сказала она. – Дай пореветь над своей растоптанной жизнью…
Она ревела, он думал.
– Я все равно тебя дождусь! – сказала она. – Слышишь?
– Я бы хотел этого…
– Правда?
– А ты не знаешь?
– Но когда?
– Тетя Ашхен говорит, что это не может вечно продолжаться.
– Если бы ты только не влюбился без меня, – в сердцах сказала Люба. – Ты красивый, талантливый, приедешь куда-нибудь – и сразу они начнут над тобой порхать, окружать тебя чуткостью, понимающе смотреть в глаза. Ох, как я их знаю – их всех…
Накануне дня, когда их должны были распределять, она спросила:
– Может быть, все-таки поженимся?
– Нет! – сказал он глухо. – И не стоит об этом говорить!
Всю ту последнюю ночь Люба проплакала. Вагаршак сидел на низком подоконнике, курил самокрутки и, коротко вздыхая, молчал. На рассвете, когда они лежали обнявшись, истомленные любовью и наступающим расставанием, Вагаршак произнес:
– Неизбежности нашей разлуки, конечно, нет. Но существует одно обстоятельство, которое ты не можешь не понимать. Моя биография может толкнуть меня на известный компромисс. Какой – я еще не знаю точно. Любимая жена, именно любимая, при обстоятельствах, которые не нуждаются в уточнении, может толкнуть на компромисс с совестью, с долгом, с тем, что я хочу делать. И тогда любимая женщина станет врагом.
Люба приподнялась на локте. На своем лице она чувствовала дыхание Вагаршака.
– И я возненавижу любимую женщину, – произнес он спокойным голосом. – Я сделаю один только шаг к этому компромиссу – и наша жизнь будет кончена.
– А разве я не смогу тебя удержать от этого таинственного шага?
– Как, если я совершу его во имя нашей семьи?
– Значит, я могу считать, что мы женаты, но ты уехал пока в длительную командировку?
– Можешь, – притягивая ее к себе, сказал он, – можешь! На Северном полюсе или еще где-нибудь, где нет ни одной женщины. Где есть только работа. И совсем не опасно, даже беспокоиться нечего, такой уж полюс. Тут дело не во мне, Любочка, а в тебе.
Она еще ближе наклонилась к нему.
– Во мне? Но я ведь больше никого и никогда не полюблю.
– Тогда давай считать, что мы женаты.
– Это как? – даже не поняла она.
– Гражданским браком, – вглядываясь в ее бледное лицо, произнес он, – подлинным гражданским браком. Без штемпеля в паспорте. Без яблочка от яблоньки. Вот и все. Такой вариант тебе подходит?
Такой вариант ей подходил.
И все-таки у нее было тяжело на сердце.
Она проводила его на вокзал, а сама уехала на другой день. И ехала, как сейчас, тоже на верхней полке, и тоже было жарко, только тогда были почти одни военные, еще шла война, но эта весна была весной Победы.
– Вот видишь как! – сказала она во сне и совсем проснулась.
Ей говорили и сестры, и акушерка, и Клавочка, что она разговаривает во сне. Раньше этого с ней не случалось. А теперь, все это время там, в больничке, она разговаривала с ним во сне.
– Это какая станция? – спросила Люба, ловко съехав с полки.
– Была Сверчковка, – сказала ей молодая женщина, укачивающая девочку. – Надо быть, к Биевке подъезжаем.
В Биевке на станции при свете фонарей, о которые бились какие-то мохнатые, рогатые, незнакомые бабочки или жуки, тетки продавали вареных кур, огурчики в укропе, крепкого, ароматного засола, и из-под полы – лепешки. Покуда Люба торговалась, поезд без гудка медленно двинулся за ее спиной, и она едва успела вскочить на подножку мягкого, спокойно покачивающегося вагона. В одной руке она держала курицу за лапу и огурцы с лепешкой, другой пыталась подтянуться удобнее, чтобы вскочить в тамбур. Ей помогли, она увидела близко от себя веселые, светлые, чуть пьяноватые глаза молодого полковника и тотчас же оказалась в купе, набитом летчиками. Здесь на столике покачивалась четверть красного, маслянистого вина, на диванах были навалены яблоки и груши, пахло разлитым коньяком, какой-то золотистой копченой рыбкой, которую все грызли и дружно нахваливали…
Узнав, что Любовь Николаевна доктор, летчики все наперебой стали жаловаться на болезни и спрашивать у нее лекарств «от сердца», «от мгновенной и вечной любви», «от неудачного увлечения», «от безнадежного чувства». Все они смеялись, и Люба не решилась рассказать версию об «умершем брате». Это было бы диссонансом, тут она нашла другой вариант, оптимистический: едет Любовь Николаевна к сестре, которая вышла замуж и празднует свадьбу.
Этот вариант дал повод к целому циклу разговоров о Любиной личной жизни, о ее увлечениях, о ее будущем муже и свадьбе, которая, разумеется, не за горами. Любовь Николаевна краснела, смеялась, пила красное вино, грызла рыбок, свою курицу, яблоко. На большой, еще не восстановленной после войны станции все летчики уговорили ее пойти гулять, и тут, на перроне, они встретили своего совсем еще молодого генерала, который ехал в «международном» и прогуливался, сделав генеральское, скучное лицо. Заметив и разглядев Любу Габай, генерал заметно оживился и пригласил своих подчиненных, разумеется с их «дамой», к себе в вагон. Здесь летчики пели грустную украинскую песню, Люба ела шоколад и говорила генералу:
– Нет, Федор Федорович, нет и еще раз нет! Терапию целиком отрицать нельзя. В нашей советской терапии есть несомненно и крупные достижения. Конечно, деятельность хирурга более эффектна…
Генерал смотрел на Любу желтыми, жадными, настороженными, кошачьими глазами, ей было жутковато и щекотно от этого взгляда и, разумеется, противно: она чувствовала, что окружена сильными, здоровыми, жадными до нее мужчинами и не без злорадства купалась в этом своем нынешнем окружении, словно в теплом море, побаиваясь глубины и радуясь близости безопасного, людного берега, где как бы дожидался ее Вагаршак, непоколебимый, надежный и спокойный.
«Вот видишь, как я всем нравлюсь, – как бы приглашала она его, чтобы он перестал соблюдать свое мудрое спокойствие, – вот видишь, какие они все самые разные и как я им нужна, могла бы даже генерала завертеть, да что мне все генералы, когда ты у меня есть! Ты же есть у меня, Саинян?»
– Выпейте наливки, – просил генерал, – совершенно исключительная наливка, слабенькая, дамская…
Люба смеялась и качала головой. Ее волосы опять отсвечивали медью, и глаза весело блестели: нет, не может она больше пить, она же не летчик, она всего только врач.
И вдруг ей холодно стало, когда услышала свой собственный голос – «врач». Что же там, в ее больнице? Куда пишут, кому жалуются, где ищут нового врача? Зинаида, наверное, рыдает в голос – давать или не давать Сердюченкову морфин? А если привезли рыбацкого моториста? Будто у него «острый живот»? А если Тося начала рожать?
– Вы что это зажурились? – спросил генерал. – Мамочку вспомнили?
– Нет, свою больницу, – искренне ответила Люба.
– И что?
– Как там мои больные…
– Возьмите нас в ваши больные, – попросил летчик-полковник. – Будет у вас хлопот, не оберешься.
И летчики начали хохотать:
– Нам много лекарств надо…
– Одна докторша с нами не управится…
– Еще подружек потребуем!
– Мы будем лежать, а вы нас посещать…
Она смотрела на них, сдвинув брови. А потом вдруг слезы брызнули у нее из глаз, она вскочила и опрометью бросилась в свой вагон. Полковник с чубчиком и светлыми, веселыми глазами попытался ее удержать, она больно ударила его по запястью и с грохотом захлопнула за собой дверь купе.
– О! – сказал инженер-майор постарше других. – До чего ж в красивом свете показали себя товарищи соколы…
Он свернул папироску из желтого душистого табака, заправил ее в мундштук и, покосившись на генерала, пожаловался:
– Курить – нас научили – при женщине нехорошо. Спрашиваем: «Разрешите?» Китель снять – тоже спрашиваем. А по серьезному счету все равно не научились ничему.
– Это вы мне, Михайленко? – багровея, ощерился генерал.
– Зачем вам? Разве ж я службу не знаю? Себе. Мысли вслух. Разрешите быть свободным?
Поднявшись, он миновал свой вагон, отыскал тот, в котором ехала Люба, нашел ее и от имени своих товарищей перед ней извинился. Она ничего ему не ответила – плакала, спрятав лицо в ладони.
ЕЩЕ ОДИН СКАНДАЛИСТ ПРИЕХАЛ
Прямо из вагона, оставив в камере хранения свой фанерный, с жестяными наугольничками, далеко не щегольский чемодан и побрившись в вокзальной парикмахерской, Николай Евгеньевич Богословский пешком пересек разбитый и изуродованный войной город от станции к Большой пристани на Приреченской улице и с видом независимым и начальственным остановился возле группы каких-то товарищей штатского вида, которые бранились у Тишинских ворот старого Троицкого монастыря.
Товарищи бранились так громко и злобно, что возле них уже собралась изрядная толпа, которая тоже наскакивала, расколовшись во мнениях, то друг на друга, то на уже перессорившихся в шляпах. Все тут были воспаленные от крика, и Николай Евгеньевич далеко не сразу ухватил суть дела. А ухватив, тоже стал наскакивать, перейдя в гневе даже на фальцет. Так как на плечах его были полковничьи погоны, то товарищи в шляпах принуждены были к нему отнестись вежливо, а толпа унчанцев сразу же примкнула к его мнению, и оторвавшиеся от своих местные жители вновь примкнули к большинству, образовав единое и монолитное целое.
Спор шел о том, следует или не следует взрывать стены седого монастыря, построенного еще в екатерининские времена. Какой-то бывалый солдат с усами и с проломанным козырьком фуражки кричал, что стены эти кушать не просят, а места на реке Унче сколько угодно, если строить новый речной вокзал, то, пожалуйста, вон оно, место под взгорьем, – и удобно, и красиво, метров пятьдесят только дороги вывести.
– Красотища же, – сказал другой человек, тоже, видно, вернувшийся с войны, – да и не хватит ли взрывать?
Среди товарищей в шляпах возвышался человек гораздо крупнее их ростом, про которого Богословскому сказали, что это и есть сам Золотухин. Золотухин был без всякого головного убора и в криках не участвовал, он лишь внимательно и строго слушал, вглядываясь в говорильщиков спокойными глазами и слушая все мнения со вниманием и интересом.
– Ну, а вы что, полковник? – осведомился он, обернувшись к Богословскому. – Вы почему ругаетесь?
– Потому что много глупостей навиделся и более их видеть не желаю, – насупившись ответил старый доктор. – Это в Москве приходится ломать, потому что там другого выхода нет, да и то, бывает, нашелся бы, а у нас-то? Аж ветер свищет, земли сколько, зачем же своего прошлого сознательно себя лишать?
Тот, кого назвали Золотухиным, слушал внимательно. Но Николаю Евгеньевичу почему-то казалось, что «сам» хоть и слушает, но «прослушивает», и он выстрелил из пушки:
– У Николая Васильевича Гоголя еще выражена та мысль, что оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя, – таким снарядом ударил Богословский по Золотухину. – Вот я что думаю, глядя на все эти взрывания.
Золотухин вдруг захохотал, и такой был у него великолепный, басистый, раскатистый смех, что даже Николай Евгеньевич, не склонный в данное время ни к каким смешкам, улыбнулся навстречу.
– Вы что же тут, проездом или как? – спросил «сам». – Или, может быть, здешний?
– А почему это вас интересует?
– А потому что, товарищ полковник, многие люди Унчанск минуют, а нам люди позарез нужны.
Народ вокруг, присмирев от начала доброго разговора, попристальнее разглядывал Богословского, и вдруг его кто-то даже узнал, назвал по имени-отчеству и сразу же, заробев, смолк.
– Слышал про вас, – протягивая Богословскому руку, сказал Золотухин, – рад вашему возвращению. Давайте познакомимся. Нам тут скандалисты до крайности нужны, а про вас рассказывают, что вы скандалист из примерных. Так, значит, чем больше ломки, тем больше деятельности?
И, обернувшись к своей комиссии, он сказал не без яда в голосе:
– Так что же, товарищи? Я предполагаю, что со взрыванием над нами не каплет?
Выбравшись из толпы, Богословский, хромая (покалеченная нога уже успела разболеться за рейс через город), спустился к временной пристани и первым занял место в катеришке кубового цвета, наверное на днях демобилизованном из военной речной флотилии.
Осеннее солнце не щедро и без тепла освещало широкие воды Унчи, еще более широкие, чем до войны, потому что и левый, и правый берег выгорели дотла, не было теперь ни длинного ряда пристаней, ни старых приземистых солидных амбаров, ни древних часовенок и церквушек, ни речного вокзала, ни даже деревьев, старых и разлапистых, деятельно оберегавшихся в довоенные годы специальной пионерской дружиной. Теперь Унча текла, как триста – четыреста лет назад, среди пологих пустынных берегов, одряхлевшая, медленная, сонная…
«И приехать толком не успел, а уже в скандалисты зачислен, – подумал Николай Евгеньевич, – кто же это меня успел эдак ославить? Пожалуй что Женька Степанов, куриная рожа, более некому. Или Устименко на меня успел сослаться в своей запальчивости?»
Пожилая женщина-матрос убрала шаткие сходни, медленно, с сопением и судорогами заработал мотор, катер неторопливо отработал задний ход. Крепче засвистал речной ветер. Богословский нашел чурку, поставил ее на попа, упористо сел, натянул покрепче фуражку. Пассажиров было немного: молчаливые, с темными, усталыми лицами, больше в ватниках и шинелях, они пристраивались так, чтобы сразу же задремать, сохранить силы, и даже детишки были тихие, не баловались и тоже искали, где потеплее можно соснуть. А поблизости расположилась старуха с внучатами; открыв жестяную банку, она стала их кормить чем-то до того несъедобным и неаппетитным, что Богословский покруче отвернулся – тошно было видеть.
Когда катеришко, лихо развернувшись, выскочил на фарватер, Николай Евгеньевич тихонько запел. Он пел так, что никто не слышал, пел и сам не замечал, пел, как во время сложных и длинных операций:
Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда заветная,
Ты у меня одна приветная,
Другой не будет никогда…
Речной ветер с ровной и спокойной силой дул ему в лицо, он, прищурившись, смотрел в далекую даль и совершенно не замечал, что по его щекам бегут слезы: ведь он ехал туда, где его никто не встретит, но где его встречали и ждали столько лет подряд. Он ехал не для того, чтобы поздороваться, а чтобы попрощаться навсегда, и уже здесь, на катере, прощался и отрывал от себя ту жизнь, которая была раньше, чтобы можно было делать свое дело и жить дальше.
У него и водка была с собой припасена, чтобы прощание прошло легче, чтобы оглушить себя, как оглушали в пироговские времена, еще до эфира: перед тяжелой ампутацией Николай Иванович Пирогов приказывал «поднести» раненому кружку водки, боль переносилась легче.
«Да, впрочем, и я некоторым образом ранен!» – усмехнулся Богословский и поправил привычным жестом повязку на животе. Пора было забинтовать себя наново, он перевязывал себя пять раз в сутки, такой уж выработался распорядок, но в вагоне производить эти манипуляции было неловко, и он все откладывал до «попозже».
В Черном Яре не было ни пристани, ни церкви, ни самого Черного Яра, ни больницы, которая именовалась «аэропланом». Немцы здесь все подорвали и выжгли, держа оборону между Унчой и Янчой. Речное начальство бедовало в каком-то кособоком вагончике, наверное немецкого происхождения, из землянок по откосу вились дымки – и там жили люди, от «аэроплана» остались кирпичи и часть фундамента, а домик, в котором жительствовали Богословские семьей, исчез вовсе, Николай Евгеньевич даже следов его не смог обнаружить. Был только пепел, спекшиеся головни, недогоревшие бревна, разбросанные, черные от копоти кирпичи и ячейки фрицевских таинственных укреплений, коридорчики ходов сообщений, серые норы – там они гнездились в глубине земли, когда их отсюда вышибали.
Здесь, приблизительно в том месте, где когда-то квартировали Богословские и где быстро, всегда быстро бегала Ксения Николаевна, где он любил и был любим и в вёдро, и в непогоду, здесь, где дочка и жена мешали ему болтовней и он на них сердился, здесь, где раздражал его скрип качелей и глухой стук волейбольного мяча, здесь, где он не ценил того, что дала ему судьба, – тут он со всем этим попрощался, потому что могил не было: жена и дочка ведь не умерли, их уничтожили.
Постелив шинель на низком взгорье, кряхтя от боли, Богословский прилег на бок, прислушался к мертвой тишине, привычно завладевшей бойким когда-то городишком, крепко сжал зубы, чтобы не текли больше слезы, налил себе солдатскую кружку водки и выпил ее залпом, не морщась и не отрываясь, а потом, сердясь на себя и не по-докторски брезгуя той нечистотой, которая теперь сопутствовала ему всегда, если он вовремя, минута в минуту, не занимался «туалетом своей раны», сделал себе перевязку, сжег грязное и только тогда лег на бок и укрылся полою шинели, ожидая, покуда хмель поможет жить…
– Вот, Ксюша, я теперь-то, – сказал он, дрожа и от боли после перевязки, и от холода, и от усталости, – вот, брат, я какой стал, понимаешь ли…
Разумеется, хмель ничему не помог, даже слезы потекли обильнее, и никак он их не мог остановить, ослабевший, одинокий, замученный, старый человек.
Так пролежал он порядочно времени. Мыслей вначале у него никаких не было, он от них отбивался, от проклятых, живых, неотступных воспоминаний, но потом голова прояснилась, дыхание стало ровным. Богословский сел и заставил себя думать и решать…
Этот недлинный осенний день весь прошел у Николая Евгеньевича в размышлениях. А к вечеру, когда над Янчой пошли косяки диких уток, прежнее твердое выражение глаз вернулось к Богословскому. Еще раз он постоял возле руин «аэроплана», оглядевшись, чтобы никто не видел, глубоко, земно поклонился Черному Яру, своей семье, своим докторам, своему прошлому, здешней своей зрелой молодости, своим спорам, боям, годам, когда он только «из небытия возникал и утверждался лекарем», по выражению покойного Полунина, – поклонившись, он еще огляделся и пошел к катеру, который уже подваливал, идя в обратный рейс в Унчанск.
Первого знакомого Николай Евгеньевич повстречал только в вокзальном «туалете для мужчин». Это был бравый старик с бородкой, которому, по его устному заявлению, Богословский лет с десяток назад вырезал «огромадную часть». На вокзале после войны старик заведовал «вот этим всем делом», – он не без гордости кивнул на кафельные стены, на переплетения труб, на прочую аппаратуру – «более сорока кувертов», – красиво и по-старинному выразился он. Кроме того, он чистил обувь «кремами своего производства» и почти насильно вычистил старые сапоги Богословского аж двумя ваксами и еще каким-то раствором. Здесь же он помог Богословскому умыться горячей водой из котелка и дал ему иголку, чтобы пришить подворотничок.
– Ты не стесняйся, – сказал он напоследок доктору, – если что, захаживай. Могу денег одолжить, пожалуйста: чего-чего, а на заработки грех роптать. Нонче человек, и воинский и статский, любит сапоги почистить. Недорого, а все обличье другое. Ну и одеколончиком спрыснуться – тоже доход…
Пообедал Богословский в «Гранд-отеле» тщательно, до того, что самому было противно, когда выбирал себе пищу, а потом сел в такси и поехал в сторону больничного городка, где долго ходил меж фундаментами, лесами и руинами, отыскивая ту хирургию, где предстояло ему работать.
Наконец он нашел это здание. Все в строительных лесах, оно светилось двумя этажами окон за угрюмыми останками бывшей клиники Постникова, выходившей искалеченным фасадом на улицу, когда-то густо застроенную и плотно заселенную, в старопрежние времена именовавшуюся Ионовскою – в честь купчины Ионы Крахмальникова, а впоследствии переименованную в Сеченовскую – в честь знаменитого ученого.
– Н-да, пошуровали тут фрицы, – про себя произнес Богословский, со злой печалью оглядывая картину разрушений, еще более зловещую в наступающей тьме сырого и холодного вечера, под крики воронья. – Да-а, показали себя…
Старчески покряхтывая от непереносимой усталости, Николай Евгеньевич еще прошагал по разбитой и размытой дороге и потянул к себе клейкую от свежей краски дверь. Зазвенел блок пружинами, нянька в вестибюле, оставив рукоделье и сделав строгое лицо, зашагала посетителю навстречу, чтобы воспрепятствовать его попытке незаконно проникнуть в доверенную ей больницу.
– Сейчас поздно, товарищ офицер, – сказала она, – сейчас никакого впуска уже нет и передач не принимаем.
– А я, нянечка, не к больным, я сам врач, и нужен мне ваш Владимир Афанасьевич.
Ответить старуха ничего не успела.
Со второго этажа в это самое время спускался Устименко, еще не снявший халата. Темные брови его резко и четко выделялись на бледном лице.
– Николай Евгеньевич? – сразу узнав, издали, не повышая голоса, спросил Устименко. – Вы?
Тот молчал, радостно и гордо вглядываясь в своего выученика. Похудел только что-то. Или это тоже возраст? Не старость, но возраст мужества.
– Чего молчите? – подойдя вплотную, спросил Устименко. – Разыграть собрались? Я же вас все равно всегда узнаю…
– Сейчас, погодите, досчитаю, – не без удивления услышал Устименко.
– Что досчитаете?
– Досчитаю, именно каким нумером сюда приехал, – что-то про себя шепча, сказал Богословский. И добавил: – Шестьдесят седьмым.
– Это что же такое?
– Это нумер места деятельности за прожитую жизнь. Определяюсь нынче под ваше просвещенное начало, пройдя шестьдесят семь больниц, клиник, лечебниц, госпиталей, медсанбатов, санитарных поездов и прочих заведений, рассчитанных для помощи страждущим. Еще на улице Ленина начал считать, да все сбивался. Теперь давайте, Владимир Афанасьевич, поздороваемся…
Старый доктор опустил на пол свой фанерный чемодан с наугольничками, обнял Устименку, прижал к себе могучими еще руками и объявил:
– Вот, свиделись два хромых черта. Хорошо, что хоть на разные копыта охромели, меньше комичности в нас станут примечать. Чего бледен-то, Владимир Афанасьевич?
– Строимся, – сказал Устименко, подбирая с полу чемодан Богословского.
– Это здание уже тобою учреждено?
– Закончено лишь мною. Ну пойдемте же!
В кабинете главного врача Богословский спокойно выслушал, что «некоторое время» ему и ночевать придется тут, на диване, так как квартиры еще не выделены.
– Да что вы! – усмехнулся Николай Евгеньевич. – А я-то, старый дурошлеп, думал, что нашему брату врачу в первую голову выделяют. Привык к этому. Избалован.
– Это вам не война, – ответно усмехнулся Устименко.
Давешняя нянечка принесла им цикорного чая, упредив, что он «б. с.», то есть без сахару, и по тарелочке каши из пшенички, что было, разумеется, незаконно, так как Женька Степанов уже издал приказик, «рекомендующий» врачам «из больничных кухонь питания не получать». Но нельзя же было не покормить нового доктора, хоть по первости, и нянечка распорядилась грозным именем Владимира Афанасьевича. За цикорным напитком Устименко осведомился:
– Что ж это вы, Николай Евгеньевич, пропали? Я уж и надеяться перестал. И ни словечка от вас.
– Оперировался.
– Нога?
– Зачем нога. Нога – шут с ней. Я бы только, Владимир Афанасьевич, не хотел никакой прежалостной музыки, – он сказал «музыка», с ударением на втором слоге. – Не хотел бы слов и движений…
Устименко пожал плечами:
– Не понимаю.
– Понять – дело нехитрое. Рак желудка, тот самый, про который нас утешают, что лет через сотню с ним будет покончено. Охотно и с радостью верю, но от этого мне покуда что не легче. Итак, резецировали препорядочную толику, разумеется под моим просвещенным руководством. Но так как руководил не только я, а и еще некто с легко воспаляющимся самолюбием, то и напортачили соединенными усилиями так, как только хирурги могут напортачить, те самые, про которых пишут, что у них «умные руки». В результате живу – перевязываюсь пять раз в сутки: дважды ночью, трижды днем.
Устименко спросил:
– И вы не писали?
– Далеко больно писать-то было из страны Австрии в град Унчанск.
– Австрияки над вами так поусердствовали? – невольно впадая в тон Богословского, спросил Устименко.
– Не без них. Там-то я, кстати, и познакомился с господином Гебейзеном. Как он? Прижился?
– Соседи, – сказал Устименко. – У меня комната с кухней, он за стенкой и ходит через кухню. Выучился: на Павла Григорьевича уже откликается.
– Ученый был когда-то крупный, – легко вздохнув, произнес Николай Евгеньевич. – Немножко, конечно, как у графа Льва Толстого, – «Эрсте колонне марширт». Это, конечно, есть, не без греха, но ведь оно могло и в узилище народиться, не так ли? А по молодости, известно, сокрушитель был первостатейный. Интересная это проблема – взаимоотношение тюрем, лагерей ихних и науки. Ежели по господину Гебейзену судить, то наука от содержания ее за решеткой никак вперед не движется. Много фашисты на этом застращивании потеряли своих прибытков…
Богословский задумался ненадолго, словно позабыв о Владимире Афанасьевиче, а Устименко украдкой вгляделся в его жесткое, чуть татарское лицо, в котором теперь были плотно и четко врезаны морщины, в бритую, серебрящуюся щетиной крепкую голову, в целлулоидовый подворотничок, который точно показывал, какая раньше у Богословского была богатырская шея.
«Кормить старика надо, откармливать, – со скрытым вздохом, по-бабьи подумал Устименко, – а где мне харчей набраться?»
В дверь деликатненько постучали – прибежала, узнав о приезде нового доктора, востроносенькая, быстренькая, расторопненькая рентгенологша Катенька Закадычная, Екатерина Всеволодовна, – прибежала «помочь», «прибрать», «покормить». Катеньке всегда казалось, что без ее вмешательства мужчины останутся «неухоженные», и была она действительно ловка во всем…
– Да мы и сами с усами, – смущаясь Катенькиной добротой, сказал Богословский. – Вы, доктор, не беспокойтесь, все отлично улажено, видите – чаевничаем и вас приглашаем.
Устименко молчал.
Катенька выскочила за нянечкой, чтобы «выбрать» Николаю Евгеньевичу «постельные принадлежности» получше, а Богословский осведомился, чего это Устименко набычился.
– Это потом, – ответил Владимир Афанасьевич.
– Что – потом?
– Со временем потолкуем.
– Да она вам что, неприятель?
– Она? Черт ее знает что она такое, – произнес Устименко с брезгливостью в голосе. – А вот не отделаться.
Врач Закадычная Е. В. попала к Устименке против его желания: рентгенолога он не мог найти сам, и Горбанюк ему «такового врача» прислала при бумаге за своей бисерной подписью. В первую же беседу с Владимиром Афанасьевичем Закадычная, быстро облизывая острым язычком губки, созналась, что «имела большие неприятности из-за продуктов питания». Устименко со свойственной ему настырностью выяснил, что Катенька в бытность свою сестрой-хозяйкой пакостно попользовалась сгущенным молоком, предназначенным больным, и была на этом поймана, понеся даже наказание.
– Непонятно, – сказал он тогда своим непрощающим голосом. – Это вы больных обокрали?
Закадычная попыталась вывернуться, но Устименко ее так прижал, как не снилось тому следователю, который вел дело врача Закадычной.








