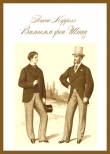Текст книги "Пушкин. Кюхля"
Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 68 страниц)
Сергей Львович всегда был скор на решения, потому что живо все воображал. Он надеялся сбыть мадаме детей с рук, а мадама будет учить их французскому языку и тонкостям. Поэтому взяли, по совету сестрицы Аннет, старушку Анну Ивановну, бедную, но благородную даму, которая легко изъяснялась по-французски и даже могла при гостях сойти за француженку, хоть и не была мадамою в собственном смысле. Востроносая старушка появилась в доме, стала воспитывать детей, пушить их за шалости, лепетать по-французски, водить на гулянье. Марья Алексеевна ее возненавидела. Они с Ариной составили род комплота и стали упорно следить за несчастной. Старушка вскоре была уличена в проступках: жевала тайно сладости, утаенные за столом, во время гулянья заблудилась и потом все свалила на детей, будто бы ее бросивших. «Хороша матушка», – сказала Марья Алексеевна. Наконец, видя себя теснимой со всех сторон, старушка ожесточилась и стала ворчать по-русски. Арина будто слышала даже, как старушка сказала про себя, что до сих пор у арапов не живывала. В тот же день со срамом отказали ей от места.
Мадам Лорж, которая заняла ее место, продержалась более года. С кудерьками, веселым голосом, могучего сложения, она была настоящей мадамой и даже могла делать чепцы по моде – это примирило с нею Надежду Осиповну. Она все в доме заполнила собою, и ропот прекратился. У ней были сильные руки, быстрота в движениях и вполне французская беззаботность. С утра она напевала песенки, шуршала юбками и смеялась, как только француженки могут. На детей она обращала мало внимания. Сергей Львович был счастлив и охотно беседовал с воспитательницей.
Отказала ей разом и вдруг сама Надежда Осиповна. Причиной был сам Сергей Львович, который начал кидать слишком вольные взгляды на сильные плечи французской воспитательницы. Одного такого взгляда было довольно: мадам Лорж удалилась.
Гувернантки не принялись в доме.
Василий Львович приехал с тысячью парижских вещичек, в сапогах а la Souvorov, с платочками, надушенными какими-то воздушными духами, с острым коком, напомаженный и совершенно рассеянный. Он стал еще более косить, не узнавал старых приятелей и много смеялся. Все им интересовались. Говорили даже, что Цырцея собиралась вернуться к своему супругу. Слух, впрочем, оказался ложным: Цырцея выходила замуж, но это его нисколько не обескуражило. Он привез Аннушке высокий гипюровый чепец последнего покроя, чтобы она хоть отчасти напоминала парижскую субретку. О мадам Рекамье отзывался он небрежно:
– Стройна, но лицом нехороша.
Хвалил ее дворец:
– Стекло, стекло и стекло. Везде стекло.
Бонапарт чрезвычайно его занимал. Он должен был подробно описать его наружность. Никто не хотел верить, что Бонапарт так мал ростом.
Василий Львович приседал и подносил ладонь ко лбу, козырьком, чтоб показать рост консула. Потом с законным самодовольством он давал нюхать женщинам свою голову.
Подобно Бонапарту, он учился в Париже у Тальма декламации и в благородной античной простоте, полуобернувшись, декламировал всем, кто желал его выслушать, Расина. Косое брюхо несколько мешало ему.
Он был высокого мнения о парижском балете, значительно отзывался о парижской опере:
– «Цивильский цирюльник» бесподобен.
Много говорил о соперничестве m-lle Жорж и m-lle Дюшенуа.
– У Жорж жестикуляция, руки! – говорил он и протягивал обе руки.
– Но у Дюшенуа – ноги, – говорил он и вздергивал панталоны, – Боже! что за ноги!
Когда вблизи не было дам – дети в счет не шли, их никто не замечал, а они всё слушали, – он, захлебываясь, рассказывал о кофейных домах и их обитательницах. Потом он переводил дух и обмахивался платочком, платочек отдавал еще парижскими запахами.
По утрам он прохаживался по Тверскому бульвару в особом костюме – утреннем; походка его изменилась; он вздергивал панталоны. Женщины на него оглядывались. Не любя ранее Охотного ряда, он стал его неизменным посетителем. Он рассказывал там о лавочке славного Шевета в Пале-Рояле. У Шевета были холодный пастет, утиная печенка из Тулузы и жирные, сочные устрицы. Знатоки шевелили губами, и Василий Львович прослыл гастрономом. Он сам изобретал теперь на своей кухне блюда, которые должны были заменить парижские, и приглашал любителей отведать. Некоторые блюда любители хвалили, но на вторичные приглашения не являлись. Повара своего Власа он звал отныне Блэз. На деле же он более всего любил гречневую кашу.
Карамзин, вообще начавший забывать Пушкиных, отнесся к нему благосклонно. Василий Львович снова вошел в список модных: Карамзин, Дмитриев, Пушкин; он был героем дня – l’homme du jour.
Когда Карамзин возмутился в разговоре гибельным честолюбием Бонапарта, который желает войн и ничего более, Василий Львович глубоко вздохнул:
– Бонапарт опасен! Весьма опасен! – и тут же рассказал, что самые вкусные пряники зовутся в Париже монашками – nonnettes.
Старый генерал на балу захотел было узнать подробности о войне, которую вел Бонапарт, и ругнул его канальей, но тут Василий Львович наморщил лоб и рассердился:
– Мой Бог! Но о войне никто не говорит! Париж есть Париж!
Такой он вольности набрался. Он даже заказал себе кушетку, такую, как у Рекамье; она, полулежа на такой кушетке, принимала гостей и посетителей. На кушетке он и лежал теперь после обеда.
Алексей Михайлович Пушкин утверждал, что Василья Львовича изгнали из Парижа за развратное поведение и что он вывез оттуда машинку для приготовления стихов, состоящую из большого количества отдельных строк. Взяться за ручку, повернуть – и мадригал готов. Князь Шаликов, будучи музыкантом, записывал с голоса Василья Львовича последние парижские романсы.
Вскоре Василий Львович испытал такой удар судьбы, от которого другой, более положительный человек не оправился бы. Дошли ли слухи о его вольнодумстве до духовных властей, пустил ли в ход свои связи богомольный тесть, но духовные власти с новым жаром занялись делом о его разводе. Цырцея провозглашена непорочною, а Василий Львович грешником, каковым и был на самом деле. Синод определил: дать супруге развод с правом выхода замуж, а супруга подвергнуть семилетней церковной епитимье с отправлением оной через шесть месяцев в монастыре, а прочее время под смотрением духовного отца. Против ожидания Василий Львович перенес удар довольно бодро. Он свободно вошел в новую роль невинной жертвы. Милые женщины посылали ему цветы, и Василий Львович нюхал их, удивляясь превратности счастья. Кузен Алексей Михайлович тотчас в смешном виде изобразил епитимью Василья Львовича. Главною чертою в покаянии он выставлял переход Василья Львовича от блюд Блэза к монастырской кухне и утверждал, что Василий Львович в первый же день покаяния объелся севрюжиной. Местоположение монастыря, избранного для епитимьи, было самое счастливое, и Василий Львович, проведший в монастырской гостинице весну и лето, по выражению Алексея Михайловича, как бы снял внаем у Господа Бога дачу. Вообще Москва лишний раз получила пищу для разговоров. Василий Львович, которому сестрицы передавали все вести, чувствовал себя знаменитым. Иногда какая-то горечь отравляла ему это сознание. В славе Пушкиных не было ничего почтенного, а интерес к ним скандальный.
Сергей Львович, который жил как бы отраженным светом братней и кузеновой славы, принимал участие в судьбе его. Александр отлично понимал все вздохи, недомолвки и ужимки отца, то гордые, то самодовольные, то смиренные, когда отец говорил о дяде. Речь шла о славе, о светской славе. Отец был польщен величием дяди и завидовал ему. Дети знали все фарсы Алексея Михайловича о дяде; Сергей Львович наполовину верил им. Иерей, духовный отец дяди, был тайным гастрономом и поэтому слишком часто приходил увещевать духовного сына; кухня Блэза привлекала его: басня, пущенная Алексеем Михайловичем. Но сын бывшего Пушкина рассказывал ее для смеха, Сергей же Львович, более хладный и жесткий, негодовал. Все эти иереи раздражали его. Они разоряли Базиля, объедали его, опивали. О, эти vieux renards de синод![25]25
Старые лисы из синода (фр.).
[Закрыть]
Он, не скрываясь, роптал. Сестрица Анна Львовна, услышав однажды богохульствующего брата, зажала уши и, широко раскрыв глаза, произнесла:
– Брат!
И она приказала детям выйти вон.
У него были два брата и сестра. Братец Левушка, малютка, был любимец; сестрица Олинька, остроносенькая, миловидная и сварливая, жаловалась на братца Сашку тонким голоском. Тетушка Анна Львовна возила ей подарочки – куколки, веерки, – она с жадностью их хранила в своем углу. Братец Николинька был болезненный и белесый.
Он относился к ним, как к стаканам, которые не должно было ронять и за которые ему доставалось. Тетушка Анна Львовна говорила ему о Николиньке и Левушке, что это его братцы, что он должен поэтому отдать свой мяч Левушке и во всем уступать Николиньке, как младшему; он никак этого не хотел. Он старался не попадаться ей на глаза.
У дома и у родителей были разные лица: одно – на людях, при гостях, другое – когда никого не было. И речи были разные – французская и русская. Французская придавала всему цену и достоинство, как будто в доме были в это время гости. Когда мать звали Nadine, Надина, она была совсем другая, чем тогда, когда бабушка звала ее Надеждой. Надина – это было похоже на Диану, на нимфу в Юсуповом саду. Это был тот свет, о котором иногда говорили за столом родители и откуда мать с отцом возвращались иногда по ночам. Тетушки Анна Львовна и Елизавета Львовна произносили русские слова в нос, как французские. Отец щелкал пальцами: ему недоставало русских слов, и навертывались другие, французские. Когда родители были нежны друг к другу, они говорили между собою по-французски, и только когда ссорились друг с другом, кричали по-русски.
Ему нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотаньем. Ужимки их были чем-то очень милы. Гостьи быстро пересыпали русскую речь, как мелким круглым горошком, французскими фразами и картавили наперебой. Вообще, когда гостьи говорили друг с другом, они лукавили, как бы переодевались в нарядные, нерусские, маскарадные костюмы, и только косые взгляды, которые они украдкою бросали друг на друга, были совершенно другие, русские. Вздохи же были притворные, французские, и очень милы. Но настоящую радость доставлял ему мужской разговор, французские фразы при встречах и расставаниях. Ими обменивались, как подарками, а с малознакомыми так, как будто сражались старым, тонким оружием.
По-французски теперь говорили о войне, которая шла с французами же, и по-французски же их ругали: les freluquets;[26]26
Ветрогоны (фр.).
[Закрыть] о государе, который издавал рескрипты, писанные хорошим слогом, и, по-видимому, бил или собирался бить этих freluquets; даже о митрополите, который служил молебны. Но стоило кому-нибудь в разговоре изумиться – и он сразу переходил на русскую речь, речь нянек и старух; и болтающие рты разевались шире и простонароднее, а не щелочкой, как тогда, когда говорили по-французски. Сонцев, поговорив изящно по-французски, вдруг сказал:
– А французы-то нас бьют да бьют!
Александр всегда замечал эти внезапные переходы, после которых все говорили гораздо тише, не торопясь, все больше о дворнях, о почте, о деревнях и убытках.
Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты: Карамзин, с длинными волосами по вискам, похожий, только гораздо моложе и лучше; косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев, с хрящеватым носом, которого он почему-то не любил, и в воздушных лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие томы, покрытые пылью, от которой он чихал; страницы были рыхлые, буквы просторные, рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем – они были выпуклые. Рядом стоял том, который ему нравился: там тоже были рисунки – большие, спокойные женщины в длинных одеждах, с открытыми ногами, с глазами без зрачков – это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у живых.
– Ты, друг мой, отвернись к стене да по сторонам глазами не води, не то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно, ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать, все пересказала. А в окошко не гляди – и того хуже не заснешь. В городе хуже, не спится, в деревне лучше, летом в окно клен лапой влезет, и заснешь; зимою тоже деревья. А здесь фонарь и фонарь. Стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Левушка, и Николинька, тебе одному сна нет.
…Едем, едем – и вдруг рыдван наземь. Соскочила скоба. Дед говорит мне: пойдем пешком. Я отвечаю: не привыкла. Я вовсе не с тем ехала, чтоб пешком впервые в дом являться. Кой-как заткнули скобу. Дед очень оробел перед самыми воротами и огорчился:
«Если он на вас шишкнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я. Тогда простит».
Он очень боялся отца – женился на мне не спросясь. Я сказала: я не таких правил, чтоб на меня, друг мой, шишкали. Я не могу пасть на колени. А он говорит, что в Африке и все так делают и не считается за бесчестье. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения, слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с рыдвана. У Иришки переоделись, он в мундир, я надела материны жемчуга – все потом прожила. Послали к старику спросить, примет ли. Ждем Матрешку час, другой – нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте. Матрешка приходит в слезах: ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, и я не спала – как ты. Назавтра я объявляю, что еду назад, к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед – в мундире, при шпаге – пал на колени. Но я все стою; только глаза опустила. Подняла глаза и вижу – старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное – и не черное, а желтое; ноздри раздул. Смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно, я вскричала и повалилась. Очнулась – вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала, а он засмеялся, но только с принуждением.
«Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я николи еще женщин так не пугивал».
Он был любезен. Но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все была искорка.
…А что потом было… Ничего потом не было… Потом нечего рассказывать. Дед? Умер твой дед, нет его. Спи. Да глазами-то по сторонам не води. Ну, уж я не слажу с тобой. Пусть Ирина сказку скажет или песню эту твою споет. Мочи нет как надоел…
Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели в ногах. Не глядя на него, медленно покрёхтывая, позевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом в Михайловском, у деда Осипа Абрамовича, у мельницы, внизу – водяной, девки его видели. В Тригорье жил леший, тот был простец, его все видели. Он мастер был аукаться. Была одна девушка, рябая, у дедушки, у Осипа Абрамовича, ходила в лес по бруснику. Как звали – все равно, нечего ее поминать; он с ней аукался и защекотал. Вся душа смехом изошла. Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете, и вас защекочет. Ну не леший, так домовой. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет: спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели – и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего Михайловской округи.
Их водили гулять всех вместе, табором, как говорила Марья Алексеевна, – Олиньку, Александра, Левушку и Николиньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его: «Арапчонок!» и убегали в переулок. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, гнев проходил быстро, как начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал.
В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит и все уйдут далеко. В открытом окне, напротив, сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуге в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо вгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят «арапчонок». Он пробормотал, как тетка Анна Львовна:
– Что зубы скалишь?
И пошел догонять своих.
Александр никогда ни с кем не говорил о деде-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонком. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял и думал, что Александр спрашивает о его отце, Льве Александровиче. Он со вздохом отвечал, что давно и что это был человек редкой души:
– Любимец общества!
Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать, потом нахмурился и, собравшись с духом – дело было в присутствии Марьи Алексеевны, – объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин и никто более.
– И бабушка твоя – Пушкина, и мать.
Марья Алексеевна молчала.
Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда, бледный как полотно:
– Пропала!
Оказалось, пропала родословная, целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверт запечатал родовою печатью, ящик стола запер на ключ, а там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суйды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их.
– Там бумаги секретные, – сказал он скороговоркой и нахмурившись, – …масонские.
Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов.
Наконец грамоты нашлись, свитки были в полной сохранности, Сергей Львович просто запамятовал, что запер их не в стол, а в особый шкапчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал.
Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру.
– Изволь посмотреть сюда – видишь печать? Это большая печать. Письмо старое, но мне говорили, что здесь за войну с крымцами жалуется вотчина, двести четвертей или около того. А это – судебный лист; это, впрочем, не важно.
И, понизив голос, Сергей Львович сказал сыну:
– Твой дед этою грамотой вовсе уволен от службы, в абшид[27]27
Отставку (от нем. Abschied).
[Закрыть] за болезнями. Это было, впрочем, более дело государственное.
Когда ему было семь лет, дом разом и вдруг распался.
Марья Алексеевна давно махнула рукой на зятя и дочь. Крепилась-крепилась и однажды решилась: наскребла вдовьих денег, достала из шкатулки какие-то закладные и рядные, ездила куда-то, суетилась и вернулась радостная: купила подмосковную. Усадьба была в Звенигородском уезде, с тополями, садом, церковью, все как у людей. Звалась она чужим именем: Захарово, да не в имени дело. Службы и дом каменные, дорога не пылит, цветник, роща, а деревня под горой, и богатая, много девок и овсы. Милости просим на лето с детьми; а сама она, живучи в Москве, голову потеряла от пыли, вони, шуму. Аришку оставляет при барчуках, а с нее хватит.
Никто ее и не удерживал.
Осенью пришла долгожданная весть: Осип Абрамович скончался и оставил Надежде Осиповне село Михайловское.
Глава пятаяВ последние годы старый арап безобразно растолстел. Походка стала еще легче – он ходил как бы приплясывая, неся тяжесть своего живота. Последние месяцы, однако, ходить уж не мог и сидел у окна в больших мягких креслах, обитых полосатым тиком, откинув назад голову и задыхаясь от жира, старости и болезней. Здесь он и спал. С братом Петром Абрамовичем он был в ссоре из-за денежных счетов, и все его покинули.
Барская барыня Палашка правила домом; говорили, что от времени до времени она еще сгоняла к барину девок плясать и петь песни. Но теперь он становился все тише, все равнодушнее и часами следил за полетом мухи и скрипом телеги за лесом. В груди его также скрипело.
Стояла осень, красные, в окне, клены и желтые восковые березы осыпались перед самым окном. Дожди уже прошли, и было сухо.
В одну ночь его скрутило. Он мычал таким страшным голосом и его так подбрасывало, что Палашка к утру послала в город за лекарем.
Лекарь, осмотрев больного, запретил ему есть зайца, так как заяц возбуждает похоть, и приказал пить по вечерам декохт.
– Истребите из сердца все досады, – сказал он ему.
Старик лежал в креслах, лицо его было тусклое, он смотрел бессмысленно; глаза как в дыму. И вдруг, помимо его воли, самостоятельно, отдельно от него, начиналось в груди хрипенье, бульканье, свист, и живот начинал ходить ходенем. Он дышал сипом и криком, как кричат ржавые затворы, когда их проверяют.
Отдышавшись, он спросил лекаря:
– Сколько мне времени жить?
Лекарь ответил:
– Вам, ваше высокоблагородие, жить два дни.
Старый арап легким движением вдруг подскочил в креслах. Скрип прекратился.
– Врешь, – сказал он лекарю и показал ему кулак.
Потом, оборотясь к Палашке, приказал:
– Гнать его и денег не платить. Вон!
Он полежал с полчаса совершенно неподвижно, трудно дыша. Потом стал глядеть на отцовский портрет. Абрам Петрович был на портрете с желчным лицом, цвета глины, с анненскою лентой через плечо, в генерал-аншефском мундире.
Он приказал убрать портрет на чердак. Потом велел стопить баню и нести себя туда. В высоких креслах полосатого тика понесла его дворня через весь двор на плечах. На самом пригорке он велел остановиться, осмотрелся кругом и впал в задумчивость. Несли его пять человек – старик был грузен; сзади шла Палашка. В бане он не стал париться, а полежал в предбаннике.
– Попарь-ка меня, – попросил он Палашку.
Палашка хлестала его горячим веником по черным плечам: он храпел и кашлял. Становилось темно.
Он велел нести себя на конюшню. В конюшне было прохладно, покойно. Три жеребца стояли в глухих загородках и, тяжело посапывая, перебирали ногами. Самый горячий, который закусал конюха, был на цепи, как злодей. Кобыла пила воду, мерно храпя. Он покормил ее с руки овсом, который она шумно, со вздохом, убрала мягкими губами.
– В два дня! – сказал он ей о лекаре. – Дурак!
Вернувшись домой, он приказал принести все шандалы, какие есть в доме, и зажечь все свечи. Потом велел набрать листвы в роще и нанести в горницу.
– Для глаза, и дышать легче.
Палашка поднесла ему вина, но он пить не стал и только пригубил. Вспомнив о вине, сказал принести все, что еще оставалось в погребе, в гостиную.
– Девок, – приказал он Палашке.
Господский дом ярко светился и далеко был виден.
– Опять загулял, – говорили в деревне.
– Смерти на него, дьявола, нет.
Все аннибаловские старухи и старики считали старого Абрама Петровича и самого Осипа Абрамыча с братцем Петром Абрамычем дьяволами. Одна старуха говорила, что у старого Абрама Петровича были еще когти копытцами.
Дворовые девки были у Осипа Абрамыча блудным балетом; они плясали перед ним во времена его загула. Музыканты были у него свои – один лакей играл на гитаре, двое пели, а казачок бил в бубны. Он заставил Палашку всем поднести по стакану вина и махнул музыкантам. Музыканты разом ударили его любимую.
– Машка, выходи, – захрипел он.
Маша была его первая плясунья.
Арап сидел с полузакрытыми глазами.
– Безо всего, – сказал он.
Плясала Маша без всего. Он хотел было подняться, но не мог; только пальцы шли у него и дрожали, как подрагивала бедрами Маша, да двигались губы. Музыканты все громче и быстрее играли его любимую, казачок бил в бубны без перерыва, Маша все дробнее ставила ноги.
– Эх, лебедь белая, – сказал старик.
Он взмахнул рукою, загреб воздух полной горстью, крепко сжал пальцы и заплакал. Рука его упала, голова свесилась. Слезы текли у него прямо на нижнюю толстую губу, и он медленно глотал их.
Когда пляска кончилась, он велел раздать дворне все вино. Потом подумал и приказал половину оставить.
– Овса сюда, бадью, – приказал он.
Вином наполнили при нем бадью, овес намочили в вине.
– Лошадям корм задавать!
– Окна открывай!
Лошадей кормили на конюшне пьяным овсом.
– Злодея на волю! Коней отпускаю!
Ветер ходил по комнате. Он сидел у раскрытого окна и ловил ртом ночной холод. На дворе было темно.
Со звонким ржаньем, мотая головами, выбивая копытами комья земли, пронеслись мимо окон пьяные кони.
Он засмеялся без голоса в ответ им:
– Все наше, все Аннибалово! Отцовское, Петрово – прощай.