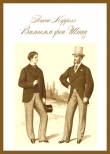Текст книги "Пушкин. Кюхля"
Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 68 страниц)
Ему было десять лет. Нелюбимый сын, он жил в одной комнате с Монфором, учился всему, чему учились все в десять лет, и оживал только за книгами. Вдвоем со своим наставником они много гуляли, и Александр знал теперь Москву лучше Монфора. Знал и переулки, где дома были подслеповаты, как старички, сидевшие тут же, на скамеечках, и нарядный Кузнецкий мост, и широкую Тверскую – дома там были большие, просторные, почти все в два этажа. Дрожки и кареты стояли у подъездов; мужики бойко торговали пирогами. Во французской лавке на Кузнецком мосту блистали яркие шелка.
Прогулки были для него праздником. Однажды он видел странный выезд. На великолепном коне, окруженный богатою свитой, ехал старик. Конь был покрыт шитым золотом чепраком; сбруя вся из золотых и серебряных цепочек. Свита, верхами, молча ехала. Старик курил трубку; лицо его было сморщенное. Ошеломленный Монфор поспешил поклониться, думая, что это прибыл турецкий посол. Оказалось: это старый Новосильцов гулял перед обедом; свита была его дворня. В другой раз они видели, как медленно ехала по Тверской карета кованого серебра, сопровождаемая толпой любопытных: старик Гагарин ехал в Марьину рощу.
В щегольских каретах, цугом, с арапами на запятках, проезжали московские бары; у Благородного собрания, на Тверской была толпа колясок: съезжались московские чудаки, опальные вельможи роскошно доживали век свой, не надеясь на непрочное будущее.
Монфор оглядывал в лорнет прохожих; походка его была неверная, руки дрожали. Он все более опускался. Арина защищала его и покрывала его слабости. Когда, с раскрасневшимся от бальзама лицом, пробираясь однажды вечером в девичью, он столкнулся с Надеждой Осиповной, Арина отвлекла ее вопросами хозяйственными. Случалось, француз наливал ей в кружку своего бальзама, и она, не морщась, осушала его за здоровье мусье и Александра Сергеевича.
У Монфора были сильные связи, граф де Местр, философ и иезуит, проживавший в Петербурге, покровительствовал ему. Даже когда Татьянка, плача, призналась в преступной склонности к графу, дело замяли, главным образом по лени, а Татьянку сослали в Михайловское, на скотный двор. Сошло с рук и другое – француз угостил раз воспитанника своим бальзамом. Рот приятно жгло, голова у Александра кружилась, и с губ сами рвались небывалые слова, стихи и смех. Учитель и ученик, мертвецки пьяные, заснули глубоким и приятным сном.
Погубило Монфора другое: он вздумал сыграть в дурачки в передней с Никитой и был застигнут Надеждой Осиповной. Возмутительным было то, что он играл именно в передней и с холуем. Никакое графство не спасло его. Сергей Львович говорил, презрительно пожимая плечами:
– Сначала в дурачки, потом в хрюшки, потом в Никитишны, а там – и в носки! Не угодно ли?
Так он рисовал постепенное падение Монфора; старый игрок в веньтэнь говорил в нем.
Назавтра, увязав в баул свое имущество, француз простился с Александром, нарисовав ему на память борзую, а внизу написав по-французски: «Главное в жизни честь и только затем счастье» и проставив под этим изречением свой полный титул и фамилию.
Было и еще одно обстоятельство, погубившее Монфора. Николинька Трубецкой, воспитанник иезуитов, приехал к родителям в краткий отпуск и посетил соседей. Черный бархатный камзольчик с кружевными манжетками был на нем. Говорил он теперь ровным, как бы сонным голосом, ни на миг не повышая и не понижая его, и, слушая этот ровный, приличный говор, Сергей Львович вдруг огорчился: его сын говорил по-французски резко, обрывисто, кратко и, как показалось ему, грубо. Для обоих французский язык был как бы родным, но Николинька говорил как аббат, а Сашка как уличный забияка. Николинька, рассказывая о чем-то, назвал Поварскую, как француз, «Povarskaпa», a y Харитонья в переулке – «Au St. Chariton».[39]39
У святого Харитония (фр.).
[Закрыть] Прощаясь, он сказал приятелю по-латыни: vale.[40]40
Прощай (лат.)
[Закрыть] Сашке было далеко до него. Монфор был посрамлен как воспитатель.
Новый воспитатель был не похож на Монфора. Звали его Руссло.
С усиками, широкими ноздрями, гордый, он был самого высокого мнения о себе, и Арина с самого начала его возненавидела.
– Тот мусье был простец, – говорила она со вздохом, – пошли ему Бог здоровья, теперь небось загулял, а этот – жеребец.
Надежда Осиповна и Сергей Львович зато были другого о нем мнения. Надежда Осиповна мало теперь выезжала. Раз сидела она в утреннем чепце и кофте, рука ее приоткрылась, и француз не мог или не хотел скрыть своего восхищения. Она улыбнулась: обожание льстило ей. С этих пор мусье Руссло стал в доме царьком, султаном, ходил петухом. С Александром он говорил кратко и отрывисто. Выдавая себя за старого рубаку, он задавал ему уроки, точно командуя. Раз он выследил походы Александра в отцовский кабинет и, наказав его, прекратил их. Они мало гуляли теперь. Руссло засадил его за французские вокабулы и арифметику. Руссло был автор, стихотворец, он с достоинством присутствовал при чтении Расина; Сергей Львович изредка еще позволял себе декламировать. Затем он сам читал свои стихотворения, которые всегда нравились Надежде Осиповне. Все без исключения они были посвящены гордой даме, прелести которой свели поэта с ума и которая недоступна. Одна элегия кончалась вздохом умирающего от любви поэта:
Надежда Осиповна за обедом подкладывала ему куски пожирнее. Мусье Руссло заметно порозовел и округлился.
Раз черная каретка остановилась у пушкинских ворот. Человек в черном, с желтым старческим лицом, изжелта-седой, с молодыми глазами, выглянул из кареты. Старый слуга-француз в облезлой ливрее сошел с запяток и спросил, дома ли граф Монфор, которого желает видеть граф де Местр.
Сергей Львович засуетился. Граф де Местр был бессменный посланник короля сардинского, лишенного, впрочем, владений, по слухам – иезуит, лицо видное в Петербурге и загадочное, философ.
Сергей Львович пригласил зайти графа де Местра. Старик пробыл у него всего минут пять. Услышав, что Монфора давно уже нет, и увидев мусье Руссло, низко ему поклонившегося, старик посмотрел пронзительными живыми глазками на него. Сергей Львович обомлел: взгляд был умный, таким он и представлял себе иезуитский взгляд. Он стал бормотать о том, что граф Монфор, к сожалению, выехал, и о трудности в настоящее время дать детям воспитание. Постепенно Сергей Львович разговорился. Он очень любил графа Монфора и не переставал сожалеть о его слабостях, вполне извинительных, но нетерпимых в воспитателе. Законы требуют все больших познаний, и голова идет кругом, когда думаешь о воспитании детей.
Привычным, внимательным взглядом старик посмотрел на мальчика и, рассеянно улыбнувшись, снова воззрился на Руссло.
– Воспитывать должно не ум, – сказал он, глядя на Руссло, – Руссло приосанился, – это притом очень трудно; и не то, что слывет умом, – Руссло посмотрел в сторону, – не должно обременять дитя пустыми знаниями. Воспитывать должно совсем другое. Вы знаете плоды воспитания в Париже.
Потом он поежился от холода, натянул на худую шею черный платок и ушел, оставив всех в недоумении.
Вскоре каретка де Местра скрылась в Харитоньевском переулке.
Сергей Львович стал всем рассказывать о посещении графа де Местра. Не обращая внимания на Сашку, на Лельку и почти ничего не зная о существовании Ольки, он стал повторять, что воспитание в теперешнее время – дело претрудное и что иезуиты совершенно правы, когда утверждают, что главное – это не ум, а вкус. Бог с ними, с науками! Граф де Местр трижды прав.
Мнение это и в особенности сообщение о визите графа де Местра выслушивали со вниманием.
– В последний раз, когда граф де Местр был у меня… – говаривал Сергей Львович.
Неожиданно все в Москве переменилось; самый воздух, казалось, потеплел. Гордости у стариков как не бывало; всех стали приглашать, всем улыбаться, обновились старые связи, припомнилось родство. Сергей Львович вдруг вспомнил, что их дворянству шестьсот лет, а то и без малого тысяча, и опять развязал свой список грамот. И вскоре согрел его сердце давно им не виденный Карамзин.
Причина всему – государственная, Петербург.
Москва была на отшибе, доживала; старики громко ворчали, как ворчат на людях глухие, думающие, что их не слышат; как человек выходил в отставку, он норовил переехать в Москву, чтобы иметь возможность ворчать. Всем в Москве правили старухи. Москва была бабье царство. Жабами сидели они в креслах в Благородном собрании и грозно поглядывали вокруг. У каждой был свой двор и свои враги; они все помнили, всех знали. Суждения Офросимовой и анекдоты о Хитровой заменяли Москве ведомости, которые читали только во время войн. Всю зиму была здесь ярмарка невест. Усадив их в возки и бережно подоткнув со всех сторон, везли этот редкостный товар осенью по широким дорогам в Москву, и у застав возки останавливались. Золотились главы церквей, зеленели сады, и у невест екали сердца. Потом их показывали московским старухам, и те, оглядев, брали их под свое покровительство. Вскоре на каком-нибудь балу девичья судьба решалась. Старухи судили, рядили, разводили и вновь сводили. Все рабы Гименея, мужья под пантуфлею, разорившиеся игроки, люди, у которых почему-либо не открылась карьера, составляли средний возраст Москвы. Сергей Львович прекрасно себя чувствовал в Москве и бранил Петербург. Ворчать и переносить новости было его страстью, страстью среднего возраста и состояния Москвы.
Молодежь в Москве – вздыхатели, лепетуны, ветрогоны. Разговор у них изнеженный, все мужчины избегали грубых звуков и сюсюкали. Говорили: женшина, нослег.
В Петербурге был двор, было государство, и самая литература была в Петербурге другая: там сидел сухопутный адмирал Шишков, который издевался над московскими вздыхателями, не щадил и самого Карамзина; он ополчился на всех учителей-французов, на модные лавки и советовал читать Четьи-Минеи. На Фонтанке еще кряхтел Гаврило Романович Державин и писал длинные реляции потомству об оде.
Но дело было не в них, не в стариках, и даже не в молодых. Дело было в том, что, пока Москва вздыхала, обжиралась на масленой блинами и удивлялась пирожкам Василья Львовичева Блэза, к власти пробрался нежданно-негаданно и сел крепко подьячий.
Так называли старики Сперанского. Сначала пошли слухи о том, что царь везет с собою «на поклон» подьячего, потом слухи подтвердились. Потом прошел слух, что сам Буонапарт говорил с подьячим и был будто до крайности любезен. Тут старики, хотя и всячески корили Наполеона, почувствовали себя обойденными, а потом решили, что подьячий с Наполеоном спелись. И когда последовали указы – один за другим, – всем старцам стало ясно: Наполеонова эра настала. Первый указ был о придворных званиях, второй – о гражданских чинах. Со времени Екатерины существовал высокий свет. Высокие светские люди проводили жизнь в светских занятиях; в колыбели получали звание камер-юнкера и с ним чин пятого класса; младенцы улыбались дородным мамкам, переходили в руки нянь, становились камергерами и получали чин четвертого класса. Зато свободное время образовывало их вкус, со временем они могли быть замечены статс-дамою Перекусихиной, а если этого не случалось, они наконец приступали в высоких чинах к государственным делам. Таковы были дворянские вольности.
3 апреля 1809 года подьячий, который теперь утвердился в Петербурге, издал указ и всему положил конец. Звания камер-юнкера и камергера впредь не давали никакого чина и считались только отличиями. Вместе с тем всякий был обязан избрать в течение двух месяцев род действительной службы, а не изъявившие желания считались в отставке. Множество благородных людей, которые ни в чем не изменили ни своего образа жизни, ни мыслей, вдруг, через два месяца, оказались в отставке. Три поколения Трубецких-Комод, которые все имели звания и числились на службе, сидя, как всегда, у себя в Комоде, оказались отрешенными. Везде в домах было сильное волнение. Тот самый старик, который звал Наполеона Буонапартом, грозился поехать в Петербург бить кутейника. Более же всего озлобили налоги, которые росли со дня на день.
– Отъедается, – говорили не то о Сперанском, не то о царе, – хуже покойничка Павла.
Летом, когда в Москве старики только и говорили что о налогах и грозились умереть, только бы не платить, подьячий издал второй указ. Впредь никто не мог быть произведен в чин коллежского асессора без экзаменов и какого-то свидетельства. Сословие чиновников приглашалось бросить все застарелые привычки, все свои цели и вместо домашних бесед с доброхотными дателями готовиться к экзаменам по праву естественному и начальным основаниям математики.
Теперь восстало все крапивное семя.
Говорили, что один повытчик публично плакал в присутственном месте, на Прудках, отирая слезы большим красным фуляром и привлекая этим общее внимание. Вместе с тем, не видя перед собою дальнейшей цели существования и отчаявшись в сдаче экзаменов, а стало быть, и в получении чина коллежского асессора, приказные стали требовать такой мзды, что уж это одно само по себе могло поколебать основы государства. Все это имело важные последствия.
Московские бары, которые при издании первого указа во всем винили крапивное семя, стали теперь звать Сперанского поповичем и расстригой.
Разные вкусы и наклонности ввиду общей опасности временно забыты. Движение на улицах Москвы усилилось: с утра все выезжали, чтобы узнать общее мнение. Сергей Львович стал ходить по утрам в должность. Все канцелярии теперь были заняты тем, что переписывали новые стихотворения на Сперанского. Сергей Львович каждый день приносил что-нибудь новое и по прочтении запирал в свой тайник.
Стихотворения были довольно острые. Одно – о канцелярском плаче, называлось «Элегия»:
Восплачь, канцелярист, повытчик, секретарь!
В нем был едкий стих, который сразу вошел в поговорку:
О чин асессорский, толико вожделенный!
Стихотворение было, впрочем, написано более в насмешку над приказными и, видимо, в защиту указа, но чиновники на первых порах не разбирались и переписывали все, что попадалось об указах, «яко противудейственное».
«Мысль унылого дворянина» более понравилась Сергею Львовичу; все написано дурными стихами, но сильно выражено:
От Рюрика поднесь дворян не утесняли,
Зато Россию все владычицей считали.
О «сыне поповском» там было сказано, что он «как мыльный шар летает» – а далее: «искусственным мечом Россию поражает и хаос утверждает».
Эпиграмма на Сперанского была в другом роде – коротка, ее писал брат того генерала, который звал Наполеона Буонапартом:
Велики чудеса поповский сын явил,
Науками он вдруг дворян всех задавил.
Наук испугались все. Лекари учились медицине, попы богословию. Бывали и среди дворян чудаки или меценаты, которые читали по-латыни, но учиться по обязанности наукам, как лекари, – не дворянское дело. Дворянин получал чины по душевным качествам и заслугам. Не было никакой связи между наукой, дворянством и званием. Семинарист учредил хаос и все перевернул.
Сергей Львович негодовал почему-то более других. Мысль, что камер-юнкер и камергер теперь будут не чины, а звания, была особенно для него невыносима, хотя ни он и никто из родни не были ни тем, ни другим. Он не находил слов для возмущения.
– Этот приказный, cette canaille de[42]42
Этот негодяй (фр.).
[Закрыть] Сперанский, – говорил он о Сперанском, как будто тот служил у него ранее под начальством и произнося эту фамилию в нос.
Вообще это было в характере Сергея Львовича – он охотно ввязывался в любую оппозицию. Порою он ворчал перед камином, совсем как матушка Ольга Васильевна. Однажды он даже дословно ее повторил: фыркая, сказал, что все несчастья начались с Орловых, – полезли в знать, и началась неразбериха. Что ни говори, а звание дворянское дает право на светскость; светскость же, или, как маменька Ольга Васильевна говорила, людскость, – все! Это и любезность, и уменье блистать, и остроумие. А кто этого не понимает, с тем говорить не стоит. И хотя исторические понятия Сергея Львовича были смутны, у него были сильные чувства.
В эти месяцы много перьев скрипело в Москве – приказные переписывали стихи, дворяне писали царю. Даже Сергей Львович, сидя в своей комнате над чистым листом бумаги, написал как-то тонким пером:
Всемилостивейший Государь!
но далее у него не пошло.
Все ждали, что скажет Карамзин.
Старые друзья говорили, что он сделался молчалив и горд. Чувствуя, что связи со всеми рушились и что предстоят важные труды, он подолгу покидал Москву. Наконец удалось ему основать свой Эрмитаж, наподобие Руссова, в тестевом имении Остафьеве. Обширный сад, проточный пруд, густые липы заменили ему там друзей. Молодая добрая жена стала теперь для него Клией, музой истории. В Москве начали относиться к нему с боязнью. Изредка приезжал он сказать два-три важных слова, обронить замечание, улыбку. Снисходительность к людским порокам была в нем теперь главною чертой. Добряк Сонцев, муж сестрицы Лизет, боялся его как огня. Теперь смятение московское вызвало его на несколько недель из уединения.
С радостью заявился к нему Сергей Львович. Они давно не видались. Он долго думал, какой час избрать для посещения, потому что боялся помешать, и выбрал час меж волка и собаки. Московские стишки, после некоторого размышления, он сунул в карман, надел новый фрак, вздохнул и поехал.
Он был принят прекрасно. Никого не было. В полутемной комнате, на простой мебели сидели они в полутьме, и Карамзин не зажег свечей. Карамзин мало говорил. Казалось даже, он дремал, сидя в глубине покойного кресла. Зато говорил Сергей Львович – обо всем. И прежде всего о диких выходках петербургского адмирала Шишкова, шумно ругающего Николая Михайловича и недавно написавшего, что братец Василий Львович – безбожник, распутник и враг престола.
Карамзин улыбнулся, слабо выразив одобрение. Он вовсе не был галломаном. Соседство имен его и Василья Львовича было несколько смешно.
Он спросил Сергея Львовича о здоровье милой жены его. Сергей Львович поблагодарил сердечно и пожаловался на трудность воспитания детей. Теперь, когда требуются от дворянина экзамены и науки, дрожишь за их будущность. Граф де Местр, который недавно был у него, пожалуй, прав: важно воспитание чувства вкуса, уважения к родителям, а остальное – о, Бог с ним! Он, как отец подрастающего сына, – очень это чувствует.
Тут Карамзин мягко предостерег его – нельзя смешивать понятия, различные в существе своем, – одно дело экзамены и другое – просвещение. Ни Шекспиров, ни Боннетов без него быть не может. Изящный ум ближе к природе, чем невежество. Благородные должны это наконец понять. О графе де Местре он сказал с некоторой холодностью, что не знал о пребывании графа в Москве. Но экзамены – увы! – как надолго повредят они самим наукам!
Сергей Львович вскоре не утерпел и прочел Карамзину «Мысль унылого дворянина».
Карамзин, казалось, оживился. Он со вниманием слушал стихи и попросил листок, чтобы перечесть. Щеки его окрасились. Вскоре тихим голосом он стал объяснять Сергею Львовичу с терпением и кротостью смысл происходящего.
Сидя в полутьме, Сергей Львович не шелохнулся. Он с жадностью вслушивался во все, что говорил Карамзин, и все это возвышало его, укрепляло. Он сидел, важно оперши щеки на белые воротники, позабыв о Надежде Осиповне, Сашке и Лельке, долгах и своей квартире. Он был снова тем, чем ему быть надлежало, – шестисотлетним дворянином, человеком светским, одним из тех, с которыми говорят, которых приглашают. От приятности этого сознания он половины из того, что говорил Карамзин, не слышал. Он только смеялся от души тонким насмешкам над подьячим.
В полутьме, не зажигая свечей, Карамзин говорил, что ныне председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свойства оксигена и всех газов, а вице-губернатор – Пифагорову фигуру…
Сергей Львович тихо засмеялся.
– …надзиратель же сумасшедшего дома – римское право…
Это Сергей Львович постарался запомнить.
– Оксиген, Пифагор, надзиратель, – повторил он одними губами.
Между тем никто не заметил, что указ и «разум указа» – написаны безграмотно, слогом цветистым, лакейским – семинарским, если так можно сказать.
Сергей Львович вспомнил чистый лист бумаги и на нем обращение:
Всемилостивейший Государь!
Он признался в своей дерзости Карамзину, краснея как школьник, сознающийся в шалости, счастливый, уверенный, что все это вызовет одобрение. Он собирался писать государю… голос сердца! Великий Боже! Но все почти собираются в Москве писать государю…
Карамзин замолчал. Он молчал, отвечая на лепет и смех Сергея Львовича осторожным кашлем.
Стало совсем темно. Карамзин не шевелился в своем кресле. Не дремал ли он? Только когда Сергей Львович стал прощаться, он слабым голосом, но совершенно холодно попросил передать поклон милой жене его.
Сергеи Львович вышел, недоумевая, почему, вначале почтя его такой душевной беседой, Карамзин охладел к нему в конце. Но Карамзин и сам уже много недель сидел над листами бумаги в своем остафьевском уединении; он и сам писал государю о том духе, который подьячий вносил в течение истории государства российского.