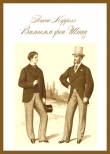Текст книги "Пушкин. Кюхля"
Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 68 страниц)
Не было денег, не было положения, но, главное, не было воздуха. Все жили в каком-то безвоздушном пространстве и чего-то ждали. Россией правили безграмотные монахи, которые грызлись друг с другом, цензура не пропускала стихов к женщинам, если улыбки их в стихах называли небесными. Аракчеев белесыми глазами высматривал: кто нарушает порядок? Нельзя ли выпрямить улицы, вырубить сады? Нельзя ли из неопрятного, с развальцей ходящего экономического мужика сделать солдата, по форме одетого и марширующего точно? Военные поселения были той новой опричниной, которая, по мысли Аракчеева, должна была заменить старую гвардию: на гвардию, после семеновского бунта, полагаться было более нельзя. А пока что этих новых опричников засекали до смерти, заставляли маршировать до упаду и кормили впроголодь. Нигде не слышно было другого разговора, кроме разговора о крагах, ремнях и учебном шаге. Строго было определено число шагов в минуту: не менее ста пяти и не более ста десяти при церемониальном марше. Был введен идеальный порядок наказаний.
Раз Вильгельм, проходя мимо плаца, утром видел экзекуцию. Наказывали за какой-то проступок человек двадцать солдат.
Главное в этой экзекуции был порядок.
Два полубатальона солдат по семисот человек были построены параллельно, шеренгами, лицом к лицу. Каждый солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой шпицрутен; шпицрутен был гладкий и гибкий лозовый прут, длиной в сажень. Сажень длины, ни больше ни меньше. Неподвижные шеренги с шпицрутенами в руках казались серым камнем, на котором росла молодая и голая ивовая роща. В середине стоял офицер, держал в руках бумагу и выкликал имена – он говорил, сколько кому пройти кругов. Голос в утреннем воздухе был деревянный. Первым пяти осужденным скинули рубашки до пояса, головы их были открыты. Их поставили гуськом одного за другим; руки каждого из осужденных были привязаны к примкнутому штыку; штык приходился против живота, и вперед осужденный бежать не мог; за приклад спереди тащили его два унтер-офицера, и он не мог податься назад.
Раздался резкий стук барабана и вслед за тем звучный и ясный голос флейты. Вильгельм почувствовал, что силы оставляют его. Флейта в нечеловеческой тишине, где слышен только стук барабана.
И, как автоматы под властью магнетизма, которые Вильгельм видел в лейпцигской кунсткамере, осужденные начали двигаться. Они подвигались по кругу, один за другим, под стук барабана и ясный голос флейты. Каждый солдат из шеренги делал правой ногой шаг вперед – шпицрутен взлетал и ложился на спину – солдат делал шаг назад. Все движения были точны и размеренны, как будто из машины выделялся какой-то рычаг и снова в нее уходил. С обеих сторон в такт музыке свистели мелодически шпицрутены и одновременно ложились на спины. Только голос флейты и голос шпицрутенов да стук барабана. Да еще пять человек, которые двигались по зеленой улице, кричали перед каждым ударом:
– Братцы, помилосердуйте, братцы, помилосердуйте!
Офицер опять начал выкликать имена.
…Вильгельм очнулся. Он полулежал под деревом на краю улицы. Барабаны еще били. Над ним склонился черный маленький человек; худой, желтый, с хищным носом, – итальянец? грек? швейцарец? Вильгельму бросился в глаза грязный ворот его рубашки. Таких людей сотни – при аукционах, в театрах, в трактирах, на бульварах.
Он кинул воды в лицо Вильгельму и сказал хрипло, по-французски с немецким акцентом:
– Теперь все в порядке. Пройдет. Это пустяки.
И исчез.
Когда Вильгельм протер глаза, его уже не было. И он сразу же забыл о нем. Таких лиц сотни – в театрах, трактирах, на бульварах. Вспоминая позже экзекуцию, он забывал о черном человеке. Вспомнил он о нем только впоследствии, много времени спустя, и то всего на один миг.
Что поразило Вильгельма в экзекуции – это порядок, красота, расчет каждого движения.
Думая об этом, Вильгельм вскрикивал, как от физической боли.
Помещика, который вымазал дегтем человека, Вильгельм не мог ненавидеть – он мог только избить его или убить.
Но красивые, гибкие лозы, звучный свист флейты и мерные движения он ненавидел, – потому что боялся их до дрожи в ногах, до омерзения.
IVУспокаивали Вильгельма, умели разгонять spleen[120]120
Сплин, хандра (англ.).
[Закрыть] двое: Рылеев и Саша Одоевский. Каждый по-своему.
Саша Одоевский был родственник Грибоедова, молоденький лейбгвардеец, румяный, с синими глазами. Ходил он в щегольском мундире, любил хорошо одеваться. Все в нем кипело. Он минуты на месте не сидел. Мысли его, как у ребенка, носились в полном беспорядке. Хохотал он тоже как ребенок, раскрыв рот, показывая белые зубы, – и на щеках появлялись у него при смехе ямки.
Он любовался решительно всем: хорошей погодой, хорошими стихами (и сам их писал), красивыми женщинами и благородными мыслями. Он ласкался к Вильгельму, как теленок.
Бренча шпорами, он вбегал к Гречу, торопливо здоровался с хозяином, который не любил излишнего шума и смеха, и начинал тормошить Вильгельма.
Он посвящал Вильгельма в свои тайны любовные, довольно веселые тайны. Женщины его любили.
– И родители мне не откажут, – говорил он Вильгельму (на каждой девушке, за которой Саша волочился, он собирался жениться). – Я к родным поеду, наговорю много, много, шпорами буду звякать – милый, они противиться не будут.
Саша шалил – и сам знал, что шалил: через неделю он забывал о намерении сделать предложение и говорил Вильгельму о планах литературных.
Голова у него была ясная, ухо верное. Он чувствовал стихи, как женщин, и так же любил их. И, слушая стихи Пушкина, становился вдруг тих и грустен.
Вильгельму он приносил с собой в комнату несколько охапок свежего воздуха.
У Рылеева Вильгельм бывал часто. Рылеев жил у Синего моста, в доме Российско-Американской торговой компании, секретарем которой он был. Раз Вильгельм застал у него купца Прокофьева, директора компании. Прокофьев был уже немолодой, важный человек, более похож на чиновника, чем на купца. Глядя на Вильгельма своими быстрыми, бегающими глазами, Прокофьев говорил:
– Эх, пора, пора России-матушке с Америки пример брать. Отстали мы на сто лет, обленились. А отчего – не угодно ли поглядеть. – Он кивнул на окно.
Вильгельм посмотрел в окно. По Синему мосту маршировали солдаты. Шаг был точен, размерен, движения механические.
– Вот от этого, – сказал Прокофьев. – Вместо этой махины надо бы нам американские махины заводить.
Рылеев переминался с ноги на ногу, чем-то недовольный. Прокофьев быстро взглянул на него и, видимо, смутился.
– Прощения просим, – сказал он по-купечески.
Вильгельм посмотрел на Рылеева с недоумением.
– Вот как нынче купцы заговорили.
Но Рылеев тотчас начал говорить о литературе, о своем альманахе – «Полярной звезде». Он занят был вместе с Александром Бестужевым изданием альманахов. Альманахи его имели большой успех. Все кипело и спорилось в его руках.
– Ты пойми, Кюхельбекер, – говорил Рылеев, – альманахи наши – предприятие коммерческое. Ты у Греча работаешь и Греча богатишь. Надобно литераторам вместе соединиться и выгоды торговые от трудов своих самим получать.
Вильгельм разводил руками, у него не было никаких способностей торговых, его альманах «Мнемозина» принес ему только убыток, долги. Издал он его неуклюже, картинки приложил варварские, наполнил философскими статьями, а публика любила карманные форматы, стихи легкие и занимательные, повести с быстрыми интригами. Нет, где уж ему издавать альманахи.
Рылеев любил Вильгельма. Может быть, за то, что Бестужев относился к нему свысока, за сумасбродство, за отчаянность, за бездомность, за то, что Вильгельм был беспомощен. Рылеев любил людей, которым некуда было деться.
Нетерпеливый с людьми спокойными, он был спокоен и ласков с Вильгельмом.
У Рылеева бывали разные люди. Приходил Александр Бестужев, черноусый, с тяжелыми пламенными глазами офицер и писатель; он был адъютант герцога Вюртембергского. Щегольской форменный сюртук сидел на нем особенно небрежно, он расстегивал его, сидя в дружеском обществе. Был молчалив и внимателен, а потом шумно и резко острил.
Бывали Греч, Булгарин, Пущин.
Раз Рылеев повел Вильгельма к Плетневу, робкому литератору, с которым дружил Пушкин. В этот вечер Левушка Пушкин должен был читать новую поэму Александра «Цыганы». Левушку любили друзья Александра, потому что в отсутствие Александра он им его напоминал. Но рядом сходство исчезало, разве что отрывистый хохот, да белые зубы, да курчавые волосы были те же у обоих братьев.
Читал Левушка прекрасно, выразительно, хотя и без «декламации», не подвывая, как Грибоедов, и без «пения», как читал Пушкин. Чтобы уговорить его почитать, нужно было шампанское; недаром Левушку Пушкина звали друзья: Блёв. Пьяница он был отчаянный.
Распив бутылку шампанского, Левушка обвел глазами присутствующих и начал читать. Все молчали. Левушка прочел первую песнь. Пущин улыбался: стихи Александра приносили ему, даже и помимо смысла, наслаждение почти физическое. Вильгельм сидел, приложив руку к уху, и слушал жадно. Перед второй главой Левушка еще попил шампанского.
И ваши сени кочевые
В пустыне не спаслись от бед.
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Вильгельм, плача и смеясь, подскочил неловко к Левушке и обнял его.
– Милый, – бормотал он, – ты и понятия не имеешь, что ты такое сейчас прочел.
Рылеев засмеялся и быстро сказал:
– Разумеется, вещь достойная Пушкина. Но почему Пушкин такого высокого героя, как Алеко, заставил водить медведя и денег за это просить, ума не приложу. Черта низкая и героя недостойная. Характер героя его унижен. Лучше бы уже сделать Алеко кузнецом – в ударах молота все же есть нечто поэтическое.
– Но ведь здесь герой не Алеко, а старый цыган, – усмехнувшись, важно сказал Бестужев. – Но стихи, стихи какие! И какова сцена убийства!
– Стихи великолепные, но начало несколько небрежно, – возразил Рылеев.
Вильгельм был вне себя:
– Что вы рассуждаете! Самое простое и самое высокое создание, которое Александр когда-либо написал.
Он со слезами на глазах стоял посредине комнаты, неловкий, растерянный, с подергивающейся губой, и повторял:
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Глядя на него, Рылеев снова засмеялся, тихо и ласково:
– Что за прелесть, Вильгельм Карлович, как ты молод и свеж!
Кюхля подскочил к нему и внезапно обнял его.
Булгарин торопливо записал что-то в тетрадку, поочередно смотря на Рылеева, Бестужева и Кюхельбекера.
VЖУРНАЛ СОФОЧКИ ГРЕЧ
(Отрывки, относящиеся к Вильгельму)
7/IV 1825 г.
Константин Павлович[121]121
По-видимому, К.П. Безак, двоюродный брат Греча, в будущем муж Софочки Греч. Впоследствии начальник отделения в министерстве иностранных дел. – Примеч. Ю. Тынянова.
[Закрыть] ужасть как смешон, щиплет за щеку. Кривцов повеса страшной и комплиментщик. Подговаривает бежать, видно, что смеется. Папенька намедни очень долго запирался в кабинете. Вечером приходили разные люди, литературщики. Все очень громко говорят. Рылеев из них главный, так в разговоре кипятился, что прямо невозможно сделалось слушать. Урод[122]122
Так Софочка всюду называет Вильгельма. – Примеч. Ю. Тынянова.
[Закрыть] как вскочил с кресел, так кресла на пол повалились. Шум сделался, все смеются, а он вылупил глаза и кричит, не замечает ничего.
8/IV 1825 г.
Урод стихи свои читал. Папенька страшные глаза нам делал, он ничего не видит, читает. Папенька мало его слушал, а когда кончил, сказал: «Ах, это бесподобно у вас вышло». Тот обрадовался, а папенька вовсе и не слушал. За обедом задумался, я ему и говорю: «Monsieur Kьchelbecker, отчего вы сегодня рассеянны?» – он отвечает: «Merci, madame, я совершенно сыт». Я со смеху умерла…
10/VII 1825 г.
Перебрались на дачу. Очень весело, будет музыка каждый день. Урод со своим человеком перетащился. Бегает как бешеной по аллеям, набрал букет листьев с клена, поставил в воду. Целый день бродил по парку, сам с собой разговаривая, махал руками. Папенька из окна на него глядел, любовался. Не понимаю, зачем он у нас живет. Папенька говорит, что человек нужный.
15/VII 1825 г.
Урод в С. – Петербург уехал на неделю по делам с человеком своим. Была у него в комнате, невестины письма читала; очень есть интересные.
17/VII 1825 г.
Серж стал слишком дерзок. Пусть не думает, пожалуйста, что я его не понимаю. Я решилась ему показать полное невнимание. Урод сделал скандал в доме. Константину Павловичу сказал, что в лучшем случае чиновники взятки берут.
К. П. спрашивает: «А в худшем?» – «А в худшем – и берут и человека продают». – К. П. обиделся, встал из-за стола. А тот как ни в чем не бывало. Папенька из-за журнала все общество отобьет. Несносно!
18/VII 1825 г.
К уроду занятные гости приезжали: Дельвиг, барон, и Одоевский – такой прелестный, что сил нет. Говорили, говорили, конца не было. Насилу гулять собрались. Как Одоевский смеется! Я, кажется, влюблена в него сегодня. Ах, Alexandre, Alexandre!
20/VII 1825 г.
Урод, оказывается, меня до сих пор не знает. Вчера меня назвал Сусанной, – а ей десять лет! Сегодня встретил в парке, спросил, давно ли из Петербурга. Я говорю: «Давно». – «Странно, – говорит, – что до сих пор с вами, Мария Александровна, не встречались». – Раскланялся и зашагал. Невежа бешеной! Интересно, какая Мария Александровна?
15/VIII 1825 г.
Хотим перебираться в город. Погоды несносные, и дождь все время. Наконец-то папенька с уродом разругался! Вышло из-за литературы. Говорили о Катенине и о Грибоедове. Папенька их очень раскритиковал. Урод побледнел и затрясся, сказал, что папенька в литературе дальше Карамзина и грамматики ничего не понимает. Папенька обиделся и сказал, что, может быть, он дальше Карамзина и не понимает, но что урод дальше Державина еще не пошел. Урод сказал, что большей хвалы и не желает, но папенька очень обиделся и сегодня сказал, что с уродом дел вести дальше нельзя и что он человек даже опасный. Тант Элиз говорила, что папенька наживет себе бед с такими людьми, как урод; ей давеча говорили, что за уродом из ПБ следят по приказанию. Страшно, какие дела у нас в доме!
18/VIII 1825 г.
Урод весь день вчера читал нам Гофмана «Песочный человек». Очень страшно. Он хорошо читает, хоть запинается и голос протяжный. Всю ночь не могла заснуть от страха. Когда урод добрый, он весь дом занимает, много из путешествий рассказывал сегодня. Тант Элиз даже сегодня сказала, что он, кажется, хороший человек, хоть сумасброд.
20/VIII 1825 г.
Скоро перебираемся. Погоды плохие, у папеньки в городе дел много. Урод насмешил ужасно. Купил громадный букет цветов, мне поднес и комплиментов наговорил. Был очень учтив со мной и добр. Даже жалко его стало…
27/VIII 1825 г.
Скандал за скандалом. Тант Элиз заявила папеньке, что жить больше в доме не будет, если будет так продолжаться. Все из-за урода. Скандалит с Фаддеем Венедиктовичем. Фаддей ужас какой забавный, хотя и mauvais genre.[123]123
Дурного тона (фр.).
[Закрыть] Все время сидит за портером, пыхтит чубуком и отпускает шуточки. Вздумалось ему подшутить над уродом. А тот преобидчивый. Он говорит уроду: «Вы, Вильгельм Карлович, уже десять лет как не изменяетесь, ругали меня в прошлом году, а нынче опять ругаете. Юношеский пыл у вас играет». И похлопал его по коленке. Урод вылупил на него глаза и говорит: «И изменяться и изменять – не мое ремесло». Фаддей даже чубук уронил и хрипит ему: «На что вы намекаете?» А тот покраснел да и говорит: «Не намекаю, а прямо говорю, что измена и мнениям и людям – ремесло дурное». Фаддей даже заплакал, слезы у него показались, и говорит: «Неужели вы, В. К., меня изменником считаете?» Уроду как будто жалко его стало, и он говорит: «Я говорю об измене мнениям, а не отечеству». А тот еще хуже обиделся, вскочил, стал весь красный и говорит: «Ну, не забудьте своих слов, В. К., как-нибудь сочтемся. Забыли мои одолжения». А тот опять рассердился и говорит: «Я ничего не забываю, Ф. В., даже о вас в обзоре литературы упомянул». Когда урод ушел, Фаддей говорил папеньке: «Как хочешь, Николай Иванович, я этого дурака бешеного в журнал не пущу больше». Папенька и так и сяк, насилу уговорил.
После дождливого лета наступила осень, очень ясная. Вильгельму надоело жить у Греча, он снова носился с планом журнала. Раз, на Невском, встретил он Сашу Одоевского, Саша предложил ему с места в карьер:
– Вильгельм, ты одинок, и я одинок. Сердце сердцу весть подает, давай жить вместе. Что тебе делать у этого грамматика Греча? И хоть бы Греч только, а там ведь и Гречиха и Гречата. Спасайся.
Он засмеялся звонко.
– Перебирайся ко мне. Место у меня хорошее. Две комнаты пустуют. И вот что, – Саша в полном восторге схватил Вильгельма за руку, – мы сейчас же все это и проделаем. Завтра и переезжай. Вещей, полагаю, у тебя немного.
Вильгельм опомниться не успел, как извозчик мчал их к Гречу, а потом Саша распоряжался укладкой его вещей. Назавтра Вильгельм переехал.
Комнаты Сашины были светлые, просторные, хотя и обставлены небогато. Жил он на углу Почтамтской и Исаакиевской площади. Площадь была видна как на ладони. Ее портили леса, материалы, камни, нагроможденные беспорядочной кучей: строили Исаакиевскую церковь.
Саша дома сидел мало, был, по обыкновению, в кого-то влюблен и разъезжал по гостям. Возвращаясь ночью, он поднимал с постели Вильгельма и рассказывал, рассуждал без конца, с таким видом, как будто если бы подождал до утра, то мировой порядок от этого пострадал бы. Ему едва минуло двадцать два года, а запаса жизни было лет на двести. Он был поэт и писал стихи звучные и легкие, давались ему они очень легко, не так, как Вильгельму, который иной раз по целым ночам за ними просиживал. Саша задумывался, глаза его темнели, он начинал шагать из угла в угол, плавно дирижировал правой рукой, потом присаживался, сидел с полчаса и бежал к Вильгельму читать новые стихи. Сближала Вильгельма с Сашей и любовь к Грибоедову. Грибоедов приходился родственником Саше, и Саша с детских лет его любил и побаивался.
– Ты понимаешь, – говорил он Вильгельму, – дерзость в нем необычайная. Он раз при мне чуть не идиотом обозвал в театре полицеймейстера. Так тот ни слова в ответ ему сказать не мог – так изящно все было выражено.
Вильгельм с огорчением, но снисходительно говорил ему:
– Ты его судишь, милый, поверхностно.
Собирались часто у Саши друзья, гвардейцы. Саша был хороший товарищ. Его в полку любили. Появлялись жженка, пунш, аи, было шумно. Саша любил песни, у него много пели. Начинали с «Соловья»:
Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь?
Где всю ночку пропоешь?
Вильгельм любил эту песню – слова были Дельвига. Дельвиг написал эти стихи, думая о Пушкине. Голосистый соловей был Пушкин. Вильгельм подтягивал, хотя и фальшивил. Потом переходили на более веселые:
Слуги все жандармы,
Школы все казармы…
И Саша притопывал ногой:
Князь Волконский баба
Начальником штаба.
Появлялись карты, но играл Саша не всерьез, ему скоро надоедало, и усатый Щепин-Ростовский, игрок суровый, испытанный, говорил ему с досадой:
– Эк, братец, что ж ты мечешь направо, коли нужно налево. Играть с тобой нет сил.
Под утро уставали, мрачнели, и Саша, серьезный, бледный, затягивал гимн, наподобие марсельского, тот самый, за сочинение которого уже четыре года сидел в своей деревенской ссылке Катенин:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
И все под конец гремели дружно, а пуще всех старался Вильгельм:
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас.
У Саши жилось веселее, чем у Греча.
VIIДенег у Вильгельма не было, он даже обносился и иногда по ночам вздыхал долго. Саша знал, отчего Вильгельм вздыхает, это совпадало по времени с получкой писем из Москвы: у Вильгельма была невеста, которую он не хотел обрекать на нищету. У Саши деньги водились, но Вильгельм у него не занимал и уже раз серьезно из-за этого с ним повздорил. А между тем в последнее время отношения у Вильгельма с Гречем попортились. Булгарин же его прямо из журнала выживал и печатал только по настоянию друзей, и Вильгельм сидел без карманных денег, на сухарях. Положение было отчаянное.
Раз утром Вильгельм с Сашей сидели за чаем. Колокольчик прозвонил. Семен доложил:
– Вильгельм Карлович, вас человек один спрашивает.
Вошел пожилой слуга, поклонился, спросил, здесь ли живет коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, и подал пакет.
– От Петра Васильевича Григорьева.
– От кого? – переспросил Вильгельм.
Человек повторил.
– Не слыхал, – удивился Вильгельм и вскрыл пакет.
Из пакета выпала кучка ассигнаций. Вильгельм разиня рот смотрел на них.
Он стал читать, и изумление изобразилось на его лице.
– Что такое? – спросил Саша.
– Ничего не понимаю, – повернул к нему вылупленные глаза Вильгельм. – Прочти.
Письмо, написанное старинным почерком, дрожащей, по-видимому, старческой рукой, было такого содержания:
«Милостивый Государь Вильгельм Карлович!
Ваш покойный батюшка был мне благодетель. Я оставался ему должен тысячу рублей долгое время: обстоятельства лишили меня возможности заплатить сей долг; теперь же препровождаю к вам сию тысячу рублей и покорнейше прошу принять вас уверения в истинном почтении, с которым честь имею быть ваш, милостивый государь
Вильгельм Карлович!
всепокорнейший слуга Петр Григорьев.
С. – Петербург,
сентября 20 дня 1825 г.»
– Ну что же, – весело сказал Саша, – очень благородный поступок!
Вильгельм пожал плечами:
– Да я никакого Григорьева не знаю.
– Что ж, что не знаешь, твой отец его, верно, знал.
– Я никогда такого имени у нас в семье не слыхал.
Вильгельм подумал, посмотрел подозрительно на слугу и сказал ему:
– Я этих денег принять не могу. Я Петра Васильевича не имею чести знать.
Слуга спокойно возразил:
– Велено оставить. Ничего не могу знать.
Вильгельм беспокойно огляделся и задумался.
– Нет, нет, – сказал он подозрительно, – здесь, может быть, недоразумение какое-нибудь.
– Какое же здесь может быть недоразумение, – возразил Саша, – когда твое имя здесь довольно ясно написано.
– Не понимаю, – пробормотал Вильгельм.
– Мой совет, Вильгельм, – сказал Саша, смотря на него ясными глазами, – не обижать человека, совершившего благородный поступок, отказом, а принять.
Вильгельм посмотрел на него внимательно:
– Это верно, Саша, спасибо. Он, конечно, обиделся бы. Но я его посещу и объяснюсь лично.
– Где твой барин живет? – спросил он слугу.
– На Серпуховской улице, в доме Чихачева, – сказал слуга, смотря вбок.
– А когда его можно дома застать?
– Они дома бывают каждое утро до девяти часов, – отвечал слуга, подумав.
– Поблагодари же, любезный, барина, – сказал Вильгельм, – и передай, что посещу его завтра же.
Слуга низко поклонился и ушел.
Назавтра же Вильгельм собрался к Григорьеву.
Домой он вернулся поздно, совершенно озадаченный.
– Не нашел, – сказал он Саше растерянно.
– Неужто? – удивился Саша.
– Всю Серпуховскую улицу обошел, – махнул Вильгельм отчаянно рукой, – там даже и дома Чихачева нет. Взял квартального надзирателя, обошел с ним всю часть, и Измайловскую часть обошел, – нет и нет.
– Да вот поди ж ты, – сказал что-то такое Саша, слегка недоумевая.
Вильгельм помолчал и пожал плечами:
– Черт знает, какая история. Не знаю, как быть с деньгами. Я их считать своими не могу. Я публикацию решил в «Ведомостях» сделать.
Через два дня появилась в «С. – Петербургских ведомостях» публикация от коллежского асессора Вильгельма Карловича Кюхельбекера, в которой подробно описывалась загадочная история с тысячею рублей ассигнациями, поступок господина Григорьева назывался честным и благородным, но вместе с тем господин Григорьев ставился в известность, что если Григорьев хочет, чтобы присланные им деньги он, Кюхельбекер, считал точно своими, то должен незамедлительно известить его о своем местопребывании и объясниться с ним.
И Петр Васильевич явился.
Был он чем-то вроде подьячего, с лисьей физиономией, с бесцветными глазами, и Вильгельму даже показалось, что как будто немного отдает от него водкой, – но он тотчас отогнал эту недостойную мысль от себя.
Петр Васильевич называл его с умилением благодетелем и сыном благодетеля и немного удивил Вильгельма тем, что порывался лобызнуть его в плечо.
Он был мелкопоместный дворянин, и угрожала ему, тому назад тридцать лет, неминуемая тяжкая кара за одно легкомысленное деяние, совершенное им по крайней младости, – Петр Васильевич прослезился, – а Карл Карлович, благодетель покойный, – Петр Васильевич воздел ладони, – его выручил. Тридцать лет носил он сей долг священный и только сей год возмог его возвратить.
Вильгельм был растроган.
– Только не Карл Карлович, а Карл Иванович, – поправил он старика. – Отчего же вы, Петр Васильевич, не сообщили адреса своего верного? – спросил он мягко.
– Единственно из стеснительности, – сказал Петр Васильевич, прижимая руку к сердцу, – единственно из того, дабы не прийти мне в совершенное расстройство от воспоминания о благодетеле и протекшей младости. – И Петр Васильевич опять прослезился.
Саша беззаботно сказал Вильгельму:
– Как кончишь разговор, Вильгельм, скажу тебе одну важную новость.
Петр Васильевич откланялся. Вильгельм проводил его до дверей и пожал руку с чувством.
– Какое старинное благородство, – сказал он Саше, вернувшись. На глазах его были слезы. – Какая у тебя новость, Саша?
Новость Саши оказалась, однако, сущим пустяком.
Вильгельм сшил себе темно-оливковую шинель с бобровым воротником и серебряной застежкой, приодел Семена и стал доверчивее относиться к жизни: можно было еще жить на свете, пока были такие честные люди, как этот забавный старик, старец Петр Васильевич.
Он так до конца жизни и не узнал, что Петр Васильевич был вовсе не Петр Васильевич, а просто Степан Яковлевич, старый приказный; что никаких денег Карл Иванович ему не одалживал, да и не знал его вовсе Карл Иванович, да и не присылал вовсе Степан Яковлевич денег Вильгельму. А слезлив был Степан Яковлевич по причине склонности к горячительным напиткам, и нанял его всего за два рубля Саша сыграть небольшую роль, которую тот и провел с успехом. Да и слуга был вовсе не Григорьева слуга, а брата Пущина, Миши. Настоящего Петра Васильевича Григорьева составили три лица: Саша, Пущин и Дельвиг, которые были в восторге от всей романтической фарсы и долго хохотали, когда Саша изображал, как «Петр Васильевич» стремился лобызнуть Вильгельма в плечо.
Саша раз спросил Вильгельма:
– Кстати, ты здесь у врага Александра не бываешь?
– У какого врага?
– У Якубовича, – важно ответил Саша. – Они ведь там стрелялись, ты знаешь. Впрочем, он враг и другого Александра (Саша говорил о царе). Человек страшный.
Саша любил и уважал все страшное.
– А разве Якубович здесь? – оживился Вильгельм. – Я полагал, что он на Кавказе.
– Да он и должен бы быть на Кавказе, но здесь задержался. У него прелюбопытные люди бывают и всегда весело. Едем сегодня.
Якубович жил у Красного моста на углу Мойки в просторной, роскошной квартире. Мебель была мягкая, столы широкие, диваны покойные.
Он был все тот же, высокий, с мрачным выражением на смуглом лице, с сросшимися бровями и огромными усами. Улыбка блуждала на его губах – сардоническая. Лоб его был закрыт черной повязкой, кавказская пуля сидела там. Принял Вильгельма он прекрасно, да и все сидящие в диванной ему обрадовались. Кругом сидели Рылеев, Бестужев, еще несколько гвардейских офицеров, среди них высокий, с красным лицом, Щепин-Ростовский, да еще Вася и Петя Каратыгины, ученики Катенина, из которых Вася был уже восходящим светилом Большого театра, а Петя, с его быстрой сметкой и смешливостью, обещал быть некогда недурным водевилистом, если не характерным актером. Здесь же сидели Греч и Булгарин. Настроение у всех было повышенное. На столе стояли вино и фрукты. Бестужев и Щепин сидели в расстегнутых мундирах и курили из длинных трубок. Рылеев попросил Васю и Петю Каратыгиных продекламировать из какой-либо трагедии.
Вася встал, принял позу трагического актера и начал читать монолог Вителлии из «Титова милосердия» Княжнина. Петя встал напротив – в такой же позе. Читал певучим голосом, повышая его к концу строк и жестикулируя в конце периодов:
Друзья! участники Вителлиина мщенья
И прекратители всеобща униженья!
Расторгнем узы сограждан!
Скажите, римляне, на то ль живот вам дан,
Чтобы, возвышенным в теченье многих веков
Трудом богам подобных человеков,
Вне римских стен царей себе рабами зреть,
А в Риме пред своим властителем робеть?
Тотчас же Петя, мрачно скрестив руки на груди, ответил монологом Лентула:
Пускай рабы его целуют руку.
Но в ком хоть искра есть
Души благорожденной,
И кем хоть мало правит честь,
Тот, гневом воспаленный,
Не могши ига несть,
От ярости трепещет
И в сердце гром на Тита мещет.
Вдруг он схватил стоявшую в углу Сашину шпагу и, ловко извлекши ее из ножен, протянул вперед:
Се меч – вина свободы сограждан!
Отечества спаситель!
Тиранов истребитель!
Коль есть еще меж вас, кому дух робкий дан,
Кто, сердцем трепеща, от страха унывает
И к понесению преславных толь бремен
Довольно сил в себе не ощущает,
В сей час от нас да будет удален,
И, ко стопам повергшися владыки,
Изменник гнусный все явит,
Чем мы стремимся быть велики.
Рылеев с удовлетворением смотрел на юношей. Якубович пыхтел чубуком, мрачно насупившись. Саша, приоткрыв рот, прислушивался к высоким голосам. Петя кончил, понизив голос до яростного шепота:
А тот, кто рабство с гневом зрит
И кто к тиранству полн гнушеньем,
Кто хочет с нами славы в храм, —
Тот нашим да явит глазам
Меча свирепым изверженьем
Ужасный свой тирану дух.
Все захлопали. Вася и Петя, внезапно оробев, уселись на диван и неловко приподнялись, кланяясь на хлопки. Рылеев прошелся по комнате и провел рукой по волосам.
– Пускай рабы его целуют руку, – повторил он.
Булгарин вдруг сказал, оттопырив губы:
– Варвара мне тетка, а правда сестра. Вкусу здесь я не нахожу, ясновельможные, «свирепое извержение» – что за выражение.
Рылеев подошел к нему и сказал вдруг, краснея:
– А ты, Фаддей, в последнее время находишь вкус в другом – целовать руку. Подожди, если революция совершится, мы тебе на твоей «Северной пчеле» голову отрубим.
Булгарина покоробило. Он засмеялся хрипло:
– Робеспьер Федорович, об одном молю, поднеси мне в смертный час портерную кружку.
Кругом засмеялись. Рылеев забыл о Булгарине, прохаживался быстро по комнате, о чем-то думая. Потом он сказал, обращаясь к Бестужеву:
– Пора оставлять пение певцам. Жуковский и сам справится. Должно писать нам песни шуточные, пусть ходят в народе: для нас трагедия, для народа шутки – не до шуток доведут. Время легкой поэзии миновало.
– Да, – процедил Бестужев с сигарой в руках. – Жуковского из дворца калачом не выманишь. Занимается там с фрейлинами романтизмом дворцовым. Хотите, скажу вам нечто?
Он стал в позу, шпоры его брякнули. Он начал декламировать, подражая Жуковскому, слегка подвывая и подняв кверху глаза: