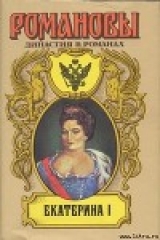
Текст книги "Екатерина I"
Автор книги: Юрий Тынянов
Соавторы: Андрей Сахаров,Владимир Дружинин,Петр Петров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 54 страниц)
– Как Марию Стюарт [350]350
Мария Стюарт (1542 – 1587) – шотландская королева, была казнена в Англии.
[Закрыть]…
Учила же гисторию Марта, запомнила королеву Шотландии. Вся Европа до сей поры жалеет прекрасную мученицу.
– И тебе захотелось? – пошутил князь. – Успеем, матушка, на тот свет… О чём я? – . Для верности мы лазейки-то закроем. Есть люди. В Брюсселе тоже есть.
– Твои купцы…
Брезгливо дёрнулась.
– Зря, матушка. Мои-то на все руки… Прикажу искать – землю будут рыть. Курьера пошлю… Выведут господина на чистую воду. Как зовут, кто таков, какие такие злодеи в Англии? Нужно будет, сам поскачу.
Адреса нет, имя чужое, но его же знают. Капитан Хойзерман, торговец книгами Шангион, и не только они… Окажется шельмой, поплатится, на то полиция. Курьер захватит образец почерка. А если истинно перебежчик, служит нам, то агенты в Нидерландах, в Гамбурге, ловкие в операциях не токмо торговых, поберегут его и помогут исподволь, без шума.
– И здесь не шуметь об этом. Боже сохрани! Ты уж, матушка, с друзьями-то за чарочкой не оброни! Чем чёрт не тешится, ну как шныряют тут оборотни, деньги оттоль имеет же кто-то. Я англичан сквозь ситечко, тихонько. И Дивьеру велю, ты положись на него. По-тихому надо, не спугнуть чтобы…
Частил, не давая и слово вставить, непроницаемую воздвигал оборону. Заметил на губах самодержицы улыбку, кажись, благодарности.
Был у монархов обычай карать гонца, приносящего дурные вести, да и теперь он как незваный гость, конфузится, о награде не помышляет. Обиды Данилыча, давние, неутолённые, сегодня забыты. Меньше всего мог бы рассчитывать…
– Эй, Александр!
Он уже прощался. Увидел лицо смеющееся, блеск в глазах.
– Твой слуга, матушка!
– Подожди!
Встала, подошла к комоду, нетерпеливо защёлкала ящичками, обитыми медью, порылась в одном, извлекла некую грамотку, потом в красный угол, где под иконой Троицы на китайском расписном стольце козлоногий фавн обнимал амфору-чернильницу. Начертала нечто державной своей рукой, обернулась, лукаво сузила глаза.
– На!
Он обомлел, узнав собственное своё прошение, вручённое три недели назад.
«Уповаю, что Ваше Величество по превысокой своей материнской милости в день тезоименитства своего меня обрадовать изволит…»
Уничтожены проклятые счета. Зачёркнут долг казне, начисленный ревизорами. Смыто позорное клеймо вора, лихоимца, расхитителя казны, смыто, смыто! Подавятся недруги, завистники.
Царица ждала благодарности и уже брови сводила, чёрная мушка, налепленная над переносицей, тонула в складке. На колени пасть, лобызать ноги? Ишь, гордится собой! Акт милосердия совершила, будто он помилованный преступник…
– Служу тебе, матушка.
Отвесил поклон – и адье [351]351
Прощай (от фр. adieu).
[Закрыть]в Сенат. Сунуть под нос Пашке… Пустился почти бегом, через залу, гостиные, только окна мелькали, летел, размахивая листком воинственно, служитель у двери отпрянул, закрыв лицо.
– По высочайшему указу…
Выговорил, задыхаясь от радости и от спешки, в пространство, в свечное марево. Канцеляристы вскочили. Данилыч проследовал дальше, к сенаторам. Наперво – сунуть под нос Пашке… Эх, нет его! Данилыч потряс запертую дверь, выбранился. Из каморы напротив вышел Голицын.
– Ты это, князь?
– Поздравь, Димитрий Михайлыч!
– Зайди!
Обдало табачным духом. Балуется боярин, привёз с Украины трубку с длинным чубуком, зелье забористое, турецкое. Не стесняется святого Дмитрия Солунского, патрона – суров его лик в проёме золотого оклада. Икона фамильная, из московских хором, так же, как и старинные сундуки, ларцы, коими заставлен кабинет. Железная оковка, тяжёлые замки-по-дедовски хранит боярин коришпонденцию, шкафам не доверяет.
Читает, поматывая головой, водит глазами близоруко. Кисло ему, небось.
Никогда не ссорился с ним Данилыч открыто. Чувствует – близко к тому. Вот-вот прорвётся боярская неприязнь…
– Поздравляю, Александр Данилыч. Славно, славно!
Хитрит старик…
– Рад душевно, князюшка…
Руки развёл, словно обнять вознамерился. Глаза раскрыты широко, искренне, лукавства, коли верить, нет и не было.
– Если душевно…
– А как же! Хорошо ведь… Угоден ты, стало быть. Раз угоден, послушает тебя.
Вот куда гнёт…
– Послушает, батюшка…
Просеменил к столу, заваленному писаниной, книгами, захлопотал, разрывая залежи.
–Глянь-кось!
Покосился на дверь, защипнул пачку счётов. Жирные печати, герб города Данцига.
– Платим, батюшка Александр Данилыч… Купцу Бреннеру шестнадцать тысяч… Купцу Кокошке… Вот, за устрицы для государыни… Сама-то она не больно… Голштинцы глотают слизняков этих. Платим, платим… Вином залились, сотни тысяч просажено, а солдатам в Персии сухарь снится… Сам знаешь… Гладом морим, скоро ружья не снесут.
– Знаю, – вздохнул князь. – Бедствует армия, без пользы там.
– Говорил царице? Не тебя, князь, так кого послушает?
– Герцог есть.
– Нам под герцогом быть?
– Зачем ты так? – ответил Данилыч с резкостью. – Я-то не молчу. Другие молчат.
Голицын сел, поник седой головой.
– Все мы врозь. Татары отчего Русь полонили? Согласья не было между князьями. И ныне – где оно, согласье? Немцев ругаем, а сами-то… Зависть и злоба. Забыли, что мы русские. Может, нам Голштиния дороже? Чем кичимся? Кафтаном из Парижа, берлинской каретой…
– Ты-то что присоветуешь?
– То и советую – русским вместе быть. Свары какие между нами, – похоронить. Мне бы потолковать с тобой…
О чём? Прервалась беседа, вошёл секретарь с ворохом свежей почты.
– Ишь, карусель у меня! Княгиня здорова? Варварушка? Кланяйся им.
Встреча запала в память. Речь боярина необычна, подбивает на что-то. В сенатских дебатах – касаемо Персии, иностранцев, финансов – он нет-нет да и кинет словцо в поддержку, острое, меткое. Часто ратовали заодно. Минутные были альянсы. Теперь, сдаётся, нечто большее предложить имеет родовитый Голицын безродному Алексашке. Вожак царевичевой партии…
Милость царицы произвела перемену. Выше цена Алексашке. Ждал бы счастья, кабы не итальянец… Неисповедима судьба, кривыми бредёт путями, не ведает человек, где найдёт, где потеряет.
Удружил сей Инкогнито…
Заговор, – твердит молва. Новые происки Лондона… Имя Лини не названо, Екатерина блюдёт условие, во дворце говорят о деньгах, пересылаемых через Ганновер, чтобы посадить на трон Петра Второго. Агенты, готовящие переворот, не найдены, ловко прячутся, отсыпают кому-то втихомолку иудины сребреники. Юродам базарным, что ли? Пропойцам в кабаке? Самозваному Алексею, снова где-то объявившемуся?
Лишь немногие считают затею серьёзной. Куда важнее то, что пишет из Франции посол Куракин:
«Две партии главные есть знаемые в Европе: одна – двор имперский с гишпанским, а другая – французы с имперским, и каждая из оных теперь ищет присовокупить в свой альянс других потенций…»
Пруссия, союзница Пруссия оказалась в одном блоке с Францией и Англией, что огорчительно. Правда, явной враждебности к России сей трактат, подписанный в Ганновере, не вызывает. Кампредон с ног сбился, обхаживая петербургскую знать.
– Вы подозреваете скрытое жало. Ради Бога, перестаньте! Союз оборонительный, ради равновесия в Европе, ни в одной статье, ни в одной букве нельзя усмотреть ущерба для России, напротив, создаются возможности…
Для тесной дружбы с Францией, которой он – посол христианнейшего короля – добивается много месяцев и, увы, не находит сочувствия.
– Ваш король женился на польке, – бросил в подпитии Карл Фридрих. – Русские ему не простят.
И громко захохотал, по-своему сглаживая бестактность. Что с него взять! Кампредона трудно смутить, он в тысячный раз клянётся, сулит, соблазняет и всем надоел. И сам-то не верит, лицемер… Обнаружилось, что полномочий от короля на заключение какого-либо договора с Россией никогда не имел. Носился с прожектами, прощупывал силы грозной империи, намерения её двора. И главное, забивал клин между Россией и Австрией.
Габсбурги и без того охладели к Романовым. Рассчитывали видеть на троне Петра Второго, родственника; восшествие Екатерины обидело. Всё ещё не могут смириться, по-прежнему отказывают ей в титуле императрицы.
– Что вам Австрия, что пользы от неё, – внушает Кампредон. – Против турок она вам не поможет. Разве послала хоть одного солдата на Прут? Только Франция обезопасит вас на юге. Ограждает вас наша дипломатия, наш авторитет в Стамбуле.
Риторика посла прозрачна – Россия не столь опасна французам, как Австрия, давний, заклятый враг. Если снова война – лишить её русской поддержки.
Некоторый толк от Кампредона всё же есть. Франция принимает русских юношей, едущих учиться. Десять лет провёл там арап Абрам Петров, вернулся офицером королевской артиллерии, фортификатором. Во Францию отправлен учебный фрегат «Эсперанса», сиречь «Надежда», на нём не только моряки, но и купеческие сыновья, дабы торговали по-европейски, проникли в суть биржевых операций, обвыкли вести бухгалтерию. Императрица сама напутствовала корабль.
От Англии же ничего, кроме неприязни. Между тем именно она, указывает Куракин, составила тройственный союз и командует им.
Что же последует?
Для светлейшего исход наилучший – восстановить доверие Вены. Цесарь дал княжеский титул, протекция сего монарха нужна и впредь, дабы исполнилось мечтание о княжестве.
– Старый друг лучше новых двух, – твердит князь, запершись с царицей, убеждённый в том, что его интерес с государственным спаян неразрывно.
– Турки, Александр.
Она была на Пруте, воспоминание живо, едва не попала в плен вместе с царём.
– Натравят французы? Есть средство, матушка.
Убрать армию из внутренних персидских провинций. Хватит добывать престол бессильному шаху, ну его! Удастся сохранить южный берег Каспийского моря, – прекрасно. Но только малой кровью… Баку и Дербент удержать непременно, царь сим приобретением дорожил.
– Он хотел дальше, – и царица подняла глаза к потолку. – Индия, Александр…
– Не всё сразу, матушка.
Екатерина колебалась. Сложности дипломатии её удручают, она вспоминает персидский поход, города, сдававшиеся почти без боя. Пётр лихо рубил гордиевы узлы, стянутые политиками, неужели теперь бессилен победоносный царский меч?
– Я спрошу Остермана, – сказала она утомлённо. – Остерман умный.
Уколола напоследок… Данилыч немедля кинулся к главному дипломату, подготовить его к высочайшей аудиенции, обговорить и совместную линию в Сенате. Свистела вьюга, заметала санный путь через Неву, вице-канцлер, верно, простужен, лежит наказанный за скупость: копеек жаль на дрова.
С Остерманом и трудно и забавно. Смеяться Боже упаси – мину сострой горестную, сочувствуй; стонет – и ты в ответ постанывай, угости хворями собственными, болтай про лекарства, мыльню свою прославляй – лишь отдав дань медицине, перейдёшь к цели визита.
Уже на парадной лестнице запахло больницей. Хозяин сидел в постели с забинтованным горлом, сипел, согревался декохтами на спирту – печь в спальне остыла. В Сенат он не поедет, погода адская, умрёт в дороге.
– Отложим, Андрей Иваныч! – воскликнул Данилыч услужливо, чтобы польстить.
Вестфалец принял как должное. Слабую, уголком губ. наметил улыбку.
– Спех… Это ловить блоха.
И он считает – стакнулись державы главнейшие против России, убоявшись её мощи, это у них общее, хотя свои цели у каждой. Франция – в пику, во-первых, Австрии, во-вторых, Испании. Пруссия хотя и венского лагеря, но окрепла, избирает роль независимую, метнулась к западным королевствам, а она на нашей дороге в Голштинию, ладно что не единственной. Обозначается более резкое размежевание Европы.
Всё это великий дипломат выражал намёками, гримасами, презрительной ужимкой, часто прерывался – кашлял, страдальчески замирал, долго полоскал горло.
– Тройка… Три лошади… Две лошади… Англия кучер.
– Как нам-то ответствовать, Андрей Иваныч?
Прибедниться уместно. Остерман пожевал губами, подался вправо, потом влево.
– Стена… Ты сделал шаг…
Костлявый палец тыкал, чертил в воздухе, пояснял. Понимай так – отход с одной стороны приближает к другой, на тот же шаг. Эка мудрость, нашёл невежду! С Кампредоном мы, по сути, прощаемся. Дальше-то что? Изреки, провидец!
Палец закачался маятником, остановился, от крайностей удалённый равно.
– Ай, разбежался! – и глаза прищурились, наблюдая безрассудство. – Разбил себе лоб.
Да, поспешность вредна, было бы опрометчиво отвадить Кампредона, обидеть короля Франции, хоть и пренебрёг царской дочерью.
– Цесарского посла пока нет в Петербурге, – сказал князь. – Позвать бы…
– Будет… Англия заставит.
То есть придётся ему, перед лицом новой коалиции, протянуть руку старому союзнику. А пока не спешить, зорко выжидать, рассмотреть пристально манёвры соперников. Вывод разумный. Светлейший встал, «спасибо» сказал сердечно. Мнения, как и прежде бывало, совершенно совпали.
Неделю спустя – Остерман всё ещё недужен, но пересилил себя – собрался Сенат.
Рады бояре, давние сторонники Вены. Но громче всех ликовал Ягужинский, заметно в подпитии.
Жаркие споры разгораются в Сенате, Ягужинский неизменный сторонник Вены, в восторге от сей перемены ветров, пылко гвоздит коварный Запад.
– Исконная есть тактика Британии – разделять и властвовать, по учению Макиавелли. Доколе будем терпеть фарисея Кампредона? Француз, а инструкции из Лондона. Австрия нам алеат природный.
Ссылаясь на флорентийского политика, генерал-прокурор посмотрел на своего соперника, и светлейший отозвался запальчиво:
– У нашей макушки-царицы претензии к цесарю, касательно титула.
– Уладится, чай, – возразил тот. – Задом стоим к цесарю, от нас зависит… Он герцогу симпатизёр, герцог из его рук получит Шлезвиг. Сатисфакция её величеству.
– За неё не решай!
Князь применял обычную тактику – раззадоришь собрание, лучше узнаешь позицию каждого. И притом, как самый преданный слуга государыни, оберегал её престиж.
Толстой, познавший в бытность послом заточение в турецкой тюрьме, поделился тревогой – султан обнаглел, непобедимым себя мнит; снимет Франция узду – накинется.
– На юге фронт наш хлипок. Солдаты с ног валятся от голода. Пропадёт армия.
По существу спора не было, все склонны к цесарю, привычному алеату, речь об условиях. Остерман заключал дебаты под гул одобрения – да, рассчитать поворот, не расшибиться! Светлейший поглаживал ордена на груди, с улыбкой то снисходительной, то иронической, а временами скучал – ничем, мол, не удивили. Дослушав вице-канцлера, вскочил, минуту наслаждался тишиной.
– Наша матушка-государыня, – сказал он громко, внятно, – с нами в единомыслии.
Иноземец Еншау, понукаемый полицией, исполнил заказ – кожа великана Буржуа, основательно выдубленная, лоснится. Екатерина изволила погладить. Милостивый дар Кунсткамере, так же, как подушка, обшитая рыбьей кожей.
Мужик, соорудивший в зале Академии наук модель звёздного небосвода, награждён царицей щедро, заводит в слободе мастерскую, берётся делать шкафы для книг, кафедры профессорам, глобусы.
Магистр Байер [352]352
Байер Иоганн Готлиб Зигфрид (1694 – 1738) – немецкий историк, филолог, член Петербургской академии наук.
[Закрыть], приехавший из Кенигсберга, напористый, тридцатилетний, овладевший многими языками, обещает дознаться, откуда произошли русские, где селились в древности, кто были их варварские вожди. Ожидаются французы – братья де Лиль [353]353
Делиль Жозеф-Никола (1688 – 1768)– французский астроном, работал в 1726 – 1747 гг. в Российской Академии наук, был первым директором Петербургской обсерватории.
[Закрыть], астрономы, в новом здании Кунсткамеры на Васильевском откроется обсерватория. Профессора, которые в Германии слыли еретиками и натерпелись от архипастырей, в Петербурге глаголют свободно. Одна беда – прививать доброе ученье почти некому.
Чтимый покойным царём Пуфендорф [354]354
Пуфендорф Самуэль (1632 – 1694) – немецкий юрист, представитель естественно-правового учения в Германии.
[Закрыть]тоже испытывал гонения, его книга «Обязанности человека и гражданина» переведена и по высочайшему повелению печатается.
Чины синодские не вмешиваются, покуда касается иностранцев, опекаемых свыше, но всякие шатания, возникающие на российской почве, изничтожают бдительно. Бродячих пророков, пустобрёхов, толкующих Священное Писание своевольно, карают строже. Раскольники при Петре откупались денежной пеней, теперь им житья не стало, и бегут они в чащобы, в лесные скиты, за Урал, за Иртыш, к землям вольным.
Сочинитель Иван Посошков из смрадной острожной ямы взят, помещён в Петропавловской крепости. Чище тут, суше, червей во щах меньше, и то спасибо. Спросили его однажды, отхлестав плетью, знался ли с английскими коммерсантами, о чём толковал, бражничал ли с ними, не пытались ли совратить его подкупом, гнусными речами. Он клятвенно отрицал.
Потом забыли его. Подозрения с него царица не снимает, он знакомец Федоса, да хотя бы и чист, но за пределами круга нужных ей и близких людей.
Пётр завещал ей армию и флот. Мать отечества внушает сие морякам на корабле, корабелам в Адмиралтействе. Туда привезли насос, купленный Татищевым в Швеции. Екатерина явилась, при ней поставили на судно, откачивали воду. Спрашивала – годится ли, лучше российских или хуже.
Её крестники – корабли, рождающиеся на стапелях, – она сама даёт им названия. Заложен, взметнёт весной паруса трёхмачтовый «Герцог Голштинский», отделать его приказано искуснейше фигурным деревом, кают-компанию – просторно, в расчёте на пиршества.
Красавцем сойдёт на воду…
Изыскать бы руль, коим можно было бы управлять взрослым человеком, как кораблём! Карл Фридрих позорит себя, с Анной разлад, наследник пока не ожидается. Шансов на шведский трон всё меньше… Елизавета шалая, боится венца, участь сестры отвращает, вся в порывах сердца, горячего тела, что для царевны непозволительно, ведь сплетничает Европа… Впрочем, дочь Петра в девках не засидится.
Есть ещё родня, крови крестьянской, рассеянная по деревням и городкам прибалтийских провинций, родня Марты, воспитанницы пастора. Две сестры были у неё, один брат. Должны быть и дети. Все ли живы – неизвестно. Ни фамилий, ни адреса не имеют, найти трудно, но необходимо. Скачут, колеся по просёлкам, нарочные, расспрашивают старост, священников, брат уже обнаружен. Напали на след первого супруга Марты, шведского драгуна, уцелел, пленником угодил в Сибирь, определился на русскую службу. Велено там оставить, повысив чином.
И наблюдать за ним…
– Ах, Эльза! Я должна была… Проклят тот, кто равнодушен к своим кровным. Из плебеев я сотворю дворян. Графов, Эльза, графов! Вообрази, какой афронт боярам! Мы посмеёмся, мы весело посмеёмся.
Обширная, разноплемённая, многотысячная семья Екатерины дышит тёплом, сулит опору, защиту, отвлекает от зла, таящегося в засадах.
Лини напомнил о себе.
«Получил из Англии письма и спешу Вашей Светлости доложить, что негодяи совещаются с министрами и другими влиятельными людьми, в том числе с герцогом Ньюкастла, важным побудителем злодейского замысла».
Наконец указано имя, это внушает доверие. С долгами разделаться не удалось, нужны позарез ещё четыреста пистолей, Брюссель безбожно опустошает кошелёк. В конце послания раздражающе лаконично:
«Шеф заговора имеет секретную корреспонденцию с Россией».
АМАЗОНКА
Месяцеслов на 1726 год возвестил:
«В сём году на небеси особливых воинских знаков не видно… Аще в сентябре они в неприятельский квадрат вступят и хотя некоторые острые знаки приключатся, но и сопротив находятся много тихих и добрых аспектов».
Губернатор выкладки звездочётов смотрел, исправлял. Слухи о войне упорны, беспокоят народ. И всё же – «Воинский жар под пеплом лежит, который свободно раздуть можно».
Далее вирши некоего пиита:
Не помогут звёзд приятные знаки
Тому, кто, мира забыв, брань хощет паки!
Известно, у российской державы немало врагов. Побиты войсками Петра жестоко, мечтают о реванше. Но трудами великого монарха Россия стала могучей, непобедимой. Вдумайся, читатель, вот перечень главных событий в истории. В 1726 году минет –
От изобретения пороха 346 лет
От начала книгопечатания 286 лет
От коронования Петра Великого 44 года
От основания флота российского 29 лет
От виктории полтавской 16 лет.
Со дня смерти царя одиннадцать месяцев утекло, Екатерина ещё блюдёт траур, балы, пляски под запретом до февраля, смиренно вступает столица в новый год. Святочных потех народу не досталось. Схватились было ватаги кулачных бойцов – полиция разогнала, кровь на невском льду живёхонько замела. Ропщут люди.
– Спокон веков дрались…
– Вишь, перед Европой стыдно!
– Говорят, голштинцы дурманным зельем царицу опоили. Чтобы нам всем орднунг…
– Чего?
– Вера ихняя.
– Иди! Орднунг значит порядок.
– А ты почём знаешь?
– Мой барин немец, чай…
– Худой порядок… Песню не спеть на улице, кучками не собираться. Рты завязаны.
– Всё бы ничего, да хлеб дорог.
Одно развлечение дозволила императрица горожанам – фейерверк. Символы, предложенные губернатором, одобрила. Взвились ракеты, осыпали Петербург цветным дождём. Воссияла фигура в короне, со скипетром, под ней запылали слова, будто возглас верноподданных:
СВЕТ ТВОЙ ВО СПАСЕНИЕ.
А на смену:
УПРАВИ СТОПЫ МОЯ.
Просьба молитвенная, которую и к престолу Божьему возносить подобает.
Палили пушки, одиночно и залпами. Екатерина наблюдала из окна, царь приучал её не жмуриться, ликовать на «огненных пирах», и они полюбились ей, причиняли лёгкую, пьянящую дурноту. Когда дымы рассеялись, она провела пальцем по лбу – жест изящно-величавый, как бы освежающий.
– Милости прошу! Битте!
Пригласила гостей откушать. Два немца – новички при дворе – громко дивились, рассаживаясь, сколько же пороха потрачено! Беспечна Россия или безмерно богата?
– Для меня хватит, – бросил Карл Фридрих.
– На фейерверк? – спросил Кампредон, вскинув остренькую бородку.
Герцог смешался, он робел перед въедливым, насмешливым французом. Бассевич мог бы помочь, но лишь промычал, дожёвывая кусок белорыбицы. Злясь на своего министра, на дипломата, сверлившего его дьявольски чёрными беспощадными глазами, потомок могущественных Ольденбургов опорожнил бокал и осмелел.
– Да, господин граф. В моём Шлезвиге, в честь победы над Данией.
– Но Дания не одинока.
– Шлезвиг – земля моих предков, – надменно ответил герцог. – Россия и Австрия…
– Сочувствуют его королевскому высочеству, – вмешался находчивый Бассевич.
Кампредон развёл руками.
– Поверьте, я тоже!
Кругом, вежливо отворотясь, посмеивались. То, что политический курс Россия меняет, общеизвестно, но огласке пока не подлежит. Австрию в последнее время не упоминали, будто нет её. Герцог, конечно, имеет в виду нечто более практическое, чем сочувствие.
– Фрицци знает мою доброту, – раздался грудной, добродушный голос императрицы. – Я ни в чём ему не отказываю.
Ольденбург поднялся, прокричал тост за здоровье её величества, потом сел и надменно застыл, чувствуя всеобщее внимание. Все смотрели на него – голштинцы с воинственным пылом, другие с неловкостью, с тревогой, с немым вопросом. Тяжёлый подбородок, выпученные холодные глаза, лишённые живой мысли… Неужели из-за него разгорится новый европейский пожар?
Рапорты Кампредона изучаются в Париже и в Лондоне. Худшие опасения подтверждает сей несравненный знаток России.
«…нахожу, что царица и её советники действительно решили напасть на датского короля, как только вскрытие льда позволит русскому флоту, корабельному и галерному, выйти в море».
Посол разведал – в апреле к Санкт-Петербургу будут стянуты войска первого удара – шестьдесят батальонов пехоты, то есть тридцать тысяч человек, погрузятся на суда. Всего же наготове сто пятьдесят тысяч – пеших и конных. Пятьдесят новых галер спустят на воду корабелы столицы – в помощь многопушечным парусникам. План наступления разработан. Флот двинется вдоль берега Швеции, опираясь на её порты. Морские силы Дании окажутся запертыми.
Возможно ли? Граф де Морвиль, министр иностранных дел Франции, удивлён – сведения такого рода сверхсекретны, часто недосягаемы. Что ж, при русском дворе много пьют, много болтают, особенно экспансивен бывает Ягужинский. Например, недавно «он публично за обедом у имперского секретаря объявил, что царица заключит с императором союз, который заставит дрожать англичан и их любезных друзей, что она сделает всё для удовлетворения герцога голштинского, и если король датский не согласится добром, то его сумеют принудить к тому».
Австрия царицу поддержит, секретарь Гогенгольц не сидит сложа руки, переговоры о союзе уже идут. Помешать этому Кампредон хотел бы, но не может. Он выслушивает сетования Вестфалена – датский посол в панике, хочет мчаться в Копенгаген, предупредить.
«Если бы я мог четыре часа поговорить с моим королём, он доставил бы мне средство уничтожить русский флот в портах».
Кампредон сообщает об этом с иронией. Какое средство? Подорвать на стоянке, поджечь? Даже один корабль трудно, почти невозможно, охрана усилена. Сокрушить Кронштадт, подобравшись незаметно? Светлые ночи слабый сулят покров. Атака встретит грозную мощь фортов – «они приведены в такое состояние, что ни один корабль не может приблизиться к ним, не пройдя под огнём более тысячи пушек».
Пусть Вестфален вообразит, во что превратится датский корабль, сунувшийся в теснину фарватера под обстрел. В груду обгорелых щепок. На правах старшего Кампредон охлаждает, рекомендует осторожность. Весна не завтра. Глупо дразнить русского медведя. Дания мала, уповать ей надо на своих друзей.
Число их растёт.
Кампредон всегда спокоен, голос его – стариковский, с хрипотцой – звучит ровно. Ни злости, ни презрения не проявляет француз. Гладит седую бородку, покачивает головой, жалеет убогих умом. Цедергельм просто смешон – ходит с видом приговорённого к казни. Швеция-де бессильна помешать войне, волей-неволей предоставит русским гавани, суда, пехоту. Наивен Юсси, пора открыть ему глаза.
От Кампредона узнает Юсси: канцлер Гарн отрёкся от Карла Фридриха. Притворялся глава голштинской партии: был душой в партии патриотов, а теперь совещается с английским послом. Порвёт Швеция с Россией, вступит в союз Ганноверский. И напрасно он – Юсси – упрямится, карьера его на волоске, в Стокгольме им недовольны.
Дружеский совет пиетисту-мечтателю – смириться. Хватит долбить стену лбом, выпрашивать приданое для Карла Фридриха, униженно торговаться. Русские даже Выборг не уступают. Да, царица обещает Шлезвиг. Юсси ведь не хочет войны?
Нет, конечно…
Мягко, исподволь убеждает Кампредон – Швеции не по пути с Россией. Спор из-за Шлезвига погаснет – западные державы вознаградят герцога.
Остерман любопытствует – какое вознаграждение? Кампредон не может сказать точно. А примет ли герцог, отступится ли? Нет, не склонен. Вице-канцлер зондирует почву – намерена ли Франция и впредь сдерживать турок? Француз гладит бородку – время покажет. Словесный экзерсис двух величайших дипломатов Европы бесплоден, наскучил обоим.
«Влияние Ягужинского усиливается, – отмечает посол. – Государыня несколько чересчур предаётся удовольствиям, даже до того, что расстраивает своё здоровье».
Генерал-прокурор, воинственный бонвиван, буквально спаивает её. Со времён Петра повелось – на пирушках, под звон бокалов творится политика.
«Государыня сказала на днях за обедом, что ей угрожают, но что она встанет, если понадобится, во главе армии и ничего не боится».
Минутное настроение её величества? Хотелось бы думать так… Но полки идут и идут к столице, дома в окрестных селениях, казармы полны солдат. Приказано согнать шестьсот мужиков на галерный двор, заложить ещё пятьдесят судов.
Первого февраля Екатерина дозволила танцы и сама открыла бал в паре с Ягужинским, сменив меланхолический лиловый бархат на ярко-малиновый. Завершив менуэт, отплясали польский, притомили её лишь трудные коленца и прыжки новомодного английского. До утра играла музыка в Зимнем.
В ту же ночь колодник Иван Посошков, находившийся в тюремной неволе полгода, скончался.
Вины за ним не сыскалось, просить за него Данилыч не собрался – своеволие небывалое вселилось в императрицу. Час и два ждёт аудиенции, мимо с победным видом шествует в её спальню герцог, а иной раз и Пашка. Обидно было и портниху пропускать вперёд – не терпелось, вишь, матушке примерить амазонский убор, сшитый по последним французским правилам, для езды верхом.
– Ох, бабье царство!
Всякий день слышат эту жалобу Дарья и Варвара. Откровенно делится князь и с Гороховым.
– Кому служим? Царице или голштинцу? Солдатам, чай, тошно глядеть на него.
– Тошно, батя. Спрашивают меня – что же наш фельдмаршал? Боится герцога? Гвардия недовольна, не хочет быть под немцами, хочет русских офицеров.
– Убавил я немцев, сколько мог. Говори с гвардией, Горошек! Скажи – старается фельдмаршал.
– На тебя надежда, батя. Голштинцы осатанели. Кто «ура» кричит вместо «виват», тому хрясь в морду и пишут, чтобы на Ладогу.
– Знаю, знаю…
– Хуже каторги канал этот…
– Гвардейцев не отпущу.
Феофан Прокопович уже готовит вирши. Впервые высоким штилем, наравне с подвигами Геракла, будет воспето рытьё тяжёлой северной землицы – где вязкой, где топкой.
Где Петрополю вредил проезд водный,
Плодоносные суда пожирая,
Там царским делом стал канал бесплодный,
Принося пользы, а вред отвращая…
Но ещё осенью возник спор в Сенате – Миних потребовал пятнадцать тысяч солдат, нужда срочная, иначе берега свежевырытого русла начнут осыпаться. Светлейший восстал, взывая к милосердию, – погибают люди на работах: ни житья там сносного, ни одежды тёплой, интенданты растаскивают продовольствие, а Миних, пожалованный неведомо за что в генерал-лейтенанты, мирволит им, держит копальщиков на нище святого Антония. Лягушками, что ли, приучает питаться?
Но откуда подмогу взять? Мужиков из ближайших уездов предовольно отряжено, скоро пахать некому будет. Так, уступая Миниху, рассуждали Ягужинский, Апраксин и к вящему огорченью Толстой – прежде во всём единомышленник.
Кто более достоин жалости – крестьянин или солдат? Различать их нелепо, – доказывал князь, – и повторял свою максиму – они яко братья, плоть едина. Решает интерес государственный. Время нынче тревожное, армию отрывать от учений, от караулов не след. И тут, злясь на неверного Толстого, распалился светлейший.
– Ни одного солдата… Запрещаю… Августейшим именем…
Сходило же с рук, словно бронёй прикрывался Данилыч сим охранным паролем. Вышла осечка. Миних излил негодование герцогу, тот поспешил к царице, и князя постиг конфуз.
– Эй, Александр!
Как бичом хлестнула. Разве докладывал? Ведать не ведала… Что возомнил о себе? Монаршее имя присвоил, наглый обманщик, узурпатор. Пробирала долго, въедливо, Данилыч краснел и бледнел. Пытался обратить гнев государыни против Миниха – нерадив-де, плохо строит канал, губит работных. Взялся ехать ревизовать. Царица кивнула, усмешка недобрая играла на её губах.
– Поедешь… С Павлом поедешь.
Сущее было наказанье трястись бок о бок в кибитке в ростепель, по ухабам, по лужам, шлёпать по грязи, соблюдая афабилете – сиречь приветливость, которую французы предписывают благородным кавалерам. Спали на соломе, хлебали щи с прогорклой серой капустой, арестовали полдюжины интендантов, но сместить Миниха князю не удалось: инженер он умелый, увы, не придраться! Копальщиков, плотников действительно не хватает – дело ведь святое, царское, с великим поспешанием начато.








