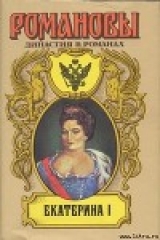
Текст книги "Екатерина I"
Автор книги: Юрий Тынянов
Соавторы: Андрей Сахаров,Владимир Дружинин,Петр Петров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 54 страниц)
– Ну это ещё не много! – с неудовольствием заметил Головкин – Кричать они могут и просто при милостивом обращении к ним государыни. Да вот узнаем, что там такое делается, – прибавил граф, увидя издали идущего зятя. – Нам Павел Иваныч всё расскажет. Павел Иваныч! Ступай, братец, сюда.
А тот не слыша и не смотря в ту сторону, даже не догадывался, должно быть, что его требует почтенный тесть, жаждущий услышать повесть о том, что было при появлении государыни перед преображенцами, так усердно и громко заявлявшими свою преданность.
Видя, что Ягужинский направляется в сторону, а не к кружку, где жаждали услышать от него самые свежие новости, тот же дипломат, которому уже мерещился поход русских и чуть не уничтожение Дании ради восстановления прав Голштинии, вскочил с места и пустился догонять Павла Ивановича. Ему, однако, удалось это почти у самого дворцового крыльца, на которое, как видно, спешил войти маршал, чем-то озабоченный.
– А мы вас, милейший, ждали-ждали и чуть не проглядели! – хватая его за кафтан, прерывистым голосом закричал дипломат.
Ягужинский, занятый своею мыслью, не вдруг понял, чего от него хотят; поняв же, сердито ответил:
– Оставьте, пожалуйста, меня в покое! Что мне за дело до ваших желаний!
– Да видите – граф Гаврило Иваныч усильно вас просит, не я… не я…
– Что же нужно Гавриле Иванычу?
– Чтобы вы к ним сюда завернули на минуточку… долго вас не задержат, не беспокойтесь. – И сам так умильно глядит на сердитого генерал-прокурора, что тот, как ни был взбешён этою остановкою, не мог удержаться от улыбки и сказал:
– Теперь никак нельзя – через несколько минут, пожалуй!
– Так позвольте я вас здесь подожду?
– Хорошо, пожалуй! – отвечал сухо Ягужинский и скрылся за дверью, ведущей в коридорчик, к опочивальне её величества.
Любопытство назойливого дипломата было возбуждено в высшей степени, и в ожидании возвращения графа он стал перед дверью. Вдруг ему послышались какие-то голоса, и он не мог удержаться, чтобы не приложить уха к замочной скважине, не обратив внимания на то, что дверь отворялась изнутри, а не снаружи. Вдруг – бац! И подслушивающий с визгом полетел в цветочную куртину – окровавленный.
– Виноват! – начал было извиняться размахнувший дверь камер-лакей, но, увидев кровь, быстро запер дверь и скрылся.
Между тем ушибленный вскоре лишился чувств от потери крови и от испуга, так что когда Ягужинский вышел, то увидел, что у самого крылечка лежал в обмороке человек, весь в крови.
Не вдруг удалось Павлу Ивановичу найти людей, и прошло довольно много времени, пока отыскали доктора и унесли бесчувственного в оранжерею. Между тем стоустая молва искажала уже нелепым образом слух о человеке, найденном в крови. К дипломатическому кружку прибежал кто-то из голштинских камер-юнкеров и поведал, что один иностранный дипломат пал жертвою личной мести. Что это сделалось, когда свадебный кортеж направлялся к церкви и в суматохе никто не слыхал воплей жертвы, теперь найденной в кустах.
– Быть не может! – сказал недоверчиво канцлер. – Все наличные дипломаты после обеда были здесь и об отсутствии ничьём не заявлялось…
Другие утверждали, что в кустах найден был труп самоубийцы, избравшего этот момент для расчёта с жизнью, чтобы нарушить общую радость печальною катастрофой.
Что касается пострадавшего, то он рассказывал, что с ним вдруг сделалось дурно и он не может понять, каким образом очутился в куртине.
Пока происходил этот переполох, кружок нерасположенных к светлейшему князю неприметно примкнул к разным кружкам в саду, слушая и соображая, где и что говорилось. Раньше было совещание в самом дворце. Возмущённые ловкою штукою Меньшикова, разом обратившего на свою сторону голштинцев, которых хотели сперва употребить орудием для его низвержения, враги решили обдумать: что им делать? Павел Иванович Ягужинский спешил именно на это совещание, когда подвернулся ему любитель подслушивать.
Меньшиков с государынею и новобрачными был на лугу, при гвардейцах. Проводив его туда, Павел Иванович исчез и поспел вовремя на совет – что делать с такою зубастою щукою? Председателем маленького кружка решившихся употребить все усилия для низвержения изворотливого временщика был, как и прежде, Толстой. Сторону же его держали: Шафиров, Матвеев, Дивиер и двое князей Долгоруковых.
Столковаться они спешили теперь же, не теряя времени, чтобы не поставить самих себя в невыгодное положение, так как надежда на главных союзников так нежданно рухнула.
– Главное и первое дело наше теперь, братцы, – сказал Толстой, озирая товарищей, – следить за всяким шагом Сашки и перетолковывать все его действия на свою руку, возбуждая в Самой и в старшей цесаревне недоверие к его россказням. Слышно, что он намерен удалить новобрачных в Лифляндию, рекомендуя путешествие тотчас же после свадьбы… Нужно бы пооттянуть эту поездку до той поры, пока государыня сберётся на флот, а в ту пору внушить, что светлейшему надобно спешно осмотреть флот и прибрежные крепости, так чтобы недели на три его отлучить, а в эту пору дать полную возможность Сапеге закружить головку… Князь Ян, хотя и корчит преданного друга Сашкина, но бьёт на свой пай, разумеется. Не удалось нам приручить его в посту великом, не будем же с ним сходиться явно, а подстроим в его пользу делишки. Не олух же он, чтобы, видя союзников, бескорыстно для него работающих, не оценил нашей поддержки или бы пошёл против нас?
– Я вполне согласен с тобой, граф Пётр Андреич, – высказался Дивиер, – и каждое утро будем напевать о погоде и бурях в море да о неготовности дорог для поездки их высочеств.
– А я, – отозвался Шафиров, – буду зорко следить, чтобы Макарова не допускать до короткости с Сапегой. Алёшка хотя продажная тварь, но его от Меньшикова ни за что не оттянешь: ни волею ни неволею… И к Сапеге он льнёт, конечно, в качестве соглядатая, но ведь тот сам не промах и хорошо понимает, для чего Алексей Васильич так лезет в душу к нему. С князем мы давнишние знакомые. Он меня знает насквозь, я – его… И за то, что он будет нашей шайки держаться, я вам отвечаю.
– И я тоже, – подтвердил граф Андрей Артамонович Матвеев. – Только скажите напрямки Павлу Иванычу, что мы его не чуждаемся и понимаем необходимость, заставившую его по наружности пристать к Сашке. Он тонкая штука и нас совсем предавать не станет, даже тестюшке, а не только Данилычу. Только нужно, чтобы он знал: на что тянуть! Сам он человек умный и не забудется ни перед сладкими обещаньями Сашки, ни перед дружбой Сапеги. Вот если бы удалось нам его пристроить, вместо хапалы, к внучатам государыни, – совсем бы вышло прекрасное дело…
– Ну, это не след теперь и ставить на вид… – подумав, ответил Толстой.
– Гораздо лучше кого-либо своего провести в кавалеры к Петиньке…
– Возьмите и проведите либо моего сына, либо племянника, – вызвался один из Долгоруковых, – и можете не беспокоиться: внучек попадёт в надёжные руки… так что немцу придётся гриб съесть… Тем паче, что мой Ваня уже известен его высочеству великому князю и ласково им принимается… и руку нашу держат Зейкин и Маврин, отчасти…
– Ну, так, пожалуй, и его можно будет, только подождать надо. Пётр Павлыч уже не откажется намекнуть так и так – Самой улучив подходящий случай, – решил Толстой. – Пусть поддерживает графа и Павел Иваныч. Да вот и он. Лёгок на помине!
– Действительно, я… только нелёгкая навязала мне одного прощелыгу, увязался у самых дверей, здесь почти… иди я с ним растабарывать с тестюшкой! Я и так, и сяк. Уж и сам не знаю, как посчастливилось улепетнуть. Простите великодушно за промедленье! Вы уж, чай, всё перебрали и перерешили? – спросил он, обращаясь к Толстому.
– Да, кое-что надумали-таки, – изволь прислушать…
– Ты мне скажи только главное… куда всё по ряду пересказывать! Спешить, знаешь, нам надо, кончить да разойтись, пока не воротились с луга…
– Изволь, в коротких словах перескажу. Согласились первое – давать ход Сапеге с его планом, второе – наблюдать за Алёшкой Макаровым, чтобы не подлез к Сапеге, третье – самого зубастого пса на привязи держать. А Самой его всякие штуки изображать с толкованьем, что он её в грош не ставит, от себя всё выдумывая и своим всё позволяя, а четвёртое – голштинцам ходу не давать, вместе с прочими иными, под благовидными предлогами…
– И только?
– Да, забыл ещё, – хотим пооттянуть отъезд молодых в Ревель и подбить Самое на посылку ворога крепости осматривать да полки…
– Не много же вы, друзья, придумали! Стоило ли из-за этого собираться! Я ожидал чего ни есть посущественнее да поближе к делу… прицепившись к заявлению о поддержке зятя…
– Да что же ты придумал? Говори, братец… Ум хорошо, два лучше, а три ещё лучше… А твой умок…
– Без насмешек, мой дорогой граф Пётр Андреич. Дело не в словах, а в захвате прямо того, чего держаться. Куй железо, пока горячо! С пыла, значит, и берись.
– Да говори прямо, коли просят тебя! – с нетерпением отозвался Шафиров.
– Извольте. Первое дело, я думаю Самой теперь же представить, что для постановки дела о Голштинии нужно немедленно учредить совет [65]65
Указом от 8 февраля 1726 года Екатериной I был создан Верховный тайный совет. Учреждение совета было результатом борьбы за власть между разными группами дворянства. Вначале он состоял из семи членов: А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Г. И.Головкин, П. А. Толстой и др. Он имел совещательный характер, но фактически решал все важнейшие государственные дела, ограничил роль Сената. Просуществовал до 1730 года.
[Закрыть]… и на него возложить измышление мер, не терпящих отлагательства. А в совет нам друг друга и выбрать да зятюшку к рукам прибрать всем вместе и каждому поодиночке, приманкой голштинского дела… Сашка будет тут один, и ему придётся исполнять не свою волю, а нашу. Граф Гаврило Иваныч, как канцлер, первое кресло займёт; я буду его настраивать… понимаете: как и что…
– То есть как же это его настраивать? – возразил Толстой.
– Заставлять нас по вашей дудке, что ли, плясать? Как не понимать! – резко, с нескрываемым неудовольствием возразил, перерывая Толстого, Шафиров. – Вот оно в чём главное-то!
– Ты, Пётр Павлыч, не спеши ещё ехидничать да перекоряться. Можешь уличить, когда будет что похожее на дело; а ради своей старой вражды с моим тестем не след ещё тебе враждебно относиться к образованию совета. Он только и в состоянии связать по рукам Сашку.
– Да! То есть вам передать на расправу, что ль, и самим шею протянуть?! Молоденек ещё, Павел Иваныч, коли думаешь, что плутня твоя не в примету и что на такую уду нашего брата, старого угря, выловишь…
– Ошибаешься и обижаешь. Я и не думал тебя ловить… а говорю прямо: кто не разделяет взгляда моего на важность совета – пусть не садится в него… и даже – пусть против идёт… Сила разума даст надлежащую цену моему предложению в глазах непредубеждённых. А кто предубеждён, с тем ничего не поделаешь. И начинать нечего…
– Да ты, друг, Павел Иваныч, и сам не ершись так. Пётр Павлыч дельно говорит, что коли совет, то Гаврилу Иваныча старшим посадить – нам немного будет прибытка. Первое дело – он крепко упорен, да и упорен, заметь, при недогадливости. А это, братец, сам знаешь, в борьбе с хитрецом Сашкой значит то же, что лучше и зуб не оскаливать, – высказался Толстой.
– А я-то на что?! Я ведь говорю, что я его настраивать буду, как и что нам надобно провести… а тесть только будет орудием нашим, не больше.
– Да нашим ли, полно? А может, твоим! Ведь ты говоришь за себя одного, коли ты его настраивать берёшься? И мы в этом нисколько не сумневаемся… тебя ведь мы хорошо знаем, что ты за птица!.. – не отставал оскорблённый Шафиров.
– Я с тобой и говорить, коли так, не хочу и дела иметь не желаю! – вспылил, выйдя не к месту из терпения, Ягужинский. – Можно и без тебя совет составить… коли так.
– А-а! И без него? А – смею спросить, что из этого выйдет-то, голубчик? – возразил Толстой гневному генерал-прокурору. – Вот, перво-наперво, Петра Павлыча побоку, потому что не то говорит, что тебе хотелось бы… Там – меня, скорее всего, потому что и я грешен в том тоже, да и ни за что не подлажусь. Затем – графа Андрея Артамоныча. Он и подавно не уступит, коли что увидит не так. И останетесь в мнимом совете вы, вероятно, двое с тестюшкой своим, ещё Голштинский да Сапега?! Это ли тебе кажется хорошим и нужным, Павел Иваныч, для обузданья зубастой щуки?
– Коли будут все несогласные выгоняться, так какой же прок и какой барыш будет в совете вашем? – поддержал Дивиер.
– Ну… коли так, пошли! Один другого лучше…
– Я вовсе не то говорю и не думал ни об исключении чьём бы ни было, ни о преобладании тестевом и моём в совете, а только – о благовидном прикрытии персоною канцлера нас, истинных воротил дел в совете. А коли Пётр Павлыч не хочет и слышать о канцлере, которого сама государыня непременно и без нашего спроса посадит, коли решит совет, тогда – я говорил – Петру Павловичу не место будет там. Дела идти при такой слепой ненависти его к графу, разумеется, не могут … Вот что я хотел сказать.
– Отчего же, смею спросить, идти дела-то не могут у целого совета из-за противоположности воззрений одного члена? – спросил Ягужинского умный и сдержанный Матвеев.
– Могут, не спорю, когда один, а не все будут противоречить… – вздумал увернуться Павел Иванович.
– Не дело говоришь, друг Павел Иваныч, – поддержал Толстой. – Я думаю, что чем больше разных мнений, тем вернее и ближе к цели решения.
– Да какое же решение, когда все врознь… кто в лес, кто по дрова? Единенья никакого тут не будет, а стало быть, и не дойдёт ни до какого решения… – возражал Ягужинский.
– Не спорю, – как бы согласился Толстой, – и так когда-нибудь… могло бы случиться. Но раз, не больше. Совет, напротив, для того и устраивается, чтобы не давать дурачить себя делопроизводителю, а дела вершить разумно, с разных сторон обсуждая полезность и вред, выгоду и невыгоду. И это всё высказывается каждым, думающим по-своему, разумно и основательно поняв суть дела и цель предлагаемой меры. Что за беда, что один-другой и не будут разделять видов докладчика? Хорошее останется хорошим. Большинство станет за дело. А несогласные, возражая, укажут разве с своей стороны, что им кажется не совсем годным? Может, иное и вправду будет полезно, освобождая от возможного подвоха или промаха.
– То-то и есть, что под предлогом ожидания подвоха чаще всего норовят разбить подлинно хорошее предложение! – ухватился, как за соломинку утопающий, ещё раз Павел Иванович.
– А ты укажи, голубчик, на примерах такую якобы нашу страсть портить дело ради самолюбия или паче по недостатку рассуждения… прежде чем взводить обвинение, – холодно возразил граф Матвеев.
Ягужинскому при этом вызове блеснула мысль уколоть, как он думал, ловко самого Матвеева напоминанием дела, повлекшего осуждение Шафирова за ссору в Сенате. Недолго думая Павел Иванович и брякнул:
– Хорошо! Предложение о даче жалованья за труды по службе, кажется, неоспоримо правдиво, но что раз вышло, например, когда, по ходатайству брата переводчик Михайло Шафиров попросил дачи жалованья себе у господ Сената?
– Эк ты куда хватил, Павел Иванович! Большой же ты ловчак! – отозвался Шафиров. – Я буду должен сам тебе на это отповедь дать. Брату следовало жалованье, бесспорно, но Скорняков под сукно запрятал указ тобою не исполненный, приняв временное прокурорство, норовя нашему общему ворогу. А чтобы я его не уличал, потребовал моего удаления: якобы я тут был причастен к делу, по родству. Я возразил при этом нахальстве резко, каюсь… Подхватил мою резкость Сашка, такой же мастер концы ловить, как и ты, Павел Иваныч, не обидься за подходящее сравненье… Вот и вышло между мною и им безобразие… Не оправдываю свою запальчивость… Но могу одно сказать, что самый случай подобного греха со всяким горячим человеком может случиться, когда докладчик – вор, и турусу подводит, держа в одну руку с председателем… Ради такой лёгкости распрей и следует в совете, о котором теперь мы рассуждаем, не быть председателю постоянному, а выбирать председателя на одно присутствие. И то в самом заседании, прежде чем садиться, шарами разумеется. Докладчиком же быть секретарю, а никак не одному из равноправных членов. Равенство свободных голосов тогда и принесёт всю пользу, от него ожидаемую.
Павел Иванович Ягужинский совсем растерялся при таком полном крушении своих надежд, ради которых он и подбил на совещание. Он опустил голову, и на лице его выступило недовольство в соединении с враждебностью к выбранным было им в союзники. Так что в эту минуту он готов был переменить мысль о том, что тесть его – на поддержке которого основывалось многое – никогда не может сойтись с Меньшиковым, враждуя с ним единственно ради первенства, которого тот, естественно, не уступал и не уступит. В ушах генерал-прокурора ещё болезненно отдавались последние слова Шафирова, когда Толстой нанёс ещё более отважный и неотвратимый удар его самолюбию, резюмируя все выслушанное на совещании.
– Из этого видно, господа товарищи, – молвил Толстой, – что нам Павла Иваныча нельзя даже прочить и в члены совета, при высказанной им неуверенности в пользе свободных голосов. По его мнению, нельзя даже в совете прийти к решению иначе как с нажимом председателя! А такого обращения с нашими мнениями мы меньше всего желаем. Один граф Гаврило Иваныч будет равный с ним, не перемогая, как единица, ничьего единичного же мнения. А если допустить поддержку его ещё в члене равноправном, два голоса – уже видный перевес! Поэтому двоим разом – зятю и тестю – сидеть в совете мы допустить не можем, без очевидного подрыва права каждого из нас и всех вообще. Пусть своим Сенатом и заправляет Павел Иваныч, а нас не касается.
Ягужинский уже больше и слушать не хотел. Повернулся и стремительно вышел, заставив всех только молча поглядеть вслед уходящему.
Когда Ягужинский скрылся за оборотом стены в коридорчике, граф Матвеев сказал:
– Последними словами своими ты, граф Пётр Андреич, положил в долгий ящик будущий совет. Павел Иваныч примет, понятно, все меры, чтобы его не было.
– А он будет всё-таки … и откроется без него!.. – решительно сказал старый граф, вставая с места. За ним пошли в разные стороны все участники совещания.
Неприятный случай с любопытным дипломатом дал Павлу Ивановичу благовидный предлог немедля переговорить с тестем и показать ему, что оба они должны держаться в стороне от союзников.
– Посмотрим, – расставаясь с Ягужинским, молвил тесть, – как-то они без нас успеют? А мы без них и против них можем устроить много такого, что не только помешает им пользоваться плодами грядущих успехов, а, чего доброго, не удастся ещё, может быть, ничего и выполнить из задумываемого. Рано в откровенности пустились!
– Я ещё успею и к князю подойти да…
– Предупредить его небось? Не надо… Нам не во вред с тобой будет начало их вражды к неприступному. Успеем и тогда на сделку пойти, когда он, ища союзников, сам станет с нами заигрывать.
– Да он ведь и то давал понять, что вам не без выгоды будет с ним заодно стоять.
– Тем лучше… Пусть подождёт да померекает: чем ни на есть нас привлечь. И ещё меньше, при таком расположении, следует допускать спешку! Да, сказать правду, я ещё на него тем паче теперь зол, что он, бездельник, не в свою голову загнул сегодня загадку с непутной Голштинией… Как ещё разобраться придётся с этой похвальбой?! Теперь мне следует ухо держать востро, да и к Самой не подсовываться, а давать понять, что втянул её дружок в такую кашу, что, чего доброго, не вдруг расхлебаешь и натощах, а не только сытому и пьяному соваться, вылупя бельмы да ничего не соображая…
– Ну, вы как хотите… а я на всякий случай от светлейшего удаляться не должен из одного самосохранения… – решительно высказался зять.
Головкин холодно вырвал у него руку и сквозь зубы процедил:
– Как знаете… Свой царь в голове…
Вскипев не вовремя и поворотясь спиною к зятю, канцлер заметил толпу возвращавшихся с луга и поспешил сойти с большой дорожки на узенькую. Там он присел уединённо в шпалерник, желая не показываться никому на глаза. В десяти шагах от него, по другой тропинке, прошли, теперь к птичнику, обнявшись, Дивиер с Шафировым. Они не заметили старого канцлера на его наблюдательном посту.
Когда они скрылись, показался Меньшиков, о чём-то тихо перешёптываясь с Бутурлиным.
– Экая досада, что ничего не слыхать! – прошептал про себя канцлер и привстал на скамеечку, чтобы из-за листьев присмотреть, кто ещё идёт.
В ту минуту, как приладился было Головкин, никому невидимый, а сам всё видевший, Меньшиков с Бутурлиным поворотились назад и командир гвардейского полка, проведя рукою в сторону старого дворца на Ерике, начал по пальцам словно считать кого-то. Он при каждом приближении указательного пальца к ладони другой руки что-то шептал, кивая головою в знак утверждения.
– Ведь это, чего доброго, мерзавец даёт отчёт своему милостивцу о неудачном совете, куда втёрся к дуракам, якобы к ним присоединяясь заправду?! Вот те и вся недолга! А Павел ещё хотел такую же штуку проделывать… Вот шутники-то! Один перед другим так и торопятся забежать. Как же Сашке не пыжиться перед такими ослятками, которые в обе стороны норовят?! Вот два Петрушки, да Антон – другого складу; те не пойдут ни доносить, ни лебезить. А это – сволочь! Хоть бы и мой любезный зятёк… только на одно холопство и годен. Срамник!
И вскипев гневом, осторожный канцлер плюнул. Он теперь прятался за ствол дерева, заметив приближение Шафирова с Дивиером, которые хотя и остановились рядом, но говорили так тихо, что он не мог ничего расслышать. Наблюдение и совещание окончательно были прерваны толпами, нахлынувшими в первый сад с луга и следовавшими за государыней с новобрачными.
Все потянулись за ними. И снова, хотя ненадолго, заняли свои места в церемониальной зале.
Подали сласти и вино. За тостами прокричали несколько благожеланий, и тут же все встали и направились к Летнему дворцу, у которого подали экипажи новобрачным.
Маршалы поехали отдельно, вперёд, разумеется. Светлейший сел с Апраксиным [66]66
Апраксин Фёдор Матвеевич (1671 – 1728) – один из выдающихся сподвижников Петра I. Участвовал во всех делах молодого царя. Затем был воеводой в Архангельске, где построил корабль для торговли за морем. Принимал участие в военных походах, надзирал за судостроением в Воронеже. В 1700 году назначен начальником Адмиралтейского приказа. Апраксин много сделал для развития российского флота. В 1708 году получил чин генерал-адмирала. В 1723 – 1726 годах стал командующим Балтийским флотом.
[Закрыть], Головкин – с зятем.
– А ты мне, Павел Иваныч, дал-таки обильный запас думы: что-то выйдет из вашего дурачества? Прежде чем сходиться, нужно было бы договориться вам хоть настолько, чтобы при разногласии разлада не устроилось, как теперь, говорите, вышло… А коли разлад явный, шапками врознь, скверное дело: друг друга доедать приметесь теперь же, ворогу на потеху. Недаром он и ухмылялся так бесстыдно на шушуканье своего подхалима, Бутурлина! Тот ведь вас всех предал, а себя, ясно, выгородил.
– Как так? Не слыхал!
– Ты у меня спроси… Потеха! Как пошёл ты навстречу старшим, я, не будь глуп, в сторонку, за шпалерник – вижу, густенький такой, можно важно ухорониться. Присел и смотрю. Широко таково шагают парой, под ручку, Шафиров с Дивиером… так пальцами и разводят. Не слыхать только, что баяли… кажись, не по-нашему даже, и не по-латыни. А затем выскакивает другая пара: с Бутурлинчиком – Сашка. И уж Бутурлинчик припадал-припадал ему к уху, а сам руками всё разводит да по пальцам считает. Ну, думаю я, сказать Павлу, чтобы теперь уже отложил попечение: лезть к медведю…
– Пустяки! Я всё же пойду. Даже нужнее чем прежде подбежать… Спасибо, что заприметили Бутурлинчика. Я знаю уж, как начать. С ним главное – приступ! Один раз со смехом и объятием можно, другой – с соболезнованьем… а на этот раз – с поздравленьем!
– Как – с поздравленьем? С чем и про что?
– Это уж наше дело. Машина пущена и замелет исправно, так что любо… Сами скажете: молодец…
– Ой ли! Продувная же ты, значит, Павлушка, бестия, если на этот раз сумеешь повернуть в свою пользу!
– Повернём! – со смехом похвалился Ягужинский.
Тесть покачал головой с недоверием. И он был почти прав, как показал дальнейший ход дел, далеко не соответствующий похвальбе самоуверенного генерал-прокурора.
В передней карете, после того как она двинулась, начался следующий разговор:
– Хватил же ты, братец Александр Данилыч, через край, я тебе скажу, навязывая нам, якобы за покойного, расправу с врагами голштинскими!? – полусердито, полунасмешливо молвил генерал-адмирал светлейшему. – Вот так ловкая штука, подумал я… и сразу понял, что почуял ты свой немалый промах и вернул вкруговую с другого конца… чтобы глаза всех туда оборотились…
– Да хоть бы и так, Фёдор Матвеич? Ужели меня осудишь за изворотливость? Мало ли что говорится? Иное скажешь – и по душе придётся, словно медку поднесёшь, да потом и отъедешь помешкавши… Коли понял меня ты, стало быть, не станешь же заправду принимать посулы. Мне, как и тебе, голштинцы никакая родня, а в толпе моих ненавистников – переполох… да какой ещё, я тебе скажу! На чрезвычайный совет тотчас из-за стола собрались, и такую чушь каждый, усердствуя, начал блеять, что хотелось бы в сторонке послушать такой комеди. Мне уж верный человечек всё пересказал, как было и что… Совет хотят: одни – меня укоротить; другие – в отставку меня приговорили, а наш с тобой свадебный строитель, Павел Иваныч, предложил в вожаки своего тестюшку; а себя в заправлялы по совету. Как брякнул он это самое – все, говорят, разом и на попятную. Знают, известно, что за гусь граф Гаврюшка, да и зятька уж раскусили… что он за подлипала.
– Ого? Вот они как. А я баран бараном: ничего не знаю, друг Александр Данилыч! Спасибо, что поведал, какие чудеса, слышь, у нас под боком творятся, а нам, старикам, и невдомёк. Эки шутники! И много таких нашлось?
– Изрядная кучка; да все – я те скажу – дока на доке! А голова у них – Петрушка Толстой, стервец! И смерть-то его словно забыла?! Ведь на девятый десяток перевалил! Пора бы, кажись, в чувствие прийти да покаяться мало-маля о содеянном душегубстве… хоша бы стрелецкую расправу попомнил да благословил бы Бога, что его башка на плечах удержалась. Вестимо, Создатель на покаяние время дал! Так нет… всё злобствует… власти добивается!.. И мы ему с тобой первые поперёк горла стали… Хвалится, что счёты адмиралтейские разберёт и корыствование раскроет…
– Вот как широко хватает! Неча сказать, угар-молодец! Ведал бы путём хоша свои мануфактуры да заводы, и того бы за глаза было другому, в порядок да в устройство привести. А он всё на чужую полосу бельмами зетит да под других подрывается. Да видали мы не таких ещё ловчаков, и не из стрелецких опальных, а из верных слуг отечества. К примеру молвить… князя Якова Федорыча: смышлён и деловит был… да когда блаженныя памяти государь сам ему отдал приказ флотские счёты поверять, так попервоначалу взялся, а повертел… видит – нелегко… «Не моё, – говорит, – дело! То особь статья. Моряки одни поверить могут, а не мы, что по земле горазды ходить!» А тут, с позволения сказать, Петрушка Толстой, какой ни есть проходим, похваляется нас поверять?! Пусть попробует! Вот Чернышёв целые годы употребил, да и то, говорят, поверил одну сухопутную службу. А стройку кораблей, говорит, николи не пущусь поверять… затем, что тут мастеру одному сведомо, как и что… Вот оно дело какое выходит.
И вздохнул старичок генерал-адмирал тяжело-тяжело, в раздумье от намерения Толстого: поверить расходы флота, с начала с самого не считанные.
Меньшиков заранее знал, какой результат может выйти от этого заявления, им выдуманного. Довольный впечатлением, произведённым на генерал-адмирала, Данилыч прибавил:
– Да нам с тобой двоим – пока ты меня, а я тебя поддерживать станем – наплевать можно на всякие дурацкие похвальбы! Я тебя только ставлю в известность, куда метят общие благоприятели наши да суют Гаврюшку в набольшие, титула ради канцлерского… словно вправду у него ума палата!
– Это и видно, что палата! – усмехнулся, на этот раз не без ехидства своего рода, добряк Апраксин.
– Не будь секретаря, так палатный ум и отписку сам настрочить замнётся, а не то что иное, потруднее. Вот Шафиров – другое дело. Это писака и делец… И, чего доброго, благочестивейшая, коли слышала Гаврюшкину отповедь, за столом, на речь твою, – за Шафирку схватится. Гаврюшка нахально заругался, – через одного от меня сидел; уж это я всё слышал своими ушами. А Шафиров прямо отпалил: «Коли, говорит, разумным людям в труд будет голштинское дело направить, и мы, некошные, годны будем горю такому пособить… Не олухи родились-таки».
– Ну, Шафирку пустить – кутить и мутить нам, братец, тоже не с руки… найдутся люди и почище Шафирки, да и поусерднее… и из немецкой нации. К примеру взять Остермана… ласковый, и покладный, и усердный человек! Да и в делах смыслит лучше всех посольских писак… да и немец природный, не по-латыни станет, а по-немецки отписываться с немцами. И на нашу сторону парень склонный, а ещё сам просит поддержки и защиты… от Гаврюшки…
Генерал-адмирал слушал похвалу Остерману, казалось, с напряжённым вниманием, а выслушав, задумался, и на лице его отразились набежавшие сомнения.
– Каков же тебе кажется мой-то человечек? – задал прямой вопрос Данилыч примолкшему Апраксину.
– Да как те сказать?! Не прогадать бы тебе с этим вьюном. Не наш он был, есть и останется! Что ему мы с тобой или хоша все русские люди, спрошу я тебя? Зацепки да ступеньки, чтобы самому подняться. Он всех русских перессорит и продаст, натравит одних на других, а в конце концов добьётся, что будет только в своих руках держать все посольские сношения и вертеть ими к немецкой выгоде, а не на русскую руку. Вот моё, стариковское, тебе, братец, мнение! Представь одно только то, что Остерман и своему же брату немцу, Брюсу, нос наклеил – в Нейштадте… Умел к его делу так присуседиться, что выставил себя более усердным и рачительным к интересу его величества, чем Яков Брюс, генерал-фельдцейхмейстер И таков – поверь мне – будет твой Остерман во всём, что ты ему доверишь! Русак немцем николи не будет и против немца в изворотах немецких не постоит, а способен, по-своему, немца провести. Держаться лучше русского – русскому!
– То-то и есть, дядюшка, – перебил Меньшиков, – что мы своею смекалкой их на другом проведём. Я Остермана могу всегда на вожжах держать и туда направить, куда хочу, зорко за ним наблюдая.
– Спервоначалу, может, и так… Да потом-то не справиться, коли дать ход. Он сам прибавит шагу незаметно и так далеко в сторону уйдёт, что не догонишь, коли раз выпустил, и с вожжами тебя понесёт куда ему нужно, попомни моё слово…
Оба засмеялись, и разговор прекратился, так как экипаж остановился у дома новобрачных.
– Вот и моя хата! – с лёгким вздохом молвил генерал-адмирал, проворно поднимаясь по парадной лестнице.








