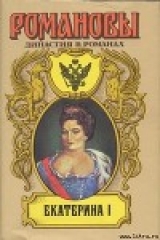
Текст книги "Екатерина I"
Автор книги: Юрий Тынянов
Соавторы: Андрей Сахаров,Владимир Дружинин,Петр Петров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 54 страниц)
С Дарьюшкой осмелел – чарка помогла, – и стала она женой, стала женщиной единственной. Зато в распутстве не уличат, от сего пристрастия независим.
А с Мартой, и потом с царицей – чисто брат и сестра. Подарки, заботы взаимные, просьбы в её письмах – «не оставь меня безвестной о тебе!». Осерчает царь на камрата – она заступница. Сердобольна, мужу покорна – иной Екатерины не знал никто. Что переживёт царя, и не мыслилось.
Мужика залучит она. Тело своё отдаст – на здоровье, натура требует. Если и волю в придачу – тогда несчастье. Тому всеми мерами препятствовать. А как уследить?
Ещё и Нева разлучает…
Мелкая, зябкая дрожь донимает светлейшего, хотя в возке тепло. Ни крошки во рту целые сутки, а есть неохота. Не ослабла пружина, туго закрученная изнутри. Скорее в мыльню … Вот средство сильнейшее от лихорадки нервической. Догадались ли затопить?
Отчего колонны в сенях, обычно огорчавшие толщиной, старомодные, показались тонкими, хрупкими, а чёрные ленты, обвившие их, словно и шею стянули, сдавили дыханье? Траур гнетёт Александра Даниловича, он терпит обычай как болезнь, как уродство. Шаг бодрый, шаг победителя.
– Мамушки! Баньку!
И в ответ на немые расспросы жены, Варвары бросает, подмигнув задорно, весело:
– Бабье царство у нас.
Благодатная мыльня!
Согрета, на пороге Аветик плотоядно скалит зубы, видом свиреп – звериная шерсть от шеи до повязки на чреслах густая, курчавая. Помогает раздеться, напевая что-то, словно баюкая.
Армянин, нанятый для князя в Персии, он – сокровище дома, дорог не менее, чем повар-саксонец, садовник из Стокгольма, иудей-дирижёр оркестра, регент знаменитого в столице хора, собранного в разных градах российских.
Светлейший лёг на скамью животом вниз, банщик вскочил на него и почал хлобыстать мыльным, хлюпающим мешком наотмашь, бормоча непонятное – может, заклятье от хворей. Пена растеклась по телу, нежит и чуть щекочет, голиаф подпрыгивает на корточках, а чудится, весу в нём, ровно в цыплёнке. Пальцы ног его, мягко пружинящие, находят нужные мышцы на теле.
Вертит банщик князя, тормошит, шлёпает как ребёнка, мытье чередуется с растираньем, каждый мускул ухожен, взлелеян, живительное тепло проникает внутрь, мыльная вода стекает, унося пот, усталость, и Божий свет милее тебе. Ну, послужил Аветик!
У кого такой мастер? Вельможи зарятся, норовили переманить. Дурак он, что ли? Кто платит столько, у кого он так поест, так одет будет? Разве захочет к другому господину? Нет, от Меншикова охотой не уходят.
Прохладная вода в ушате, горячие простыни – пролетел час блаженства, сброшен десяток лет. В предбаннике зеркало. Помолодел и впрямь. Волосы распушились, будто отросли. Поубавилось морщин на высоком, узком лбу, шершавой бурости на скулах, и вроде огладились они, не так выступают. Губы – тонкие, бескровные – порозовели, и складки, от них побежавшие, не столь глубоки.
Подмигнул зеркалу.
– Эй!
Бывало, сто раз на дню понукал царь – эй, расшибись, эй, позаботься, эй, поспешай! И сейчас… Видит же неразлучный – бабье царство настало. Короновал жену, а чтобы сама правила, собственным малым умом…
– Того в мыслях не имел. Правда?
Аветик смеётся, не понимает по-русски ни аз ни буки. Червонец ему. Доволен голиаф, выстрочил армянское спасибо. Подал кружку кваса.
В баню ходить – сто лет прожить, говаривал фатер. Увы. не исполнилось!
Поздний ужин, по совету врачей необременительный – крылышко курицы, клюквенный кисель и апельсин – предивный фрукт из собственной оранжереи.
Теперь на боковую.
Счастливым сном уснул Александр Данилович в доме своём, одетом в траур.
«Светлейший князь встал в девятом часу», – напишет секретарь в сафьяновом дневнике, заполняемом для истории.
Дрожат огоньки свечей, вспугнули птиц на изразцах – клекочут неслышно. Тысячи плиток голландских по стенам, по потолку, многие тысячи птиц – острые клювы, острые когти. Вьются, будто над полем боя, над павшим.
Заклевали пернатые, выгнали из пуховой перины. Сотворил молитву.
День пробивался в тумане медленно, отмывал красное дерево, тиснёную кожу обивок, серебро канделябров, высекал улыбку на парсуне царя. Оживали всадники на французском гобелене, жёлтые на жёлтых конях. Воссиял на столике ревельский монстранц – резная колокольня с фигурами в нишах – сторожами мощей, некогда тут хранившихся. Из пуда серебра сработал сей шедевр мастер – католик, живший триста лет назад. Лютерцам вещь излишняя, магистрат с великим почтением преподнёс князю Меншикову, стратегу Александру, уподобив его Македонскому.
– Выпросил гнусно, – сказал царь.
Стукнул слегка по зубам. За изразцы досталось дубиной. Заказаны были на казённые деньги, а оказались у камрата, на одиннадцать комнат хватило. Раскошелься, майн фринт, изволь завод построить, русские делать плитки!
Построил.
Не придёшь больше, фатер. Печален дом без тебя и в печали пребудет. Ласков ты или грозен, всё равно праздник с собой вносил.
По примеру Петра князь приступает к делам на тощий желудок. На службу не ездить – посетители ждут за дверью, в предспальне, к ним можно выйти в чём есть, только застегнуть все крючки лилового прусского халата – шлафрока, да шарфом прикрыть сорочку. Стоячие часы – английское изделье – щёлкают, словно бичом. Фатеру нравились – велят поспешать.
И вдруг обида поднялась – то ли на фатера, рано покинувшего, то ли на Отца Небесного – забот-то теперь…
– Плачем и рыдаем, господа, – произнёс князь, хотя не исторг и слезинки.
«Прибыли господа офицеры и знатная шляхта, с которыми его светлость довольно о разных делах говаривал и отправлял довольно дел».
Каких именно, «Повседневная записка» обычно умалчивает, лишь намекнёт, назвав чины, имена расположившихся за круглым столом. Другие бумаги – они лягут в окованный медью сундук секретаря, сидящего поодаль, – сообщат потомку, о чём могли доложить губернатору комендант и Дивьер.
Скорбь в столице великая, к телу монарха ринулись толпы, люди в церквах, на молебнах плачут в голос, запас свечей на исходе: столько их ставят за упокой души. Патрули, пущенные по улицам, порядок блюдут. Один поп-расстрига, держа перед собой рубль, шатался по рынку и взывал к царскому лику, будто к иконе, выпрашивал облегченья для простого народа.
– Царицу не лаял? – спросил князь.
– Нет.
– Тогда ничего…
Но копошатся иного толка юроды – из староверов да из тех, что бороды сберегли, обманно либо оплаченные налогом [244]244
В 1715 г . установлен был побородный налог на православных бородачей и раскольников в 50 рублей.
[Закрыть]. Поносят царя – он-де антихрист, змий седьмиглавый, всех переписал, обложил податью – семь гривен с души, да мало, четыре копейки в придачу. Заставил ходить в немецком платье, курить табак. А монастырей сколь позакрывал, колоколов сколь снял, перелил на пушки…
– А про царицу что?
– Один и на дыбе кричал – немка она, баба она, пущай бабы ей и присягают. Упрямый чёрт.
– А именитые?
– Они тоже воли желают. Своей воли…
Дивьер запнулся, покривил губы, голос понизил. Донесли ему – старуха Нарышкина держит в секретном ларце бороду. Деда ихнего, вероятно… Показывала Голицыну.
– Вот и бояре, – вздохнул князь. – Помню, государь трудился в токарне. Кость эту, говорит, обтачиваю, а дураков обточить свыше сил моих. Нам, да и внукам нашим точить да тесать.
Иностранцы – те опасались революции, отката к старым порядкам. Правда, уже образумились. А то ведь подводы заказывали, снедь на путешествие, подорожные грамоты…
– Переполох крысиный, – вспылил князь. – Коли до сей поры устоял наш корабль, так и впредь не утопнет. Кормим вот дармоедов…
Хотел помянуть Карла Фридриха [245]245
Герцог Карл Фридрих Голштейн-Готторпский, жених цесаревны Анны.
[Закрыть], обожаемого будущего зятя царицы. Осёкся. Тот же Дивьер, ябеда, схватит оказию, шепнёт ей. Успокоительно то, что её величество покамест недоступна. Адъютанты доносят – время она провождает с подругами, с дочерьми. Они, приоткрыв дверь, ибо императрица в неглиже, отсылают вельмож с любой нуждой к светлейшему.
Подольше бы этак…
«Его светлость, – свидетельствует дневник, – в двенадцатом часу сел кушать».
Визитёры отъехали, никто не оставлен обедать, светлейший сослался на скорбь – сердце разрывается – и на недомоганье. К тому же некогда компанию водить, пора к царице. Верно, встала страдалица.
Ел один, в той же предспальне. День боролся с тьмой – чёрная ткань заслонила плитки. Тут не птицы – голландские домики, мостики, девки в чепцах, рыбаки. Теперь кажется небылью, сном Голландия, где с топором в руках, на стапель, вслед за царём… Ватагой добровольцев, весело, дружно шли.
Дружно, не то что ныне.
Задумчиво ковыряет Александр Данилович пирог с капустой, разварную говядину – разносолы неуместны в пору всеобщего несчастья. И низшим пример благонравия. От вина воздержался. С фатером пили чересчур – на всепьянейшем соборе [246]246
В «сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор», созданный Петром I в молодые годы, удостаивались быть принятыми пьяницы, обжоры, шуты.
[Закрыть], на крестинах и свадьбах, в походе и дома, при спуске корабля, в честь ангела, в честь рожденья, в годовщину удачной битвы…
«В первом часу его светлость поехал к ея величеству в зимний дом».
На Неву смотрел хмуро. Широка река… Снова осознал отъединённость свою на Васильевском острове. Что готовит будущее? Ведь, пожалуй, левый берег царицын притянет всю придворную суету, консилии [247]247
Заседания (от лат. consilium).
[Закрыть]государственные и плезиры [248]248
Развлечения (от фр plaisir).
[Закрыть], происки тайные и явные.
Екатерина рада была бы исчезнуть с людских глаз, отдохнуть от пережитого.
Разве она жаждала власти?
Быть женой любимого мужа, опорой ему и утехой – да! Воспитать детей… Дальше не простирались её мечты. Не думала, что останется вдовой царя, что она – крестьянская дочь – поднимется так высоко. Был выбор – оковы, Сибирь или трон самодержицы. Вершина для смертного.
– Эльза! Значит, хотел Бог… Он управляет людьми. Не всеми, конечно… Тех, которые в нищете, в грязи, он вряд ли замечает – их миллионы. Даже твой отец сомневался… Но правители, военачальники – неужели они безраличны Богу?
Подруга соглашается. Измученная бессонницей так же, как царица, она твердит машинально:
– Он прибежище… Он наша сила…
– Странно, Эльза, Петер казался бессмертным. Сколько пуль пролетело. Под Полтавой пробило шляпу. Я молилась за него, ты помнишь, я ещё не говорила по-русски, а уже научилась молиться.
Статс-дама разбужена среди ночи – снова нескончаемо вызывают минувшее, вопрошают грядущее. Оно непроницаемо. Аудиенции редки. Екатерина почти не выходит из спальни – дворец внушает боязнь: многолюдство, топот, угрожающий гул голосов…
– Дочери забыли меня. Анна сердится. Я знаю, герцог ей не по душе, но что я могу? Нужно, Эльза, нужно… Петер настаивал… А что плохого в этом мальчике? Эльза!
Елизавета забегает чаще. Сперва поцелуи, потом ссора. Петер видел её королевой Франции, а как ведёт себя? Как одета? Лиф распущен, грудь наружу. Правда ли, что завела амуры с денщиком? Призналась, распутница…
– Позор, Эльза! Уважала бы хоть память родителя… Услышат в Париже…
Денщики царя бездельничают. Гоняются по коридорам за юбками – Эльза видела, рассказывает. Надо избавиться от дармоедов, набрать свой штат, приличный женщине. А шуты, эти кривляющиеся уроды вовсе невыносимы. Петер уставал от них. Подлинное варварство! Что за приятность находят в них русские? Европейские дворы предпочитают иные развлечения.
Будет больше музыки. В доме Глюка она звучала каждый день. Пастор сочинял гимны, записывал латышские дойны, Марта переводила ему слова. Ноты Глюка здесь, в спальне, на фисгармонии. Эльза не вытерпела.
О Боже, дай испить скорей
Из чаши мудрости твоей!
Подпевали обе. Стена тонкая, кого-то возмутило. Потом Александр попенял – смущаете православных. Траур ведь… Божественное, но не наше.
– За мной следят, Эльза. Кому можно верить?
– А фюрст Александр? Ему можно.
– Он хитрый. Всё же мы нужны друг другу. Политика, Эльза. Пока нужны…
Для прочих вельмож аудиенции редки. Пардон, её величество нездорова, занята в безутешном горе… Голицын – лицемерный враг, Ягужинский предан как будто, но без меры привержен Бахусу, болтлив, язык без костей.
Советы Александра полезны. Когда во дворец хлынула толпа к гробу царя, Екатерина намеревалась показаться народу в трауре и в слезах. Князь воспротивился – опасно, всякие твари есть, оскорбить могут особу монаршую, а то похуже что учинить. Дивьер подтвердил – рискованно, полиция то и дело вяжет и тащит в застенок негодяев, изрыгающих хулу на императрицу.
Надо похвалить зятя:
– Что горку приспособил, спасибо! Молодец, башка варит!
Дал скорбящим ход прямо с набережной в окно печальной залы, по катальной горке. Нельзя же пускать по парадной лестнице.
Помост еженощно чинят, санная потеха так не расшатает его, как марш множества ног. Стук топоров, молотков доносится в спальню, рвёт тонкую вуаль дремоты, и нападают кошмары – Екатерина сама в гробу, крышку заколачивают. Царица кричит, очнувшись, подбегает верная Лизхен, обнимает, баюкает…
Уже не уснуть…
Утром опять нашествие… Лишь неясный гул оттуда. Царица прислушивается – вдруг среди черни объявится вожак, оборванный дикий пророк. Русские почитают таких. Свирепый бунт, толпа по кирпичику разнесёт дворец.
– Что я им сделала? Они должны понять. Творец взял царя к себе и дал им меня.
Императрица… Всея Великия и Малыя и Белыя Руси… Надо привыкнуть… Суждено править этим народом. Она унимала дрожь в руке, выводя первые подписи. Указ о выдаче жалованья гвардии – задним числом, Александр выдал заранее. Производство Бутурлина в генералы. Теперь предмет, вызывающий несогласия, – подушная подать [249]249
Пётр I заменил в 1722 г . подворную подать подушной, но она стала ещё более обременительной для крестьян и посадских.
[Закрыть].
Из века заведено – новое царствование дарует льготы, дабы сердца подданных воспылали признательностью. Война с Швецией, длившаяся двадцать один год, разорила деревню, а затем настигли неурожаи.
Генерал-прокурору Ягужинскому из Орла доносили:
«Крестьяне пришли в совершенную скудость, дня по два и по три не едят, ходят по миру и питаются травою и ореховыми шишками, мешая с мякинами».
Рапорт из Углича гласил:
«Не токмо у средних, но у лутчих многих крестьян на семяна ярового хлеба ничего нети, осеменить тяглых своих жеребьев нечем, а у которых как скотинишко, так и хлеб был, и то всё распродали, а деньги роздали во всякие подати, и ныне не токмо засеять землю, но и питаютца многие травою и от того много крестьян помирают гладом».
Павел Иваныч читал с содроганьем. Жеребья и земли, зарастающие лебедой, брошенные, прохудившиеся избы, несчастные люди, кинувшиеся в бега… Кто посильнее, тот пробивается на Дон, где непаханые степи, где нет помещиков. Отчаяние толкает к буйству. Пишут из провинций – воровские люди, собравшись шайками, грабят проезжих, жгут дворянские усадьбы.
Покойный государь велел беречь земледельца [250]250
Пётр I подготовил наказ «О бережении земледельцев», рассматривая крестьян прежде всего как главных налогоплательщиков, способных содержать государство и рекрутов.
[Закрыть]. В крайности раздавать господский хлеб, чтобы спасти от голодной смерти, скосившей, например, в Пошехонье пять с половиной тысяч сельских жителей. Но местные власти о народе радеют мало, охотнее утесняют сирого мужика. Подати выколачивают, невзирая ни на что, беглых разыскивают, лупят кнутом – закон на этот счёт строгий. Однако деревни пустеют.
Сколько подушных недодано? Счета в канцеляриях по неумелости или нарочно запутаны. Лишь приблизительно удаётся суммировать – не меньше миллиона.
Семьдесят четыре копейки в год обязана платить каждая душа, учтённая в переписи населения [251]251
Пётр I в 1718 г . предпринял всеобщую перепись населения, которая продолжалась много лет.
[Закрыть], – младенческая, стариковская. Антихристом мечены все, – вопят кликуши, – его богопротивные незримые печати на лбу! Грех переписывать людей… Суть в том, – рассуждает генерал-прокурор, – что непосильна эта жертва, семьдесят четыре копейки, хотя одна пуговица на парадном кафтане сановника стоит дороже.
Несколько раз переиначивал Ягужинский проект благодетельного указа. Скостить двадцать копеек? Подсчитал – нет, урон для тощей казны. Десять? Меншиков заспорит. Президент Военной коллегии, а главное, фаворит её величества.
Она без него не решает.
– Вызову обоих, – сказала царица Эльзе. – Подерутся при мне, петухи. Ничего, разниму.
Взор Петра случайно пал на молодого приказного и задержался на нём. Юноша был пригож, в отличие от соседей по длинному столу чернилами не измазался. Смотрел на царя смело – ничего рабского, манеры непринуждённые. Переводит с польского, но может и с немецкого.
Такие нужны.
Денщик Петра, любимый денщик. Вскорости – капитан гвардии. Ещё тогда, в 1710 году, датский посол Юст Юль писал о нём проницательно:
«Милость к нему царя так велика, что сам князь Меншиков от души ненавидит его за это; но положение Ягужинского в смысле милости к нему царя уже настолько утвердилось, что, по-видимому, со временем последнему, быть может, удастся лишить Меншикова царской любви и милости, тем более что у князя и без того немало врагов».
На десять лет моложе соперник. Храбрости, расторопности не занимать. И что дорого Петру особо – отличается образованием, в сношениях с иностранцами ловок. Князь же, известно, выводит своё имя жирными, почти печатными буквами, грамоте не учился.
Царь дарит Ягужинскому остров на Яузе, сватает невесту с громадным приданым. В Петербурге вырос дом Ягужинского – просторный, трёхэтажный, с графским гербом.
На Аландском конгрессе [252]252
Конгресс на Аландских островах состоялся в 1718 г . Переговоры с Швецией о заключении мира шли успешно для России, но смерть Карла XII изменила ситуацию, и переговоры были прерваны.
[Закрыть], состязаясь с шведами по поводу условий мира, писал царю умно, хлёстко, не унывая. Упрямый министр «горькое яблоко дал укусить», претензии той стороны таковы, что «хуже одна пропасть». В Вене готовил почву для брака царевны Анны и герцога Голштинии – надо было заручиться одобрением, поддержкой цесарского двора. Англия воспротивилась. Ягужинский, действуя дарами и риторикой, происки сии расстроил.
Карла Фридриха Россия ужасала: царь, говорили ему, лупит дубиной кого попало, в Петербурге летом наводнения, зимой феноменальные морозы, птицы коченеют на лету, падают замертво. Примирял портрет Анны, поднесённый Ягужинским, а больше того – выгоды от союза с могущественной державой. Герцог приехал, влюблённый заочно.
Портрет не солгал, голштинец млел от восторга, обручаясь с Анной, послушной отцу. Ягужинский ходил гордо, обласканный щедро обоими дворами.
И вот уже третий год он генерал-прокурор, «помощник Царя, заменяющий его в Сенате» с решающим голосом.
Урон для светлейшего болезненный. Он сам заменял порою царя, его именем судил и рядил. Если бы не следствие… Начатое, по мнению князя, из-за сущего пустяка, оно-то и отвратило лик монарха.
Скрепя сердце диктовал князь секретарю то, что лучше бы доверить бумаге келейно. Граф уехал не простясь – дурной знак… Не посеяны ли какие плевелы? Просьба содержать в неотменной любви. Читай между строк – замолвить царю словечко. Лебезил светлейший, посылал апельсины, а после мучился стыдом, злостью. Доносили ему – генерал-прокурор, во хмелю развязный, кричал:
– Говорят, я ненавижу Меншикова. Да, ненавижу, потому что я честный человек.
– Покуда не пойман, – откликался князь в компании, зная, что противник услышит, молва передаст. – Изворотлив, по мелочам таскает.
Все ведь воруют.
Столкнулись открыто накануне коронации. Царь приказал почтить императрицу пышностью чрезвычайной. В России не было кавалергардов, парадного эскорта королев, – теперь должны быть. Набрали роту рослых, видных собой солдат, сшили мундиры – во всю грудь двуглавые орлы – загляденье. Репнин назначил командиром Ягужинского, князь кинулся к царю, плакался, умолял – не помогло.
Пахло дуэлью…
И теперь, при самодержице, генерал-прокурор в числе самых близких к престолу. Вхож без доклада. Палац его на левом берегу, от дворца всего за три дома. В глазах Александра Даниловича длинноносый Пашка уродлив, как дьявол, а вот поди ж ты, покоритель женского пола! Щеголяет в самом модном, любую церемонию управит, слывёт душою всех застолий, всех балов. В танцах неподражаем – далеко обставил князя, способного один лишь полонез откаблучить, не вызывая смешков.
Видятся соперники что ни день, у царицы или по службе в Сенате, обязаны держаться в пределах политеса. Легко ли! Российский двор, наблюдающий двух птенцов гнезда Петрова, ожидает взрыва.
Екатерина приняла вельмож полулёжа в кровати, гладила пушистого белого котёнка. Жестом велела придвинуть стулья. Ягужинский был трезв, изобразил мужицкие нужды с жаром, ему присущим. Владычица кивала растроганно и, косясь на Александра, ждала сочувствия.
Князь слушал Пашку с улыбкой превосходства. Худо крестьянам, воистину худо, но десять копеек – уступка для государства разорительная.
– А солдату сладко? Армия в Персии, почитай, второй год без жалованья. На подножном корму, яко скотина… А персияне сами нищие. Болеет войско, лечить некому, лекарство не на что купить. Четыре копейки, больше никак не скинуть.
– Заплата на зипун, – поморщился Ягужинский.
– Великий государь копейки не вычел бы. Подать мужик снесёт и сыт будет, ему бы от худшего избавиться От волков кровожадных.
Пашке следует знать – волками царь называл ненасытную рать чиновников. Помещику губить мужика не резон, это чиновники измышляют неправедные поборы, всячески утесняют. Собирая недоимки, копейки возвращают казне, рубль в карман.
– На твоей совести, Паша. Мне, что ли, жалобы шлют? Тебе в Сенат. Проучи живодёров!
– Павел, – строго произнесла Екатерина.
Котёнка, вцепившегося в плечо, нежно сняла и перекинула на колени князю. Ягужинского задела свойская доверительность жеста больнее, чем насмешливая снисходительность соперника. Отозвался в тоне запальчивом.
– Жалобы есть и на твой адрес, президент. Доколе полки будут стоять по дворам [253]253
Расквартирование полков по обывательским домам в городе и деревне было введено при Петре I. Поначалу он предписал строить полковые слободы, но помещики отказались и размещали солдат в крестьянских дворах.
[Закрыть]? Когда уберутся?
– То особ статья.
– Не все сразу, – сказала царица.
– Обмыслим, – отрезал князь, и генерал-прокурор замолчал. Похоже, его из размышлений исключат.
– Государь нам завещал, Паша, мужика и солдата беречь равно. Гвардейцам кое-как наскребли, ещё и матушка наша из своего кошелька добавила. А на грядущий год? Опять им репу жевать? А коль не уродится у них овощ? А при нас, при столице войско надо держать!
И начал, защищая четырёхкопеечную поблажку, сыпать цифирью. К папке с бумагами не прикоснулся, да и не умеет он читать быстро, выручает память, прочно отпечатались в ней столбцы расходов. На прокорм и снаряжение армии, флота, на починку и строение кораблей.
– Учил нас отец отечества, ежели потентат [254]254
Властелин (от нем. Potentat).
[Закрыть]токмо сухопутное воинство имеет, он однорукий.
И, обратись к царице:
– Вели, матушка, Сенату частым гребнем чесать, а миллион раздобыть. Без этого не обойдёмся.
Царица соглашалась – ущемлять военных, особенно гвардию, недопустимо. Поступать, как заповедал. Ягужинский ёрзал, терял терпение. Афоризмы Петра и ему известны, упрёки и наставления излишни – он ведь не подчинён князю, служебным рангом выше его.
– Ваша светлость… Должок за вами, я слыхал, именно миллион. Вы бы и внесли…
Данилыч побледнел:
– Видишь, матушка. Позорят раба твоего… Горазды считать в чужой мошне. Я, Павел, в твою не лезу!
Вскочили оба.
– Штилль!
Хлестнула окриком, усмирила. Послушно открыли поставец, налили себе вина, подали стакан и ей.
– Мир, господа! Прозит! [255]255
Ваше здоровье! (от нем prosit)
[Закрыть]
Выпили, поцеловались троекратно. Губы у Ягужинского пухлые, влажные – мазнул по щекам, обслюнявил. Утереть платком князь, однако, не посмел, царица следила пристально.
Отпустила генерал-прокурора в Сенат готовить указ. Данилыч ждал этого, пылая негодованием.
– Матушка, за что поношенье?
Екатерина вдавилась спиной в подушки, тормошила, ласкала котёнка.
– За что унижен твой слуга, за что оплёван, охаян? Велишь, покажу счета.
Подобрал папку с ковра. Отчёты хозяйственные при нём во дворце постоянно, так же как петиции на высочайшее имя – отменить следствие, возвести в градус генералиссимуса. Доступен лишь владетельным особам, так ведь он, князь Священной Римской империи, имеет право.
– Пашка, завистник проклятый…
– Эй!
Грудным голосом, басовито, почти по-царски:
– Александр… Ты много хочешь…
– Матушка…
Оборвала гневно.
– Молчи, Александр, – пилой полоснули латышские согласные. – Ты не один… У меня большая фамилия. Больше не говори мне . Терпенье, мон шер. [256]256
Дорогой (от фр. mon cher).
[Закрыть]
– Что ж, воля твоя.
Досаду не сдержал светлейший, выразил, прощаясь без слов, тщательным, сколько возможно, церемонным поклоном.
Мон шер, мон шер… Дружок дорогой – терпи! Угостила, владычица, такое твоё спасибо за верность. Пашке ты удружила…
Данилыч тёр щёки, едучи домой, саднило от Пашкиных губ. Поцелуй иуды. Теперь вконец обнаглеет.
У неё, вишь, фамилия большая! Всем не угодишь, матушка. Волков не насытишь и овец не спасёшь.
Кипел, бранился всю дорогу.
Возок тряхнуло, кони с разбега взяли береговой откос, встали в парадном дворе, охваченном двумя флигелями.
Домашние встретили хозяина добродушно, томились, ожидая дворцовые новости. Дарье бросил беспечно:
– Надурил Пашка.
Варваре скажет больше.
Ход к ней из предспальни князя, в покои во флигеле, примыкающие к детским. Без спроса – ни-ни! Блюдёт этикет боярышня Арсеньева. Постучал. Попугай за дверью крикнул:
– Хальт! [257]257
Стой! ( от нем. halt).
[Закрыть]
Камеристка в белом передничке сделала книксен – душистая, сдобная плоть. Ущипнул пониже спины, охнула девка и объявила сумбурно:
– Либер [258]258
Дорогой (от нем. lieber).
[Закрыть]князь.
Наборный пол скользок, как лёд, изразцы вымыты мылом – помешана свояченица на чистоте. Всечасно тут скребут и трут, палят ароматное – понеже, считает она, болезни происходят от грязи и вони.
Комочком приютилась в кресле свояченица, поджав ноги под себя, нахлобучив шерстяной платок. Читает книжку.
– Устала я. Невмоготу с вами.
Сразу в атаку…
– С копыт собьёшь этак, милая, – молвил Данилыч. – Заикаться буду.
– Собьёшь тебя, Гог-магог! Ну вас всех!
– Полно, Варенька!
Омрачился притворно. Пустая угроза. Покинет она их на день, на три и заскучает. Повторялось уже. Шастает взад и вперёд, благо собственный дом рядом, на острове.
– Обламываю сыночка твоего, мочи нет. Басурман растёт. Одно занятье – саблей махать. Спать кличешь – брыкается.
– Глуп ещё.
– Кавалер уже… Одиннадцатый год.
Отец хмурит брови, но внутренне умилён. Прочит наследнику карьеру военную. Второй Александр Меншиков, второй тёзка великого македонца [259]259
Имеется в виду Александр Македонский (356-323 до н.э.), полководец и царь Македонии.
[Закрыть]. Отношение к именам у Данилыча суеверное. В походах прославит Сашка княжеский род.
– Он говорит – батюшка разве укладывался спать, когда шведов колотил?
Потеплела лицом и возникла прежняя Варвара, молодая, бойкая невеста в тайном ожидании суженого. Ладила паклю под платье, да зря, всё равно выпирал телесный изъян. Жених беспоместный взял бы горбатую, только ефимками позвякивай, так ведь ерепенилась Арсеньева.
– Марья учит французский?
Цель визита не выложит сразу. Разве спешит он или нуждается позарез в совете? Просто так приходит, душу отвести и заодно получить подтвержденье собственным мыслям.
– Учит. Дерзкая стала.
Старшей тринадцать, собой недурна. Немецкий осилила уже. Отец наметил жениха – польского графа Сапегу. Нос дерёт девка, будто краше её на свете нет. Санька на год младше, егоза, звонок в доме, всё ещё в детстве пребывает.
– Дура Санька. Дразнит брата. Царапаются…
– Златая пора, – вздохнул Данилыч. – Вот царица наша… Зрелые лета, а ума у неё…
– Не совладал?
Выронила книжку, развеселилась. Верхняя губка, арсеньевская губка, уголком вперёд, вздрагивает от любопытства, открывает мелкие беличьи зубки.
– Вожжа под хвост… Забылась. Что она без меня!
– А ты без неё?
Беспощадна Варвара. «Не сумел совладать» – куснула в больное место. Усмешка чуть свысока, боярская, и всё-таки терпит безродный князь, терпит безропотно, с неким сладострастьем даже. Не потому ли, что винит себя – настоять надо было, купить ей мужа да привести, благословить…
Рассказал о случившемся во дворце подробно. Царица удивила его и расстроила. Пашке наглость с рук сошла. Стало быть, он в авантаже… Ей бы опереться на друга испытанного и власти ему прибавить – отменой следствия, высоким градусом.
– Накось, помирила… Бояться ей нечего. Коли я с ней да гвардия, любого обломаем.
– Ишь ты, Аника-воин!
– Разве не так?
– Ой, пресветлый! Царскую палку тебе не поднять.
– Дай срок!
Вспоминая неудачу, Данилыч пришёл в неистовство. С Пашкой мир невозможен, он козни строит, задирает первый, ядом брызжет.
– Вижу, – Варвара покачала головой с грустью – Вижу, каков мир у вас. До первой драки. А Катерина… Каково бедной, между двух огней! Умна ведь баба-то… Она и тебя выручает, а то прёшь напролом. Надорвёшься… Нынче другое требуется.
– Чего другое?
– Рафинэ [260]260
Здесь: тонкость (от фр. raffine).
[Закрыть].
Сощурилась, будто нитку в иголку вдела. Искорки в тёмно-серых запавших глазах. Спросила, знает ли пресветлый, что значит рафинэ. Он отмахнулся. Солдат он, груб, прощенья просит – не рафинирован.
– Самодержица… Миротворица… решила быть доброй со всеми, блаженная Екатерина.
– Дай-то Бог!
– Возомнила о себе…
Гвардейцы в то утро под окнами дворца голосили – отец наш умер, мать наша жива. Вот и смутили бабу… Забыла, как супруг её, великий царь поступал.
– Палку кто-то должен взять, милая. Без палки нельзя, слабого правителя в грош не ставят. Речено ведь – презренье подданных опаснее, чем ненависть.
Мудрость этой сентенции, услышанной давно, в пьяной компании, поражает князя. Участник трудов и борений Петра, он вынес убеждение – доброе, справедливое достигается лишь понужденьем. Люди, ведомые твёрдо, грозно, славят монарха, лобызают палку, которая бьёт их и учит.
– Кабы мы с государем разлюбезно да рафинэ… Где бы мы были? В сырой земле, миленькая… Стрельцы бунтовали, ты ещё сопливая была… Как с ними, скажи! Может, рафинэ?
Данилыч вскочил. Пожалуй, довольно.
– Сажай Марью за французский, – напомнил он, уходя.
Царь и камрат словно мясники – сапоги в крови, штаны, рубахи… Лужи кровищи. Два десятка злодеев прикончил Алексашка, рубя наперегонки с царём. И бояр бы этих – бородами отделались…
Отчего вспыхнуло вдруг зрелище стрелецкой казни [261]261
Казни стрельцов четырёх восставших полков в 1698 г . отличались особой жестокостью. Пётр I и его приближённые сами принимали участие в казнях.
[Закрыть], стародавнее? Пашка распалил. И он на плахе, ничком, в ряду приговорённых.
Дождётся Пашка…
«Печаль кровь густит и в своём движении останавливает и лёхкое запирает, а сердитование кровь в своём движении горячит. И ежели кровь есть густа и жилы суть заперты, то весьма надлежит опасаться такой болезни».
Совет докторов затвержён, беречься надо – хоть для того, по крайности, чтобы пережить побольше завистников. Не выносят люди чужого успеха, чужого богатства – оттого и хулят, сеют клевету, пытаются уничтожить. Человек есть не токмо ложь – сосуд пакости всяческой.
Полтора часа нежился в мыльне. Глотал, врачуя нервы, растёртый рог горного козла безоара. Смотрел из окна на Зимний – ехать завтра, жалобиться?
Сама позовёт.
Уединился в своих покоях. Дурное настроение он прячет, Дарья толкнулась – прогнал, сославшись на дела.
Прошёл в Ореховую.
Состязаясь с Петергофом, где кабинет царя отделан дубом, князь избрал дерево не менее ценное. Ореховая мелькает то и дело на страницах «Повседневной записки» – хозяин отдыхает в гостиной, «бавится в шахматы», предаётся размышлениям, обсуждает вопросы особо важные с персонами значительными. Частыми гостями были Пётр и Екатерина, а когда царица навещала Меншиковых одна, ей, сластёне, накрывали в Ореховой «конфетный стол».








