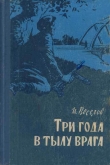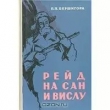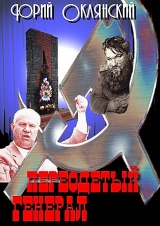
Текст книги "Переодетый генерал"
Автор книги: Юрий Оклянский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
При всех бедах и выкрутасах режима тогдашняя война Отечественной звалась недаром. На фронт рвались даже калеки. Таким был, например, мой дядя Александр Георгиевич Шеренков. Он работал в Ленинграде сменным мастером на ткацкой фабрике. Что называется – обычный беспартийный труженик. Еще в самые молодые годы в ночную смену вылетевшим из ткацкой машины челноком ему выбило правый глаз. При таком попадании могло и уложить на месте. Во всех случаях белый билет – освобождение от воинской службы он имел подчистую.
Мы жили в одной ленинградской квартире. Однажды уже в первые недели июля 41-го дядя Саша явился с фабрики домой в гимнастерке и грубых воинских башмаках с обмотками. Сказал, что в военкомате записался на фронт добровольцем. Обмундирование выдали тут же. Тете Кате было 27 лет, и они имели двух малолетних детей.
Еще через месяц в боях под Кингисеппом народному ополченцу осколком мины вырвало часть правого бока. Когда незадолго до начала ленинградской блокады я навестил его в лазарете, дядя Саша вышел ко мне в сером застиранном больничном халате. Мы сидели вдвоем блаженным августовским днем на скамейке возле лазарета. Светило солнышко. Над головой щебетали и пели какие-то птички. И вовсе не верилось, что рядом где-то бушует война. Но сквозь отворот халата у дяди Саши подушкой проступали бинты с ржавыми потеками запекшейся крови. В моих глазах он был героем. И двенадцатилетнему ленинградскому пацану интересно было все-таки знать, во имя чего он совершил свой подвиг.
– Зачем ты пошел на фронт? – восхищенно и с некоторой жалостью произнес я.
– Знаешь, Юрик, – подумав, сказал дядя Саша, – очень просто. Я – русский человек. И не хочу, чтобы нами управляли немцы.
Это был его единственный аргумент.
Володя Зеболов сызмальства слыл сорвиголовой. Рук он лишился еще по мальчишескому баловству. Бросал на лесной поляне в костер какие-то старые боеприпасы, которыми были нашпигованы брянские леса еще со времен гражданской войны, возможно, среди них попалась граната. Произошел взрыв, со всеми вытекающими последствиями.
Местный брянский хирург проделал над мальчишкой ту замысловатую спасительную операцию-живорезку, которая превратила одну из его верхних конечностей в подобие хватательных щупальцев. С этим Володя жил, ходил в школу, трудился и водил компании сверстников, может быть, обнимал девчат почти до двадцати лет, пока не началась война. Те, наверное, не возражали. Был он высокий, черноглазый, почти под два метра ростом, решительный по характеру, и если б только не руки…
Когда же фронт придвинулся к Брянщине, комсомолец Зеболов пришел в военкомат. Он попросился, чтобы его взяли в парашютную школу.
На 20-летнего юношу вытаращили глаза:
– Где это видано, чтобы безрукие прыгали с парашютом?!
Но инвалид был непоколебим:
– А где это еще видано, чтобы на земном шаре существовала Советская власть?! – в такт ответил он военкомовскому начальнику.
Тот понял, что разговор принимает серьезный оборот.
Через какое-то время, поразмыслив, Володю Зеболова направили в парашютную разведывательную школу.
Школа эта была той самой, где проходил обучение новой военной специальности – участию в партизанском движении – бывший режиссер Киевской киностудии и начинающий писатель Петр Петрович Вершигора. Он оказался здесь после госпиталя из-за ранения в ногу. А ранению предшествовало участие во многих боях в Правобережной Украине и вокруг Киева, закончившихся отступлением через Днепр. За этот срок в ходе непрерывных боев и потерь командного состава, а также из-за личной отваги Вершигора выдвинулся и прошел путь от помощника командира взвода до командира батальона.
Разведывательная школа была многолюдной. Но не только возраст (из двух будущих друзей старшему шел к той поре 37-й год), боевой и жизненный опыт отличали соучеников. Различали их и масштабы отмеренных задач. Юноше Зеболову предстояло стать рядовым разведчиком-парашютистом, в распоряжении которого могла находиться разве что радистка. Тогда как недавнего командира батальона ждали иные размахи и развороты.
Но многолюдье и масштабы работы способны не только разлучать, но и сводить необычных людей. А именно такими в разведшколе были вчерашний кинорежиссер и безрукий парашютист. При своей художественной натуре Вершигора не мог его не заприметить. Они, если тогда и не подружились близко, то выделили и узнали друг друга.
Однако же поведу рассказ по порядку. В мае 2009 года, через два года после журнальной публикации, я получил на домашний адрес письмо, которое привожу слово в слово:
«Уважаемый Юрий Михайлович! – писала автор. – В Интернете прочитала Ваш очерк «Переодетый генерал», опубликованный в ж. «Дружба народов», 2007, № 5. Сожалею, что это произошло не сразу после публикации. Спешу выразить свое восхищение смелостью анализа общественной атмосферы последних лет сталинской диктатуры, очень живыми, точными портретными и психологическими зарисовками и безупречным стилем, столь редким (увы!) в нынешней публицистике.
Позвольте представиться и объяснить, почему я так близко приняла к сердцу Ваш очерк.
Меня зовут Елизавета Григорьевна Непомнящая, я родом из г. Новозыбкова Брянской области, училась в Москве на литфаке и в аспирантуре МГПИ им. В.И.Ленина, свыше полувека работала доцентом кафедры зарубежной литературы Новозыбковского, а затем Брянского пединститута (ныне – Брянского госуниверситета им. акад. И.Г.Петровского). Сейчас живу в Москве.
Через своего мужа, Зеболова Владимира Акимовича, партизана-ковпаковца, одного из персонажей книги «Люди с чистой совестью», в начале 50-х гг. познакомилась с П.П.Вершигорой и его семьей, прославленными участниками партизанского движения: Героями Советского Союза В.А.Карасевым, П.Е.Брайко, разведчиком Ю.А.Колесниковым (позднее, после перестройки, ставшим Героем России), радисткой Аней Маленькой (Анной Лаврухиной-Туркиной) и многими другими.
Каждый из них был воином-победителем, человеком-легендой. В официальной литературе и средствах пропаганды в их честь звучали литавры, но рядовые труженики тыла не очень верили в благородство политических лидеров: слишком много актов вероломства становились известными, они порождали страх и недоверие к парадным речам.
В дальнейшем, когда эти времена остались далеко позади, сменился век и даже тысячелетие, мои воспоминания притупились, уступили место профессиональным интересам и житейским проблемам.
Нужно ли объяснять, каким потрясением стал для меня Ваш очерк? Вы стали свидетелем трагедии творческой личности, профессионального кинорежиссера, впервые взявшегося за перо и в одночасье ставшего знаменитым, обласканного властью, увенчанного наградами, осыпанного материальными благами – и в то же время ставшего жертвой слежки и травли, закулисных интриг, провокаций, доносов. Впрочем, как это сейчас открылось, П.П. не был исключением, и, может быть, самым страшным было то, что каждый писатель носил эту тайну в себе, внешне подчиняясь политическому этикету.
Под впечатлением очерка мне захотелось поделиться с Вами воспоминаниями о том времени, когда пересеклись пути В.А.Зеболова и П.П.Вершигоры.
Брянщина – край партизанской славы – была особенно близка и дорога П.П. Он трижды приезжал к нам в Новозыбков. Один раз, как бы попутно, зимой из Брянска на два дня с женой Ольгой Семеновной; другой – летом на своей машине, на пару недель с сыном Женей, который с нашим сыном жил в пионерском лагере, пока отцы ездили на Украину к бывшим партизанам; третий – для работы над романом «Дом родной». Прототипом героини была землячка Вл. Ак. из пос. Вышков (в романе – Подвышков), где жили его родители. Над романом П.П. усердно работал по следам фактов и впечатлений, из этой поездки он увозил в Москву толстую рукопись (и корзинку молодой картошки, наш подарок Ольге Семеновне).
В свою очередь мы неоднократно бывали в Москве у П.П. и О.С. – и в Лаврушинском переулке, писательском доме, в стометровой трехкомнатной квартире, и в комнате на Гоголевском бульваре, где останавливались во время научных командировок, и на даче в Переделкино, где П.П. не только занимался творчеством, но и самозабвенно выращивал розы.
Если во время войны встречи генерала с рядовыми бойцами, людьми разного положения и возраста, были случайными, то после войны они не только не прекратились, но и окрепли на творческой основе. К тому времени Вл. Ак. окончил исторический факультет Новозыбковского пединститута (в 1952 г.) и работал ассистентом кафедры. П.П., как об этом свидетельствуют письма, всячески стимулировал его интересы к русской классике и исторической литературе, поощрял публикации статей по истории партизанского движения, позже взял на себя обязанности научного руководителя кандидатской диссертацией.
Своеобразным итогом стала их совместная книга «Партизанские рейды», изд. «Штиинца», Кишинев,1962 г. Работа над ней стала главной темой последних писем П.П. Вообще же переписка была систематической: сохранилось 35 писем П.П.Вершигоры – мужу, и это самый ценный, уникальный документ в нашем домашнем архиве. В них – история многолетней воинской и человеческой дружбы прославленного военачальника и рядового бойца, учителя и ученика, образец педагогического искусства, мудрости и долготерпения. Они являются логическим продолжением их отношений, описанных в книге «Люди с чистой совестью».
В моем воображении П.П. плохо совмещается с его довоенной профессией режиссера, но на роль партизанского полководца он годился идеально естественностью повадок, живостью ума, твердостью решений, доверием к народной мудрости. Как с равными почтительно и вдумчиво вел он беседу с деревенскими стариками, на которых и сам был похож: низкорослый, плотный, бородатый, с хитринкой в глазах. Чины и звания, награды и известность не сделали его высокомерным и недоступным. Его привлекали люди трудной судьбы, сильные духом, одержавшие победу над обстоятельствами. В Новозыбкове он захотел познакомиться с моей коллегой, завкафедрой литературы проф. О.Я.Самочатовой, выпускницей МГУ, незрячей с детства, деликатно организовав для этого пикник на берегу реки Ипути. Встреча была непринужденной, беседа приятной, знакомство интересным обоюдно: это хорошо запечатлела старая фотография.
В быту он был прост, необременителен в общении, легок. Контраст между роскошной, лауреатской московской квартирой и нашим ветхим жильем первых послевоенных лет в брянском захолустье он воспринимал как нечто второстепенное, несущественное, временное, и это помогло мне преодолеть смущение и неловкость. За всем этим угадывалось его собственное сиротское детство, трудный путь к творческой профессии, трагический опыт войны. В Москве он как-то мне пожаловался (как всегда в шутливой форме): «Своих «Людей…» я писал в крестьянской хате при керосиновой лампе – и написал же, а здесь… – последовал кивок в сторону роскошного полированного бюро, – что-то не работается».
Незаурядная колоритная личность П.П., несмотря на прошедшие 60 лет, как живая сохранилась в моей памяти. В те далекие времена она повлияла не только на Володю, но и на меня (он называл меня «Лиза», но на «вы»), на мои отношения к миру, людям, событиям.
Неординарность его интересов, вкусов, суждений озадачивала, побуждала к размышлениям, а нередко и к реальным действиям. Так, он стал инициатором ознакомительной поездки на Новозыбковскую опытную станцию по люпину Академии с/х наук, а потом увлеченно рассказывал об увиденном. Точно так же не было упущено событие местного масштаба – работы по очистке озера в центре города, к которым были привлечены студенты и преподаватели во время летних каникул. П.П. загорелся идеей украсить берег озера пирамидальными тополями из молдавского питомника, обещал содействие в получении саженцев. И это было сделано: он добился у городских властей одобрения, машину предоставил пединститут, посадки украсили не только набережную, их хватило и на улицу вдоль нового студенческого общежития. Так возникла «Аллея Петровича»– название придумал Вл. Ак.
Все в этом человеке было необычным: и судьба, и образ мыслей, и внешность, и писательская манера. В потоке мемуарной литературы, воспоминаний полководцев по свежим следам недавних событий книги П.П. отличаются «лица необщим выражением». Сами названия: «Люди с чистой совестью», «Военное творчество народных масс» поражают не просто метафоричностью, но точностью обозначений.
В заключение хочу сказать, что в своем очерке Вы верно обрисовали супружескую пару П.П. – О.С., внешность, манеры, самый стиль семейных отношений этих колоритных людей, удивительно дополняющих друг друга. В Петре Петровиче не было генеральской сановитости и снобизма, как, впрочем, и в Ольге Семеновне, ничуть не похожей на чванливую генеральшу. При первом же визите к ним стало понятно, что церемонность здесь неуместна, и моя напряженность быстро иссякла. С годами, однако, стало заметно, что этот союз распадается, и в последнем своем письме (за неделю с небольшим до смерти) П.П. сообщил о разводе.
После внезапной кончины П.П. Ольга Семеновна передала Вл. Ак. много ценных материалов из его библиотеки, они были активно использованы им в дальнейшей научной работе. Через 20 лет (с 1983 г.) они остались на моих руках. В последующую четверть века я сделала все возможное, чтобы сохранить их для истории, передавая в фонды музеев: Брянского областного историко-краеведческого музея, Брянского музея современной истории (б. Партархива), Новозыбковского краеведческого, П.П.Вершигоры в селе Севериновка Молдавской ССР. В домашнем архиве оставила письма П.П., не решаясь с ними расстаться.
К моменту моего переезда к сыну в Москву (2004 г.) я считала работу завершенной. Однако год тому назад, когда прошло 25 лет после смерти Вл. Ак., мы приняли трудное решение и, оставив себе копии, передали 35 писем П.П., 3 телеграммы, 2 открытки в научный фонд Брянского историко-краеведческого музея. В домашнем архиве осталась прекрасная фотография О.С. с дарственной надписью, фото П.П., Вл. Ак., О.Я.Самочатовой с матерью на пикнике, сочинения П.П., несколько ценных книг из его библиотеки (в т. ч. Клаузевица, Ф.Гальдера и др. известных полководцев), старинные издания сочинений Д.Давыдова.
Поскольку Ваш очерк опубликован совсем недавно, не исключаю, что он лишь часть более обширного замысла. В этом случае м.б. мои воспоминания будут для Вас интересны.
С уважением и благодарностью
Е.Г.Непомнящая».
Чем вызвано то эмоциональное потрясение, которое, можно сказать, рвется из строк этого письма? Позже мы с Елизаветой Григорьевной познакомились лично и поговорили, и теперь могу утверждать с уверенностью: оно вызвано вынужденным неполным знанием того, что, казалось бы, знаешь досконально, и вдобавок надвинувшейся стеной забвения о том, что прежде ценилось по справедливости, стояло так высоко, было столь всеобще, славно, почитаемо и любимо.
Елизавета Григорьевна Непомнящая прожила с В.А.Зеболовым почти три десятка лет. Но замуж за него она вышла, когда самые главные жизнеопасные трудности послевоенной биографии Вершигоры были уже позади. Говорить о них тогда было не принято, и многие раскопанные факты и документы, представленные в журнальной публикации, она не знала, да по обстоятельствам времени отчасти и знать не могла. Что же касается стены забвения, то вот только несколько примеров.
Петр Петрович Вершигора был похоронен на Новодевичьем кладбище. Сын Е.Г.Непомнящей – Георгий Владимирович (он инженер, работает в одном из научно-исследовательских институтов Москвы) рассказывал мне: однажды, не столь давно, он задумал навестить могилу близкого друга своих родителей. Когда-то мальчишкой он присутствовал на торжественной и громозвучной церемонии установки надгробия на могиле героя – генерала и знаменитого писателя Вершигоры. Знал, что тот похоронен на тогдашнем расширенном участке Новодевичьего кладбища, где совершались воинские захоронения. Но местоположения могилы не помнил. Так вот – даже в результате настойчивых поисков найти ее он не смог. Что же случилось?
Не хотелось бы думать худшее, но, возможно, все объясняется просто. Могила оказалась бесхозной. Сын Петра Петровича безвременно скончался. Разведенная вдова тоже умерла рано. Других близких и заботливых родственников не сыскалось. Дряхлым старикам, соратникам боевых дел, если таковые еще оставались, стало не до посещений могил. Между тем после смерти Вершигоры (март 1963 года) минуло уже чуть ли не дважды по 25 лет. За участок надо платить. Какой же хваткий глаз в наши-то времена потерпит такую бесхозяйственность, такой бросовый кусок на столь дорогой и престижной земле? Хорошо, если тут только недоразумение, ошибка в похоронных документациях. Но и она показательна.
Впрочем, чего же ждать от могильщиков, когда стойкостью памяти не страдают и на высших этажах социальной лестницы. В мае 2005 года, когда автору книги «Люди с чистой совестью» исполнилось бы 100 лет, «Литературная газета» в своих «Памятных датах» помянула Вершигору всего тремя строками (буквально – тремя!). Тогда как, например, о поэте Евгении Долматовском, которому в том же мае исполнилось бы 90 лет, не говоря уж об Ольге Берггольц (95 лет), тут же написано гораздо больше, причем в сопровождении фотопортретов, чего писатель-партизан также не удостоился.
Совсем в иную эпоху, когда память еще не одряхлела, в Киеве одна из улиц носила имя Петра Вершигоры. Не знаю, сохранилось ли это название теперь. Памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову в Западной Украине, например, снесли. Тогда как такие люди, прожитая ими жизнь, больше всего и объединяют украинцев и русских, а в данном случае еще и молдаван, в одно братство.
Конечно, я рад, что посильно способствовал восстановлению светлой памяти этого человека. Что же касается Елизаветы Григорьевны, то присланным мне письмом она не ограничилась. А принялась и дальше пропагандировать сведения о Вершигоре всеми доступными ей способами.
Через несколько месяцев я получил от нее вырезку из областной газеты «Брянский рабочий» (от 1 октября 2009 г.) с ее собственной статьей под рубрикой «Книжная полка» и названием «Об очерке «Переодетый генерал»».(Контакты и связи с былым партизанским краем, как видим, у нее поддерживались и сохранялись.)
С изъятиями и сокращениями, относящимися прежде всего к доскональным разборам собственных моих сочинений, приведу выдержки из статьи. Мне кажется, что подобные цитации фактов и свидетельств о тогдашних событиях будут отвечать и заявленному жанру – « История в письмах и рассказах очевидцев». А автор статьи многое имела возможность наблюдать воочию.
«В Интернете […],– говорилось в статье. – был опубликован документальный очерк «Переодетый генерал» (ж. «Дружба народов», 2007 г., № 5 […] Речь шла о человеке, сыгравшем огромную роль в жизни моего мужа Владимира Акимовича Зеболова…
С Петром Петровичем Вершигорой и его семьей он познакомил меня в начале 50-х, одновременно – с другими прославленными партизанами: Героем Советского Союза В.А.Карасевым, разведчиком и писателем Ю.А.Колесниковым (позднее, после перестройки, ставшим Героем России), партизаном И.И.Бережным.
Теперь я поняла […], сколь поверхностны были мои представления о жизни и судьбе П.П.Вершигоры, которую я, человек со стороны, видела в ореоле военного подвига и послевоенного триумфа, не подозревая о трагической подоплеке событий, не зная, что у этого парадного фасада была оборотная сторона, а там разыгрывался гнусный спектакль из провокаций, слежки, доносов, закулисных интриг, отравлявших личную и творческую жизнь писателя.
[…] Созрело решение познакомиться с автором. Встреча оказалась плодотворной. Писатель проявил большой интерес к материалам нашего домашнего архива, особенно многочисленным письмам П.П.Вершигоры к Владимиру Акимовичу, его библиотеке с редкими изданиями военных мемуаров, посмотрел документальный фильм о нем «Одна жизнь» Ростовской киностудии, снятый в 1982 г., записал нашу беседу […].
В конце 50-х гг. прошлого века […] постепенно становились доступными документы секретных архивов и органов КГБ, мемуарных и других источников […] Неудивительно, что писатель избрал в своем творчестве жанры биографического романа-расследования и очерка-портрета. В центре его произведений – противостояние человека и власти, таланта и посредственности, духовности и мещанства, подвиг личности, платящей непомерно высокую цену за достижение достойных жизненных целей. Герои книг […] – драматург Б.Брехт, прозаики Ю.Трифонов, Ф.Абрамов, И.Эренбург, поэт Б.Слуцкий, ученый П.Капица, писатель и воин Вершигора. При том что у романа и очерка возможности различны, композиция их сходна: герой поставлен в ситуацию выбора, испытания характера и воли, ответственности перед обществом и судом собственной совести, неизбежно перерастающую в противостояние тоталитарному государству. Кульминация нередко совпадает с событиями общенационального масштаба, когда противоречия общественной жизни обострены до предела.
Очерк состоит из 11 глав. Две первые посвящены биографии героя. Трудное детство, раннее сиротство, проявление художественных склонностей – к музыке и театру, овладение творческой профессией режиссера-документалиста, работа на Киевской киностудии им. А.Довженко.
Начало ВОВ круто изменило судьбу Петра Петровича. Без колебаний отказавшись от брони, он стал рядовым бойцом 264-й стрелковой дивизии. Вскоре она попала в окружение. Взяв на себя руководство вместо павших командиров, он, после четырех суток блужданий по немецким тылам, получив при этом осколочное ранение ноги, вывел остатки батальона на восточный берег Днепра. Это была первая репетиция будущей партизанской эпопеи. Выйдя из лазарета, Петр Петрович возглавил бригаду военных корреспондентов, отсюда попал в разведку, а в июне 1942 г. был заброшен с радисткой и помощником в освобожденный от немцев «партизанский край» Брянского фронта. Несколько месяцев спустя его разведгруппа влилась в Первое украинское партизанское соединение С.А.Ковпака, где Петр Петрович в короткое время становится одним из руководителей. Начался стремительный взлет к вершинам военной карьеры от рядового солдата до опытного партизанского полководца, генерал-майора, Героя Советского Союза, командующего Первой партизанской дивизией […].
На последнем витке ВОВ напомнили о себе художественные склонности. В крестьянской хате при свете керосиновой лампы он работал над своей первой и лучшей книгой «Люди с чистой совестью».
Она вышла в свет в 1946 г., имела оглушительный успех, была удостоена Государственной премии за 1947 г., внесена в список экранизаций на его родной Киевской киностудии, дала и множество жизненных привилегий: большую квартиру в доме писателей в Лаврушинском переулке, госдачу в Переделкино.
Тем более трагическим стал крутой поворот в судьбе, начавшийся два года спустя. По личному указанию Генсека Сталина книгу вычеркнули из кинопроектов: крамолу обнаружили в теоретических высказываниях писателя, в его взглядах на задачи литературы о войне. Он был среди тех, кто считал, что победа в ВОВ была достигнута вовсе не гением Сталина, а подвигом народа, что настоящую правду об этом могут сказать «бывалые люди», участники войны, а не беллетристы, кабинетные краснобаи… Он предвидел, сколь тернистым будет творческий путь, на который ступил, и писал в Предисловии к книге: «Была лишь одна трудность – найти в себе мужество говорить обо всем только правду»[…].
Противостояние писателя и власти проявилось и в других вопросах. П.П.Вершигора занял независимую позицию в так называемом «деле о Винницком подполье». Он встал на защиту чести украинских партизан, чей подвиг был описан в документальной повести Героя Советского Союза Д.Медведева «На берегах Южного Буга» (1952 г.). Автор, подвергшийся травле со стороны органов КГБ и официальной прессы, скоропостижно скончался в возрасте 56 лет […].
В 4-й главе события переносятся на десятилетие вперед, в 1958 г. Автор, молодой журналист, встречается с именитым писателем далеко от Москвы, на Волге, куда оба прибыли в качестве корреспондентов «Литературной газеты» для совместных репортажей о торжественном открытии Куйбышевской ГЭС […] Трудная судьба главной книги Вершигоры «Люди с чистой совестью», его писательского успеха и источника всех его житейских бед, созвучна драматизму исторического момента открытия величественного сооружения на Волге, которое одновременно было чудом техники, инженерной мысли, народного героического труда, но и актом насилия над природой, жертвоприношением. И этого не мог не почувствовать Хрущев, человек из народа, одаренный умом и смелостью, но невежественный и самоуверенный, к тому времени уже не только борец с культом личности Сталина, но и автор нелепой кукурузной кампании, и гонитель передовой художественной интеллигенции, и паяц на международной политической арене. В очерке мы видим его растерянным триумфатором, ощущающим всю трагическую двусмысленность победы человека над великой русской рекой, матушкой Волгой. […].
Соединение двух тем – судьбы народной и судьбы человеческой – сложная художественная задача[…]. Полон глубокого смысла заключительный аккорд повествования в итоговой 11-й главе. События перенесены здесь в осень 1964 года, когда свергли Хрущева. Позади осталось послевоенное десятилетие, сменилось политическое руководство страны, ушел из жизни Вершигора.
Что оставили после себя для народа и истории главные герои? Н.С.Хрущев – репутацию разрушителя культа личности, но при этом реформатора-сумасброда, чье имя уже той же роковой для него октябрьской осенью 64-го года издевательской надписью мелом маячило на борту старой ржавой баржи на волжском корабельном кладбище – судов, сданных в утиль.
Партизанский полководец и писатель Вершигора – книги о народном подвиге […].
Авторская повествовательная манера захватывает: факты, характеристики, жанровые сценки, диалоги и пейзажные зарисовки, экскурсы в прошлое, величественные картины монументальной стройки, описания грандиозных инженерных сооружений и хитросплетения политических интриг искусно соединены в единый сюжет о драматической судьбе легендарного партизана-писателя, художника-воина, прожившего короткую, но достойную жизнь.
Что касается дальнейшей судьбы Вершигоры, то он добился обещания Хрущева об аудиенции в Москве, где его проблемы вскоре были решены. Благодаря этому писатель с новым энтузиазмом вновь взялся за перо и в последние пять лет жизни успел написать документальную повесть «Рейд на Сан и Вислу» (1959 г.), роман «Дом родной» (1962 г.), исторический очерк «Партизанские рейды» (в соавторстве с В.Зеболовым, 1962 г.). Даже в самые тяжелые времена он не оставлял творческой работы: преподавал в Академии Генштаба Советской Армии и писал большое исследование «Военное творчество народных масс», опубликованное в 1961 г.
В очерке журнала «Дружба народов» брянские читатели разных поколений найдут для себя особенно много интересного: ветераны – правду о героическом прошлом, об историческом подвиге народа в борьбе с фашизмом, молодежь – впечатляющий пример верности призванию и гражданскому долгу, и те и другие встретятся со своим знаменитым земляком, уроженцем Бежицы, сыном сталевара, Героем Советского Союза Д.Медведевым, автором повестей «Это было под Ровно», «На берегах Южного Буга», пьесы «Сильные духом».
История писателя-генерала Петра Вершигоры многими нитями связана с Брянщиной. Он любил этот уголок России, откуда начинались его фронтовые дороги […].
* * *
Вернемся теперь к дальнейшему рассказу о военной судьбе безрукого разведчика – парашютиста Володи Зеболова и его отношениям с будущим комдивом и писателем Вершигорой. В густонаселенной документальной книге «Люди с чистой совестью» многое названо напрямую, о другом догадываешься из контекста.
В трагикомические тона окрашены сцены первого парашютного задания Володи Зеболова, когда самой судьбе заблагорассудилось снова свести их с Вершигорой.
Юношу с радисткой после окончания разведшколы должны были сбросить на парашютах в районе, занятом немцами. Но самолетный штурман в сложных условиях полета «недовернул» больше чем на сотню километров. И парашютисты приземлились в Брянских лесах, в самой гуще партизанского края, притом в разных местах.
Юношу окружили бойцы самообороны. «Приземлившись у ветряка и увидев бегущих к нему вооруженных людей, Зеболов решил, что он попал в руки противника. Быстро отстегнув стропы, он отбежал в картофельное поле и залег. Партизаны оцепили белое пятно парашюта. Пока они возились с ним, Зеболов успел отползти дальше… Зная, что под «Бахмачем» никаких партизан нет, и слыша русские окрики, парень решил, что попал в лапы полиции. «Все кончено», – подумал он и бросил гранату себе под ноги. Партизаны кинулись врассыпную, но она не взорвалась. Очевидно, какой-то из «пальцев» на руке Зеболова, смастеренный руками хирурга, все же действовал плохо…».
Хорошо, что об этих событиях узнал Вершигора, случившийся неподалеку. Он нашел Володю под охраной, лежащим на земле, связанным, избитым. Своего недавнего сотоварища по разведшколе взял на поруки. «Зеболов после этого пристал ко мне, – заключает Вершигора. – Со мной он пришел к Ковпаку».
При добродушии и нежности к друзьям Вершигора, если требовалось, был человек жесткий и решительный. Уже в наши дни, в 2005 году, это по-своему дал ощутить посетителю музей Российской армии в Москве. Среди множества других разнообразных экспонатов юбилейного года он представил и мини-выставку документальных фотографий Вершигоры поры войны. Один из посетителей, пожелавший укрыться за псевдонимом Babay, поместил отзыв об увиденном в интернетовском разделе «club. foto. ru».
Привожу его здесь. «На мой взгляд, – пишет автор, – самый великий фотограф вообще всей 2-й мировой войны – это Петр Петрович Вершигора. Да, генерал – майор, да, Герой Советского Союза. Да! А кто-нибудь видел его серию из трех снимков «Допрос и расстрел полицая»? Снято жестко, даже жестоко. Снято профессионалом – Вершигора все же имел диплом кинорежиссера. Но допрос вел он. Решение о расстреле принимал он. И это не были снимки палача, типа, как один американец – снайпер на винтовке во Вьетнаме установил фотик и снимал расстрел и с задержкой падающего человека. Нет! Всего три кадра в серии. Запутавшийся человек, тут цитирую книгу Вершигоры: «Усю Расею германец омманул» («Люди с чистой совестью»), потом осознание вины перед расстрелом: «Скажите, что Никифор подох как собака», а потом этот Никифор в могиле глубиной в полтора штыка лопаты, я для кота больше вырыл. И вторая серия Вершигоры – замерзшие трупы убитых еврейских детей. Просто лежат. Глаза открыты… А у кого на щечке замерзшая струйка, а кто просто как фарфоровая кукла лежит…